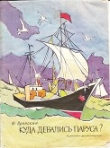Текст книги "Шелестят паруса кораблей"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
НАВОДНЕНИЕ
С вечера и всю ночь дуло порывами. Было слышно, как на Неве бурлили волны, перехлестывая брызгами и пеной через парапет. На мостовых уже стояли лужи. Ветер придавал им вид неспокойный и необычный.
Утром Евдокия Степановна, как всегда деятельная, старалась не шуметь. Она успела осторожно заглянуть в кабинет и, увидев, что муж углубился в бумаги, решила его не беспокоить: из адмиралтейства курьеров не было, можно было надеяться, что в такую погоду Василий Михайлович задержится дома.
Но ее надеждам не суждено было исполниться. Еще до утреннего чая к ней торопливо вбежала горничная и тревожным шепотом сообщила:
– Барыня, вода!
– Какая вода?
– По двору все залило. Дрова из подвалов вынесло...
– Что ты мелешь? – рассердилась Евдокия Степановна. – Как это дрова вынесло?
– А вы в окошко выгляните.
Евдокия Степановна отдернула тяжелую занавеску, выглянула на двор и, забыв, что еще в пеньюаре, вбежала в кабинет:
– Василий Михайлович! Ты видел? – Но тут же осеклась.
Головнин стоял у окошка и смотрел на улицу.
– Дуня, детей надо наверх! А где Феопемпт? Конечно, у Завалишина. Пусть кучер скачет, пока есть возможность, в адмиралтейство. Надо вызвать шлюпку.
– Василий Михайлович, что же это делается?
– Наводнение. Это такое бедствие!.. Корабли, недостроенные корпуса, лодки, все может унести в море!
Вода во дворе поднималась все выше, подбираясь к окнам. Ветер порывами хлестал в стекла. Прислуга и денщик Григорьев поспешно, кое-как хватая, несли вещи наверх. Сам Головнин в библиотеке освобождал от книг нижние полки. Забыли о завтраке, о чае. Наверху истошно плакал ребенок.
Григорьев успел немного успокоиться, и голос его раздавался увереннее. Он велел горничным одежду носить на чердак, а мелкие вещи класть на столы, шкапы и даже на верх печей. Так дело пошло скорее.
К Головнину пришли какие-то матросы. Подвернув брюки, они побрели обратно по колено в воде. За ними пришли другие. Что-то докладывали и уходили. Наконец с трудом вошла во двор адмиралтейская шлюпка, и Василий Михайлович надел шинель и высокие сапоги.
Евдокия Степановна не удерживала мужа. Она понимала, что он всем сердцем там, где подвергаются опасности плоды его трудов.
– Я пришлю вам лодку и людей, – сказал он, целуя жену. – Будь мужественна!
– О себе сообщай, – взмолилась она.
– Хорошо, хорошо! Не век же это будет продолжаться.
Головнин вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Растерянная Евдокия Степановна осталась в передней. Судьба мужа не зависела от ее забот. Мысли ее обратились к брату Феопемпту, который после возвращения из плавания снова жил с ними. Она вспомнила, что он собирался к жившему поблизости, тоже только что вернувшемуся из двухлетнего похода лейтенанту Завалишину.
– Григорьев, – позвала она. – Надо послать вестового к Завалишину. Там ли Феопемпт? Да поскорее, пожалуйста.
Через полчаса вестовой вернулся.
– Думал, не вернусь, – докладывал он. – Такое на улице!..
– Ладно... Расскажешь. А где брат?
– Их нет. Они ушли в адмиралтейство.
– Как ушли? По воде? Пешком?
– Так точно.
Евдокия Степановна только развела руками. Но и в собственном доме дел было тьма. Она носилась по лестницам, спасала платье, обувь, посуду, эти тысячи мелочей, составляющих хозяйство, незаметных в обычное время и неудобных, ломких, бьющихся в часы переполоха. И только после полудня, когда стало ясно, что подъем воды на Неве прекратился, пришла в себя.
И тут мысли ее вновь обратились к мужу.
– Григорьев, лодка у нас есть?
– Так точно. Генерал прислали.
– И гребцы есть?
– А как же.
– Ты останешься дома, а я поеду.
– Куда вы поедете?
– В адмиралтейство. Не могу я так. Собери пакет с едой. Бутылку с кофе.
Григорьев стоял истуканом и только смотрел на барыню.
– Скорей же, пожалуйста!
– Никуды вы не поедете. Да если я вас отпущу, генерал... не знаю, что со мной сделает.
Евдокия Степановна прикрикнула:
– Делай, что приказано!
Она смотрела на него с гневом. Григорьев стоял неподвижно под ее вдруг засверкавшим взором.
– Хорошо, – наконец сказала генеральша. Голос ее срывался, руки дрожали. – Обойдусь без тебя. – Она рванулась к лестнице на кухню.
Григорьев преградил ей дорогу:
– Ладно уж. Только я сам с вами поеду. Посмотрю пойду лодку. Постелить что-то надо. А вы извольте тепло одеться. Зима небось. Даром что нет снега.
Горничная Саша испуганными глазами смотрела на барыню, часто крестясь и что-то пришептывая.
– А ты что? – напустилась на нее Евдокия Степановна.
– Барыня, не ездите, – залопотала Саша. – Потонете. Монашка говорила.
– Какая монашка?
– Что на Спаса приходила. Говорила, бог прогневался на город – быть ему пусту.
Евдокия Степановна сердито оборвала девушку, но, помолчав немного, уже спокойно сказала:
– Ты это при генерале не вздумай сказать, если не хочешь заработать на орехи. – И стала смотреть в окно. – Господи, что вокруг делается! Чья-то лодка набита людьми. И старики и дети. И куда они едут? И раздетые... Они же простудятся. Маша, Саша, давайте что лишнее! Одежду... Несите в лодку. И хлеба, мяса, что есть...
Она была захвачена сочувствием к пострадавшим.
Лодка, нагруженная одеждой, гонимая свирепым ветром, вышла на улицу, потом на набережную. Высокие волны с рваными, пенистыми гребнями взрыли всю поверхность реки. На открытом, не защищенном зданиями месте ветер неистовствовал. Гребцы повели лодку к адмиралтейству улицами.
У самого адмиралтейства не было проезда. Здесь скопилось множество лодок. Несколько небольших кораблей, выброшенных на берег штормом, лежали на боку, мачтами задевая крыши. Военные шлюпки и конные патрули не пропускали частные лодки к Дворцовой площади.
Наряды матросов и солдат на катерах и многовесельных шлюпках подбирали мальчишек, забравшихся на деревья. Кто-то плыл, как на плоту, на сорванных воротах. Какие-то смельчаки, большей частью военные, офицеры, держась за стены и заборы, пробирались к семьям, к местам службы.
– Все попростужаются, – сочувствовала Евдокия Степановна. Если бы она могла, она подобрала бы всех, но душа ее тосковала больше всего по мужу.
– Куда вы? В такую погоду? – раздался знакомый голос.
Высокий худой офицер кричал ей с затопленного тротуара. Это был один из братьев Кюхельбекеров, бывавших в доме Головнина. Порывом ветра у него сорвало фуражку. Один из матросов веслом пригнал ее к борту лодки и вытащил из воды.
– Садитесь, мы довезем вас... – позвала Евдокия Степановна.
Но Кюхельбекер быстро, насколько позволяли ему волны, зашагал по воде к Дворцовой площади. Он размахивал рукой, что-то кричал. Разобрать было невозможно: ветер относил слова в сторону.
На всем просторе реки и улиц, холодная, злая, бесновалась буря. Она срывала шелестевшие жестью фонари, как картон срывала листы железа с крыш. На волнах качались бочки, доски, трупы утонувших животных. Носились какие-то изуродованные домашние предметы.
– Барыня, – сказал рулевой, – вода начинает спадать. Как бы нам не сесть на мель.
Головнина испугалась. До мужа не добраться. Дома дети. Она передала на большую военную шлюпку все свои запасы и направилась домой.
– Ради создателя, – умоляла она, – ни слова генералу о том, что мы выезжали на шлюпке.
Тревога долго не оставляла ее. Но к вечеру Нева присмирела. Город приходил в себя.
Василий Михайлович, прибыв в адмиралтейство, пережил один из самых трагических моментов своей жизни. По положенным наспех доскам он поднялся на помост, с которого была видна картина разрушений. Еще не достроенные суда лежали на боку, наполовину в воде, посреди строительного материала, хаотически вздыбленного ворвавшейся стихией.
Он молча выслушал жалобы и объяснения начальника работ. Что, в сущности, мог ему сказать этот взволнованный и огорченный человек?
Мало-помалу Головнин освобождался от первых ощущений этой оглушающей картины стихийного разрушения. В нем оживал деловой ум организатора, начальника, отвечающего за все.
Наводнение ворвалось в жизнь столицы, как пенная штормовая волна врывается на палубу корабля, делая ее ареной роковых и необоримых сил. Размеры бедствия выявлялись не сразу. Каждый час приносил новые вести о причиненных несчастиях.
В памяти стариков еще живы были страшные дни наводнения 1777 года. Тогда вода затопила большую часть города. Фонтанка, Мойка, каналы вышли из берегов. Даже крепкой кирпичной кладки церковь в Галерной гавани была повреждена, а унесенные водою дома насчитывались десятками. Корабли, стоявшие у набережных Невы, бросало из стороны в сторону, они попадали на мель и превращались в обломки, теряя мачты и такелаж. Сорок семь пушек Кронштадтской крепости были снесены с места, повреждены, избиты, несмотря на свою многопудовую устойчивость.
Но бедствия, причиненные наводнением 1824 года, далеко превзошли наводнения екатерининских времен. Только в одном Кронштадте были разрушены двести тридцать казенных и частных домов. При этом в воде нашли свой конец семьдесят шесть человек.
С волнением рассказывал Головниным обо всех этих бедствиях приехавший в Петербург Рикорд.
– Казалось, что весь остров уходит в морскую пучину. Вода смывала не только обыкновенные дома, но и крепостные валы. За Петербургскими воротами снесло пеньковый магазин.
– Невозможно было выйти на улицу, – вторила мужу Людмила Ивановна. – Я не могла смотреть, как падали под ударами ветра и подхватывались волнами дети и женщины. Нет, никогда не забыть этой картины!
– Больше ста кораблей были в тот день в Кронштадтских гаванях. Вряд ли уцелел из них десяток, – продолжал Рикорд. – Канаты не выдерживали. Корабли срывало с места, они носились по гавани, сшибались, превращали в уродливый лом мелкие суда. Волны швыряли их друг на друга, разбивая в щепы. Словом, тебе, Василий Михайлович, предстоит начинать все сначала.
Головнин молчал. Он мог бы рассказать о разрушениях в адмиралтействе, но не находил слов. Это были не просто корабли, фрегаты, бриги. Это были его дела, его детища. Никакое побоище, никакое поражение не могло по своим последствиям сравниться с этим стихийным бедствием.
Предстояло действительно начинать сначала. Одна уборка обломков, прочно засевших на мелях, и выброшенных на набережные разбитых судов будет тянуться месяцы, а то и годы. Вскоре наступят морозы, скуют льдом и обломки, и бревна, и щепу. Даже снег не сразу укроет эту картину разрушений.
А народ, населявший гавань и острова, потерявший и кров, и имущество, с ужасом ждал первых морозов запоздавшей зимы, не менее грозной для них, чем наводнение.
Большинство столичных представителей власти после наводнения сразу же приступили к обсуждению его последствий. А сам миропомазанный монарх больше и сильнее переживал, так сказать, его мистическую сторону. Если бог царит всевластно и всеразумно где-то там, на небесах, откуда нисходят вихри и бури, светит солнце и падают на землю град и иссушающая жара, – то и это бедствие послано на землю его волей, перед которой остается склониться и рабу, и помазаннику.
В свой черед предстали перед Александром с докладом управляющий морским министерством фон Моллер и Головнин, приглашенный по личному приказу царя.
– Как ни горько это сообщать, – начал Головнин, – но начатые с соизволения вашего величества первые шаги по восстановлению отечественного флота если не сведены на нет стихийным бедствием, то во многих случаях возвращены к исходному положению.
– Бог не благословил твою деятельность, генерал, – произнес император, глядя в дальний угол обширного кабинета.
Головнин продолжал, игнорируя и смысл, и тон этой сентенции:
– Встает задача с удвоенной силой трудиться над созданием отечественного флота, для чего я всеподданнейше ходатайствую о новых кредитах в размере...
Глаза Александра приобрели оловянный оттенок, который был свойствен всем детям Павла I и свидетельствовал о наступавшем внутреннем ожесточении. (Аракчеев лучше других умел угадывать эти приступы и пользовался ими с ловкостью гипнотизера.)
– Я ценю твою настойчивость и преданность делу, – перебил Головнина император, – но сильно опасаюсь, что после понесенных потерь будет возможно остаться в пределах прежних планов.
– Совершенно верно, ваше величество. Сами стихии указывают нам новый путь. Если начинать снова, то с более решительными усилиями. С новой мыслью.
– Что ты имеешь в виду, генерал?
Стоявший, подобно облаченной в мундир кукле, Моллер вздернул плечами, но тут же принял обычную почтительную позу. Он ведь предупреждал, что этот путешественник – своеобразная фигура.
– Вашему величеству, разумеется, известно, что в семьсот девяносто девятом году первый в мире английский королевский флот потерпел сокрушительное поражение от самого молодого американского флота, состоявшего всего из шести фрегатов и нескольких мелких судов. И притом не в американских, а в английских водах. Один американский фрегат взял в плен английские суда «Гербер» и «Ява», другие овладели «Македонией», корветом «Васп» и бригом «Фролик».
– Чему же ты приписываешь такой успех?
– Американские суда были больше, новее, лучше вооружены. Огонь американцев был меток и быстр. Мореходная наука находилась на новом рубеже.
Моллер счел уместным вставить слово:
– Идет спор, ваше величество, – паруса или пар? Генералу уже было кое-что разрешено, но он хочет теперь крутого перелома.
– Паруса или пар? – невольно повторил император. – Твое мнение, генерал?
– Мыслю, спора нет. Паруса сказали свое слово, а пар...
– А пар – это только лепет, – опять не выдержал Моллер. – Пар движет, притом по рельсам, всего лишь телегу. По воде – небольшую лодку. Но какие же огнедышащие машины надо сооружать, чтобы двигать огромные фрегаты, линейные корабли?
Ногти Головнина впились в ладони. И лишь выработанная твердая воля помогла ему сохранить выдержку.
– Ваше величество, финикияне и греки ставили косой парус, который тоже способен был двигать только лодку. Стопушечный линейный корабль вашего величества «Павел Первый» несет целую систему парусов. Император Наполеон с презрением отвернулся от дымной, дурно пахнущей лодки Фультона. А если бы у него хватило дара предвидения, он завоевал бы Англию.
Брови Александра сдвинулись, образуя как бы навес над ушедшими в глубину глазами.
«До чего договорится этот мореход?» – про себя кипятился Моллер. Он готов был дернуть Головнина за рукав, вопреки строгим заповедям дворцового этикета.
– Державе, которая первой начнет широкое строительство флота на новой основе, принадлежит будущее! – твердо произнес Головнин.
– Ты мыслишь смело... как и подобает человеку твоего опыта и твоих заслуг, – сказал, поднимаясь, монарх.
Аудиенция окончилась.
Но в последнюю минуту Александр сообразил: зачем делать из этого прославленного моряка скрытого врага?
– Твой план глубоко заинтересовал меня. Он будет внимательно и со всей благожелательностью рассмотрен в адмиралтейств-совете и доложен мне.
Говоря это, Александр смотрел мимо почтительно склонившихся перед ним собеседников.
Моллер вышел первым, явно недовольный. Про себя бранил глупую затею свести Головнина с монархом. Все дело в том, что этот человек привык играть не по правилам. Это оригинально, но рискованно.
Выйдя из дворца, он через плечо бросил:
– Как это вы еще не упомянули в беседе с его величеством название победоносного американского рейдера?
– Я не помню его, ваше превосходительство.
– «Конституция», – едко произнес Моллер. – Прошу завтра ко мне в адмиралтейство, к одиннадцати.
Головнин козырнул, не сказав даже: «Слушаюсь, ваше превосходительство!»
Дома, на Галерной, со всеми признаками нетерпения, его ожидал Завалишин. Но Головнин прошел прямо в кабинет, на ходу бросив:
– Дуня! Квасу, холодного!
Евдокия Степановна поняла: взволнован!
– Можно поздравить? – спросил Завалишин, входя в кабинет.
– С чем? – спросил, сбрасывая мундир, Василий Михайлович.
– Вы еще спрашиваете! Договорились?
– С царями не договариваются, – сказал тоже ожидавший Головнина Рикорд. – Принято повергать свои дела и ходатайства к стопам монарха на высочайшее благоусмотрение. Так-то, лейтенант!
– Господа адмиралы! При всем моем уважении к вам я, простой лейтенант...
– Положим, не простой, – перебил его Рикорд. – И мы еще не адмиралы. Вы же – трам-тарарам! У вас родня – вся знать с Английской набережной и Миллионной... трам-тарарам!
Завалишин хотел было запротестовать, но Рикорд не дал:
– Да, с Миллионной, улицы салонной. Сами вы без пяти минут граф. И потом вы, говорят, в личной переписке с самим государем.
Завалишин, который хотел было взорваться, вдруг, как это с ним бывало не раз, сник. Разводя руками, он сказал:
– Я ничего не понимаю. Я начинаю думать, что Василий Михайлович прав.
Рикорд вопросительно смотрел на Головнина.
– Василий Михайлович уверен, что государь меня вообще не примет.
Рикорд рассмеялся с открытой итальянской веселостью:
– А знаете, лейтенант, за годы совместных с Василием Михайловичем путешествий я убедился, что он удивительно удачно предсказывает погоду.
Но к Завалишину уже вернулась его почти мальчишеская уверенность.
– Я хотел было рассказать вам, как мы с Михаилом Кюхельбекером спасли семьсот человек.
– Даже в Кронштадте это уже известно, лейтенант! Честь вам и хвала. А царь вас все-таки не принял и не примет.
– Чем хуже, тем лучше, господа!
Завалишин сорвал с вешалки шинель, схватил белые перчатки.
– Куда, на бал? – опять не выдержал Рикорд.
– Вы любите посмеяться надо мной, но это меня не задевает. Я убежден, настанет день, когда вы скажете: «Дмитрий Иринархович, я не знал вас по-настоящему!»
Рикорд смотрел на это открытое, изменчивое лицо. Глаза его на секунду лишились веселого блеска.
– Что же, может быть, может быть...
Лихо козырнув, Завалишин исчез за дверью.
ДВОРЕЦ МОЛЧИТ
Два года тому назад, в 1822 году, Завалишин отправился в кругосветный поход на фрегате «Крейсер», которым командовал Михаил Петрович Лазарев.
Еще из Лондона Завалишин написал письмо Александру I в Верону, где происходил тогда очередной Европейский конгресс победителей. Наполеона. Получив уже в русско-американских владениях вежливый ответ царя с приглашением посетить Зимний дворец, Завалишин только и говорил о предстоящем свидании. Он ни на минуту не сомневался в искренности, а следовательно, и в глубокой заинтересованности монарха.
Неизвестно, чего было больше в этом молодом человеке– самоуверенности или наивности. Впрочем, эти два качества нередко отлично уживаются в одном человеке.
Пройдя три океана, посетив Русскую Америку, Завалишин преисполнился новыми впечатлениями, а заодно и вновь возникшими идеями, которыми счел нужным, в дополнение к мыслям, содержавшимся в его первом письме, поделиться с царем.
В Охотске Завалишин сел в кибитку и помчался через бескрайнюю Сибирь в столицу.
Наблюдения в Русской Америке привели его к мысли, что вопрос о дальнейшей судьбе и развитии этих обширных земель надо решать неотложно и основательно. Либо Россия завладеет всей северной неиспанской частью американского побережья Тихого океана, либо она должна уйти из Америки вовсе.
Проехав в кибитке Сибирь, Завалишин, как он сам говорил, «вложил персты в раны». К вопросу о колониях прибавился еще один – состояние и судьба этой огромной части страны.
Со всей горячностью юных лет он выслушивал всех, кто, принимая его за персону важную и облеченную полномочиями, молил повергнуть к стопам царя их письменные и устные просьбы и жалобы. Страшную повесть о нищете и бесправии несли эти слезные рассказы.
Завалишин не уставал внимательно выслушивать просителей и жалобщиков, вел запись бесед. Оставаясь один, он группировал жалобы по городам, губерниям и вопросам, уверенный в том, что делает большое государственное дело.
Он проехал только часть пути, но его уже нельзя было ничем удивить. Обширный и богатый край был поражен язвой бесправия и казнокрадства. Он был отдан в руки чиновных насильников, отделенных от верховной власти неодолимыми пространствами и круговой порукой.
От города до города надо было ехать неделями, от поселка до поселка – сутками. Времени на раздумья хватало. Везде царил внешний покой. Величие и первозданность сопрягались в единое целое, имя которому оставалось одно – Сибирь. На паромах или по льду он пересекал могучие реки, равных которым не было в Европе.
Он наносил визиты губернаторам и городничим. Самоуверенность этого молодого человека наводила местных сатрапов на подозрения, но Завалишин уже усвоил правило – оглушать их письмом самого царя, вежливо приглашавшего юного флотского офицера в Зимний дворец.
Местное начальство пожимало плечами. Черт его знает, что за птица! Ничем не корыстуется, ничего, кроме свежих лошадей, не просит, не требует. К намекам глух. О столичных персонах говорит как о равных. И одно только подозрительно – все свободное время, даже у церкви, у бани, у крыльца губернского или уездного управления, с записной книжкой в руках с необычайным терпением пишет и пишет, а что пишет – неизвестно.
Кончилась подобная зеленому океану тайга, прошли скучные бескрайние степи, мягкие холмы и глубокие реки Урала. Сибирский говор ямщиков сменился волжским оканьем.
Даже родной Симбирск, даже златоглавая Москва не задержали путешественника. Он рвался в столицу. В столице – Зимний дворец. Во дворце – царь. О, сколько он должен рассказать монарху, одного слова которого достаточно, чтобы встряхнуть, оживить, осчастливить страну.
Сутками покачиваясь в кибитке, он искал, находил и записывал наиболее убедительную форму для будущих доверительных бесед с Александром.
И вот – столичная застава. Полосатые будки, дома, соборы. Затянувшаяся осень, черная вода Обводного и, наконец, Галерная. Свои дорожные мысли Завалишин в первую голову обрушил на Василия Михайловича.
Головнин, дважды побывавший в российско-американских владениях и основательно изучивший положение в этой отдаленной части земного шара, выслушал юного прожектера не перебивая. Его уже не поражала легкость суждений лейтенанта, с плеча рубившего большие и малые гордиевы узлы и убежденного в том, что его доводы .неотразимы и что все, от императора до канцеляриста, живут по законам его, завалишинской, логики.
Многое из рассуждений Завалишина напоминало Головнину его собственные мысли и рассуждения. В свое время он трудолюбиво привел в порядок все свои дальневосточные впечатления, сделал все, что только мог, чтобы заинтересовать ими учреждения, комиссии, департаменты столицы, но ничего, кроме лестных слов в свой адрес, не достиг.
А этот юноша считает, что его наблюдения и соображения будут подобны взрыву пороховой бочки, а то и целой крюйт-камеры. По его рассказам, он торопился в столицу через бесконечную Сибирь, вместо того чтобы совершить более удобный вояж на одном из судов Российско-Американской компании, исключительно из политических и государственных соображений.
О молодость! Разве она может познать и оценить силу и упорство зла! Мимо ушей пропускает она скептические намеки людей опыта и разочарований... Каждое новое поколение считает, что время отцов и дедов, уходя, уносит нравы и обычаи, от которых одуряюще несет застойным запахом праха. Оно полагает, что именно с ним нисходит в мир благословенное, долгожданное царство правды и разума.
Завалишин был убежден не только в силе и правильности своих наблюдений, но и в убедительности и неотразимости своих выводов. Получив приглашение ко двору, он еще больше убедился в своем предназначении. Это он усмотрел необходимость перемен, он описал со спокойной ясностью, подобающей государственному мужу, болезни страны, которую проехал из конца в конец и о которой прочел все, что было написано до него. С той же ясной, спокойной убедительностью он указал путь оздоровления. Надо быть безумцем, чтобы не воспользоваться так легко идущими в руки мудрыми советами, тем более что сам советчик готов отдать все свой силы для последовательного выполнения подсказанных им предначертаний.
Голова Завалишина действительно была начинена рядом мыслей, достойных недюжинного государственного деятеля, а сердце – глубокой верой в их неотразимость.
Между тем шли дни за днями, а из Зимнего дворца не было, как говорится, ни ответа, ни привета.
– Это все проклятое наводнение! – успокаивал и утешал себя Завалишин.
– Кое-кто за это наводнение благодарит бога. Пудовые свечки ставит, – говорил повзрослевший, также вернувшийся из второго путешествия Феопемпт.
– Как это? – удивлялась Евдокия Степановна. – Такое горе, столько беды, а ты говоришь – благодарят бога.
– Говорят, в Зимнем после наводнения до сих пор не могут опомниться. По примеру царя считают его божьим наказанием. Попам, кликушам раздолье. Совесть нечиста! – раздражался Завалишин. – Вот и получается: вместо дела – одни молитвы.
– Напрасно так говорите, – останавливала его хозяйка. – Нечего бога гневить.
Но Завалишин говорил еще резче:
– Вместо возни с монахами да богомольцами надо бы делом заняться. Всюду люди не те. Не тем занимаются. Для всех уже, кажется, ясно, что положение стало нестерпимым. Казнокрадство доведено у нас до узаконенного состояния... И я не побоюсь прямо обо всем сказать государю! – горячился Завалишин. – Только бы он меня принял.
– Да вот примет ли? В этом вся штука, – скептически размышлял более трезво настроенный Феопемпт.– Василий Михайлович ведь уже предсказал тебе, что не примет.
– Ну, если не примет, – тогда...
– Что тогда?
– Увидите! – загадочно бросил Завалишин и, попрощавшись, ушел.
Наивный Завалишин не знал, что царь ответил ему по подсказке Аракчеева. Можно было отказать и сразу поставить юношу на место. Но у Аракчеева был свой расчет. Теперь этот вольнодумец и опасный прожектер – на уздечке ожидания, и за ним легко будет следить.