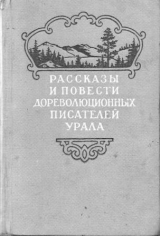
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
– А что же Аликай?
– Он тоже прожил недолго. По рассказам, значительную часть своих сокровищ он роздал народу. Но вскоре и его постигла божия кара: захворала и умерла его любовница, жена Золина. Схоронив ее под камнем, Аликай поседел в одну ночь и целые сутки лежал на ее могиле, как мертвый, потом распустил шайку, щедро наделил ее деньгами, остальное зарыл, затем поднялся на вершину, бросился вниз и разбился о камни.
– Гм!.. Да, были нравы!– сказал генерал и поднялся с места.
– Да, было да прошло... и слава богу!..
VI
Слегка прихрамывая на левую ногу, генерал вышел из палатки. За ним потянулось все общество.
– Какая прелесть! – сказал он, осматриваясь кругом.
– Да, да!.. прелестно!..
Дамы кокетливо взвизгивали, заглядывая в пропасть, на дне которой белели крупные и мелкие камни и чернела узкая излучина реки.
– Ух, костей не соберешь!.. Ринуться с такой высоты – это ужасно!
– А ночь-то, ночь!.. Ваше превосходительство, посмотрите, от росы луг кажется белым...
– А слышите, как журчит река... она точно лепечет о чем-то...
Горевший неподалеку костер то вспыхивал ярким пламенем, освещая колеблющимся светом деревья и камни, то разливал вокруг себя ровный, багрово зловещий свет. Около него копошились подростки и прислуга, приготовлявшая ужин. На вышке скалы опять хором запели песню, от которой все ожило, и мерцавшая в лунном сиянии даль получила какой-то загадочный смысл.
– Очень, очень мило,– говорил генерал.– Это молодежь поет? Очень, очень мило!..
– У нас иногда составляется большой хор... Сегодня еще не все.
Конюхов, заложив за спину руки, длинный и прямой, как палка, стоял почти у самого обрыва и смотрел вдаль своими бесцветными оловянными глазами.
– Дядя просил передать вам,– обратилась к нему Катя,– что записка готова, остается только переписать.
Конюхов, не меняя позы и все смотря куда-то вдаль, слегка качнул головой в знак того, что он слышит. Это была его обычная манера обращения в разговоре с людьми низшего ранга.
– Завтра или послезавтра перепишут,– прибавила Катя.
– Надо прежде прочесть, что он там написал,– процедил Конюхов сквозь зубы.
– Но дядя хочет подать записку от себя.
Конюхов удивленно приподнял брови, помолчал и, наконец, смотря куда-то вдаль, произнес тем же ровным голосом:
– Старик с ума спятил. Записка должна быть подана от меня. Передайте ему это.
– Пожалуйста, потрудитесь передать ему сами,– сказала Катя сердито и отошла.
Конюхов, не сделав никакого движения, продолжал стоять все в той же позе.
Кто-то нашел большую, засохшую на корню пихту с красной хвоей и поджег ее. Ослепительно белое пламя вихрем взвилось кверху и с шумом обняло дерево, осветив все далеко кругом. Небо вдруг стало темным, луна побледнела. Неожиданно и странно изменилась вся картина, обнаружив невидимые до сих пор подробности: сидящую в траве собаку, белые камни в ложбине, громадного роста сосну по другую сторону рва... Катя заметила внизу, по ту сторону ущелья, недалеко от тропинки, каких-то людей полувоенного вида и между ними в белом кителе офицера. Очевидно, их испугал внезапный свет: они беспокойно задвигались и стали прятаться в низкорослые кусты можжевельника. Пока пламя с ревом пожирало сухую хвою, молодежь в восторге кричала и хлопала в ладоши, подростки визжали, прыгали и кружились вокруг огня. Но хвоя быстро сгорела, свет погас, и только раскаленные сучья слабо светились, жалобно потрескивая, отламываясь и падая вниз. Кругом опять все потемнело, небо стало синим, и на нем с прежнею яркостью светила луна.
Конюхов предложил подняться на самую вершину камня, откуда открывался вид на все четыре стороны. Генерал выразил согласие и, хромая, но стараясь ступать твердо, пошел рядом с ним. Общество зашевелилось, все стали осторожно подниматься вверх по тропинке, по осыпающимся мелким камням, между уродливыми глыбами скал, освещенных луной.
– Подождите! – шепнула Светлицыну Анна Ивановна Конюхова, тихонько касаясь его руки и вглядываясь в его лицо, покрытое черной тенью: – Нам надо поговорить.
Светлицын, нахмурившись, замедлил шаги и пошел вслед за нею. Несколько минут они шли молча, прислушиваясь к удаляющимся голосам гостей. Когда голоса смолкли, Анна Иванова остановилась, прячась в тени.
– Ты сердишься? Да? – сказала она, привлекая его к себе.
Светлицын молчал.
– Ты сердишься и нарочно ухаживаешь за Катей, чтоб позлить меня? да? Но я никогда не поверю, чтоб тебе могла нравиться эта ходячая пропись.
– Почему же?
– Фи!.. Что в ней?
– Она мила, умна, образованна, красива...
– Она невоспитанна, груба... ведет себя, как семинарист в юбке... Но не в этом дело... На что ты сердишься?
– Могу тебя уверить, нисколько.
– Разве я не вижу!.. Надо тебе сказать, что уже все замечают и говорят про нас бог знает что...
– Гм!.. И тебя это беспокоит?
– Еще бы!.. Ты странный человек! Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?
– Ничего... ровно ничего.
– Нельзя же компрометировать себя...
– Конечно!
– С тобой невозможно говорить!.. Мы слишком у всех на виду, и простая осторожность требует, чтоб свидания наши были как можно реже. Ты должен это признать.
– Охотно признаю.
– Перестань!.. Не злись!.. в чем же ты меня обвиняешь?
– Ни в чем... я вполне с тобой согласен...
– Говори тише... везде народ... Тогда в чем же дело?
– Не знаю... кажется, ни в чем.
– Это несносно!.. Пожалуйста, не ломайся!.. Ты ревновал меня к этому уроду – вот в чем дело!.. Не отпирайся, не отпирайся... к этому расслабленному баричу...
– Это к которому же?
– Ах, отстань!.. Ты отлично знаешь, о ком я говорю... Но должен же ты понять, что это нужно было для дела... Мой Петр Саввич такой опехтюй, а тут нужна дипломатия... Нужный человек... как же иначе?.. Он личный секретарь князя.
Светлицын засмеялся.
– Чему ты? – удивилась Анна Ивановна.
– Меня забавляет твоя наивность... как все это просто: нужный человек!..
– Пожалуйста, не продолжай: я наперед знаю, что ты скажешь... Но только это глупости... ведь не влюбилась же я в этого идиота!.. Поухаживал да уехал... экая важность!.. Зато теперь наше положение так прочно, как никогда... Милый мой! ты самых простых вещей не понимаешь, а умный человек... Все так делают... чего тут особенного?.. Надо уметь жить... Ну, не сердись же, милый.
– Ей-богу, я нисколько не сержусь.
– Нет, нет, ты злишься, разве я не вижу?..
Она стала ласкаться к нему, но он вяло и неохотно принимал ее ласки.
– О чем ты думаешь, милый?
– Ни о чем... никаких дум в голове... скоро совсем оглупею, ей-богу. Скука, все надоело... Я серьезно подумываю бежать от вас.
– Как? – удивилась Анна Ивановна.– Бежать? Зачем?.. что значит бежать?
– Так... уехать.
– Куда?
– Куда глаза глядят.
– Какие глупости!
– Не век же мне здесь оставаться... надо жить, работать, учиться, пробивать дорогу... Я еще молод, вся жизнь впереди, а оставаться здесь – значит, заплесневеть, обрасти мохом...
Анна Ивановна вдруг замолчала.
– Скучно здесь,– продолжал Светлицын,– и, знаешь, противно... Удивляюсь, как здесь с ума не сходят... пьяниц много, а сумасшедших нет... удивительно!.. Не жизнь у вас, а тюрьма... и нравы каторжные... Воздуху нет, дышать нечем...
– Ты меня не любишь – вот что! – прошептала Анна Ивановна.– Ты разлюбил меня?
– Не знаю... не в этом дело.
– Нет, в этом, в этом!.. Я не верю тебе... Ни одному твоему слову!.. Чем здесь нехорошо? Чего еще надо?.. Ты можешь сделать карьеру... Скука... но везде скука. Может быть, где-нибудь в Париже... но и там скучают. И что это за вздор: воздуха нет? Какого воздуха?.. Нет, нет! Никуда ты не поедешь!.. Куда? Зачем?.. Как это глупо!.. И не отпущу я тебя, так и знай!..
– Будто? Но к чему тебе меня удерживать?.. Место мое недолго останется пустым, я и теперь тебе почти не нужен.
– Нет, нужен, нужен...
Светлицын пожал плечами. Анна Ивановна неожиданно заплакала.
– Я без тебя жить не могу...
– Какой вздор!.. Перестань, что за новости!..
– Нет, не вздор... не вздор!.. Милый!.. Прости меня. Ну, я виновата... ну, я винюсь перед тобой... чего же еще! Ах, эти идут сюда, противные!.. Отойди от меня... шляются, шляются – нет ни минуты покоя!.. Но видеться нам необходимо сегодня же...
– А где ж его превосходительство?! – пыхтя, как паровик, кричал, поднимавшийся в гору заводский лекарь Ожегов. За ним тяжело тащился земский врач Веретенников. Оба были уже на втором взводе.
– Эки чертовы горы! – пробасил Веретенников и плюхнулся на землю в совершенном изнеможении.– Уф!.. больше не могу!.. ноги подкашиваются... сердце стучит, как молот... А где же генерал и прочие?
– Впереди. Мы идем на вершину камня.
– Добре, добре!.. А мы с Иваном Осиповичем клад искали... черт знает! И ведь не нашли!.. И свечку видели, и солдата на часах, а клада нет как нет!.. Отложили до другого раза.
– Да, не везет нам,– вздохнув, подтвердил Ожегов и сел рядом с Веретенниковым.– Ну и хорошо же, черт побери!..
– Вы не пойдете дальше? – спросила Анна Ивановна.
– Нет, куда тут!.. Сердца у нас с Иваном Осипычем не в порядке...
– Ну, тогда до свидания. Идемте, Иван Петрович.
– Опять воркуют голубки,– сказал Ожегов, когда Светлицин и Анна Ивановна скрылись.
– Да... лафа этому парню... как сыр в масле... даже зависть берет... Приехал на практику, да вот и застрял... второй год околачивается... и ведь место хорошее, подлец, занимает. Рожа смазливая и ловкач!.. Что значат бабы-то, а?
– Да, брат, бабы – они того... имеют свое значение... А барынька объяденье!.. Ай люли!.. И умна же... проведет и выведет. А тот пентюх ничего не видит... А впрочем, черт его разберет!.. Ты не смотри, что он истукан... тонкая штука!..
– Ну, где там!.. Просто осел!.. Ну-ка, не осталось ли еще пороху в пороховнице?
– Есть!
– Дав-ай! Выпить на чистом воздухе да при этакой декорации – это, брат, я тебе скажу, целая поэма... Ишь, луна-то, черт ее побери! Хоть письма пиши... Небось, оттуда стянул?
– Само собой. Как ушли, я сейчас – цап! Черта ли на них смотреть! Не ихние, заводские денежки плачут. На генерала три тысячи ассигновано. Хо-хо!.. По крайней мере на свободе с приятелем выпить... черта ли!.. При публике-то оно не того... важничают... терпеть не могу!.. И генерал этот... чучело гороховое.
– Шут с ним! Ему важничать можно: генерал да еще с особыми полномочиями.
– Изобиходят его в лучшем виде!
– Конечно!.. Вокруг пальца обернут. Ну-ка, еще по единой... Эка благодать-то, а?.. Посмотри вон там... фу-ты, какая роскошь!..
– Да, брат... и погода кстати пришлась... для генерала-то... еще одно приятное впечатление.
– Хе-хе!.. А и верно. Сегодня утром его в больницу ко мне привезли... для приятного-то впечатления. Хо-хо!..
– Ну и что же?
– Ничего. Бутафория у нас чудесная: блеск, чистота, паркет, простыни, ореховая мебель... Умилился: "Превосходно, говорит, но почему же так мало больных?" Время, говорю, такое, ваше превосходительство.
– Значит, больные-то все-таки были?
– А как же! Нарочно для этого случая приспособили... долго ли!.. Живым манером. "Какой, говорит, у них здоровый вид!" Выздоравливающие, говорю, ваше превосходительство. А у них и дощечка, и скорбный лист – все как следует!..
– Молодцы! Умеете товар лицом показать.
– Мы мастера на это. Ну-ка, остатки сладки, допивай, а пустую бутылку к черту! Что в ней, в пустой-то?.. Терпеть не могу!..
Описав в воздухе полукруг, бутылка с жалобным звоном покатилась вниз. Приятели долго прислушивались к ее падению.
– Ну, а воинство зачем? – помолчав, спросил Веретенников.
– Какое воинство?
– Как же!.. Разве ты не заметил?..
– Не знаю... должно быть, на всякий случай... мало ли... кляузный у нас народ, озорной. Генерала охраняют... а впрочем, не знаю... дело не наше.
– А не пойти ли нам к студентам? Песни больно хорошо поют, шельмецы.
– Что же, к студентам, так к студентам. Песенки-то они воспевают, да и еще кой-чем занимаются... да-с... известно об этом, известно-с...
VII
Об ужине решено было известить гостей пушечным выстрелом. Медная пушка, странной формы, с раструбом, стояла заряженная, наготове. Около нее, весь в поту суетился кучер Антон. Ему подали сигнал к выстрелу
– Ну, братцы!– закричал он, вытаскивая из костра раскаленный прут: – Конченное дело! Шабаш!..
Публика с криком брызнула в разные стороны и с замиранием сердца, щуря глаза, стала ждать выстрела. Порох вспыхнул, раздался выстрел. Звук его, жидкий и слабый, не оправдал общих ожиданий, все разочарованно смотрели на белый дымок, расползавшийся в воздухе над обрывом. Вдруг с неожиданной силой выстрел отгрянул в горах, и вся окрестность всполошилась от грома перекрестной пальбы. Казалось, сотни бомб летели с невероятной силой, ударялись в горы, отскакивали, разрывались на части и снова летели. Отголоски уходили все дальше, замирали, делались едва слышными, сливаясь в странную гармонию, замолкали и снова неожиданно откликались уже откуда-то из страшной дали, пока не замолкли совсем. Ошеломленная публика молчала, все еще ожидая чего-то.
– Фу-ты! – воскликнул Ожегов.– Чудеса в решете!.. Вот оказия-то!..
Публика стала шумно выражать свой восторг. Архипу приказали снова зарядить пушку, но в суете потерялся порох, и его никак не могли найти. На выстрел со всех сторон начали стекаться проголодавшиеся гости.
Когда прогремел пушечный выстрел, Светлицын и Катя одни сидели на краю обрыва.
– Все так, Екатерина Павловна,– говорил Светлицын, и слова его звучали для Кати, как музыка: – это ясно, как день... Но к чему все-таки этот суровый аскетизм? Зачем жертвы? Зачем это оскопление души? Неужели, кроме долга, нет никаких других радостей? И почему эти радости запретны? Зачем добровольное отречение от самого себя?.. Этого я не понимаю. Все люди имеют право на жизнь, полную и всестороннюю. Имеем его и мы. Посмотрите, как хорошо кругом, как хороша природа, как хороша наша молодость!.. Неужели все это не говорит вам ни о чем, кроме мести и печали?..
– Во-первых,– отвечала Катя,– бывают времена, когда всесторонняя жизнь немыслима, а радости жизни почти преступны. Во-вторых, печаль, негодование, ненависть, борьба – разве это не жизнь?.. Они способны также захватить всего человека.
– Положим... но я только против такой исключительности...
– Исключительность определяется моментом, в который мы живем.
– И это, может быть, верно... Мы мудры, как змий, мудрость ваша подавляет меня... В самом деле, перед вами я точно школьник. Положим, надо еще доказать, что именно таков настоящий момент, а доказать это нельзя. И все-таки я хотел бы оправдаться. Пусть я раб лукавый и ленивый, но ведь не все же таланты зарыты в землю, все впереди, и ничего не потеряно. Вы находите, что у меня знаний мало,– приобрету! Курса не окончил – окончу! Не сделал ничего в известном направлении – сделаю!.. Я не согласен с вами, будто я исключительно занимался зарыванием талантов... Я разбрасывался,– это правда, но, кажется, и это на пользу. Я не отвращал лица своего от жизни, и это дало мне опытность, которая еще пригодится.
– Нет, Иван Петрович,– мягко возразила Катя: – не отрицайте, что вы ничего не сделали и ничему не научились. Вы даже не познакомились с народом, а это непростительно. Что же касается опытности, то что она вам дала?.. Я не знаю, о какой опытности вы говорите. Я знаю только, что вы опустились, выучились пить и убивать время... Вы даже книги разучились читать.
– Ах, боже мой! Но ведь не в книгах же заключена вся премудрость!.. Ну хорошо, пусть так... пусть все, что было, одни ошибки, промахи, глупость, дурость... оно и верно. Но ведь не пропащий же я, в самом деле, человек!..
– Кто говорит об этом!..
– Ах, Екатерина Павловна! – вдруг страстно заговорил он, приподнимаясь.– Все еще впереди, вся жизнь! И как это хорошо!.. Если б знали вы, как я люблю ваши суровые глаза и власть их над собою!.. Хотите, я сброшусь вниз, туда... скажите только слово!.. Ей-богу!.. С наслаждением, с восторгом!..
– К чему же это? – улыбаясь, с загоревшимися глазами спросила Катя.
– Так... не знаю... чтоб доказать свою преданность и любовь... Но вам это непонятно: вы холодны, как льдинка, и рассудительны, как сама старость.
– Этого я, действительно, не понимаю.
– То-то и есть. 8ы не понимаете, что за один миг, за один порыв можно отдать душу и богу и черту. Вот чего вы не понимаете.
– Нет, может быть, и понимаю... но лучше этого не понимать! – тихо заметила Катя и тотчас же переменила разговор.
– Дайте слово, что вы к осени будете в Петербурге,– сказала она.– Вам необходимо пожить там, необходимо.
– А вы не верите мне?
– Нет, верю, верю... но все-таки.
– Весьма охотно. Обещаю и клянусь. Клянусь я первым днем творенья и так далее.
– Спасибо! – сказала Катя и поднялась.
– Куда же вы? – спросил Светлицын.
– Пора. Пушка прогремела, все спешат к ужину.
Светлицын неохотно встал и пошел с ней рядом.
Коперник целый век трудился,–
запел он чистым, приятным баритоном.
– У вас и голос прекрасный,– сказала Катя,– сколько у вас талантов!
– Мне серьезно советовали поступить в консерваторию. Но в том-то и беда, что много талантов, и ни одного настоящего.
В стороне от палатки горячо спорили о чем-то студенты. В споре принимали участие Ожегов, Веретенников и два молодых инженера. Но больше всех горячился Кленовский. Его резкий голос покрывал другие.
– Это идиотство! – кричал он.– Это непонимание элементарнейших приемов тактики!..
– Барин! А, барин!.. Вас спрашивают,– уже несколько раз говорил ему какой-то мужик, притрагиваясь к его плечу.
Наконец, Кленовский с досадой обернулся и увидел конюха. Тот стоял перед ним, испуганный и бледный, с растерянными, виновато бегавшими глазами.
– Чего тебе?
– Спрашивают вас... там... папенька, что ли... не знаю.
– Кто?
– Так что тятенька ваш, стало быть... требуют вас... туда-с...
– Куда?.. Зачем?.. Какой тятенька?.. Тятенька – вон он стоит... что ты врешь?..
– Не знаю-с... позови, говорят... вас спрашивают...
– Ну ладно, отстань!.. Ну-тя к черту!.. Это идиотство, игнорировать требования самого народа! – возвращаясь к спору, опять закричал Кленовский.– В этом вся суть, вся сила, почва и опора!.. Какая глупость!..
– Барин,– не отставал конюх,– сделайте милость, пожалуйста... будьте настолько добры... надо-с... пожалуйте, барин!– уже настойчиво, почти грубо заговорил он.
– Фу-ты, черт!.. Вот привязался!.. Чего тебе? Отстань, сделай милость!..
– Барин, никак невозможно... пожалуйте, как хотите...
– Ах!.. Ну хорошо... Я сейчас, господа... куда?..
– За мной пожалуйте.
– Куда ты меня ведешь? К кому? – спрашивал Кленовский, спускаясь вниз по тропинке.
– Вон туды-с... сию секунду-с...
Сойдя с горы, Кленовский заметил поджидающего их человека в военной форме. "Каким образом здесь офицер? – мелькнуло у него в голове.– Откуда? Зачем?"
– Вы господин Кленовский? – вежливо, прикоснувшись к фуражке, обратился к нему военный.
– Да. Что вам угодно?
– Николай Николаевич?
– Да.
– Весьма рад, давно желал познакомиться,– задушевно и чрезвычайно просто сказал офицер и назвал свою должность и фамилию.
"Вот так клюква! Что это значит?" – подумал Кленовский, чувствуя неприятные мурашки по всему телу.
– Не беспокойте себя,– продолжал успокоительно офицер,– не тревожьтесь.
– Я не беспокоюсь, но в чем дело?
– Не угодно ли следовать за мной?
– Куда?
– О, пока весьма недалеко. Несколько шагов.
– Но что это значит? Зачем? Пока вы не объясните, я не тронусь с места.
– Очень жаль. Но к чему такое недоверие? Даю вам слово, что это необходимо.
– Я не пойду... Зачем? Кто вы такой? Что вам надо?..
– Маталасов! – позвал кого-то офицер, и тотчас же из кустов выступили три жандарма и молча обступили Кленовского. Кленовский постоял с минуту в нерешительности, пробормотал ругательство и, не сопротивляясь более, пошел с ними.
– Пожалуйста, будьте спокойны,– все так же вежливо и ласково говорил офицер,– дело обыкновенное-с... с молодыми людьми часто случается.
Через минуту они скрылись в тени кустов. Вскоре колокольчики залились веселым малиновым звоном и смолкли в лесу.
В тот же вечер столь же таинственно исчезли с пикника еще два студента и один гимназист, но отсутствия их никто не заметил. Веселье шло своим чередом. Была уже полночь. Луна стояла высоко. Костер догорал. У большинства мужчин головы кружились от вина. Языки развязались: теперь уже все чувствовали себя совершенно непринужденно. Подали шампанское, стали провозглашать тосты за науку, за генерала, за Россию, за процветание края, за уральскую горную промышленность. Кто-то из молодых инженеров предложил тост за народ, и он был встречен дружными аплодисментами и криками "ура".
VIII
К Конюхову среди шума несколько раз прокрадывался какой-то рыжий, невзрачный молодой человек, в коротеньком сюртучке, и таинственно докладывал ему о чем-то. Конюхов говорил с ним вполголоса, по обыкновению отвернувшись в сторону, что-то приказывал, и молодой человек так же незаметно исчезал.
– Ну? – спрашивала Анна Ивановна, озабоченная встревоженным видом мужа.
– Прозевали!– отвечал он, хмуря брови:– Захватили народищу тьму, а депутацию проморгали. Ищут теперь, дурачье, по всему лесу... ослы!..
– Какая досада!..
– Забрали сейчас одних болванов, да не тех... Жалоба должна быть у Барсукова, а его-то и нет... Подлецы!.. распугали народ, шуму наделали... кособокие!.. Вообще выходит безобразие!..
– Ну, ничего... не волнуйся... Бог даст, устроится...
– И это называется: негласно... тьфу!.. вот наши дурацкие порядки!.. До генерала дойдет – сущий скандал!
– Этого не может быть!.. А если бы и так, то что ж? Мы тут ни при чем, мало ли производится дознаний и прочее. Наше дело сторона.
Снова откуда-то вынырнул рыжий молодой человек и, почтительно переждав разговор, подошел к Конюхову.
– Осип Павлович вас просят,– доложил он:– туды-с.
– Хорошо,– сказал Конюхов и пошел за ним.
В укромном местечке их поджидал Осип Павлович, тучный, упитанный человек, с бритой головой и красным лицом, затянутый в мундир.
– Здравия желаю! – проговорил он хриплой октавой.– Многая лета!..
– Здравствуйте. Ну что?
– Слава богу... Готово-с
– А бумага?
– Готово-с.
– Дайте-ка мне.
– Невозможно. Она там... приобщена к делу.
– Но мне нужно непременно. Что написано? Кто писал?
– Писали господин Кленовский.
– Как?!
– Студент-с, а не господин лесничий, конечно-с.
– Ага!.. Вот мерзавец!.. Я так и знал.
– Уже и они... ау! До свиданья!..
– Когда? Что вы толкуете! Я сейчас его видел.
– Никак нет-с... ау-с!.. изъяты из обращения.
– Туда и дорога!.. А жалоба мне нужна...
– Да вы не беспокойтесь, Петр Саввич: она приобщится к делу и дальше не пойдет, а другой, надеюсь, не напишут... Нет, уж теперь погодят... Если угодно, я копию сниму.
– Пожалуйста.
– С полным удовольствием. Имею честь кланяться. Многая лета!..
Конюхов вернулся к обществу, все такой же деревянный, но проницательная Анна Ивановна заметила, что настроение его изменилось.
– Ну, что? – спросила она шепотом.
– Все хорошо. Накрыли.
– Видишь, я говорила. Слава богу.
Молодежь между тем снова образовала хор. Мало-помалу к ним присоединились и старшие. Ожегов, по-мужицки схватившись за голову, пел с большим чувством. Пел Веретенников, пели инженеры, и песня всех хватала за сердце, будя золотые воспоминания о минувшей студенческой жизни. Даже Конюхов, вытянувшись, как жердь, подтягивал козлиным тенорком:
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...
Когда запели «Забытую полосу» и дошли до куплета: «и шагает он в синюю даль», то всем до слез стало жаль неизвестного пахаря, идущего по Владимирке «за широкий, за вольный размах» и вспоминающего свою заброшенную полоску.
Голос Светлицына покрывал весь хор.
– Какой чудный бархатный бас!– заметил генерал.– Не споет ли молодой человек что-нибудь один?
Тотчас же все приступили к Светлицыну с тою же просьбой. Он согласился и, поднявшись на небольшой камень, как на эстраду, шутливо раскланялся с публикой. У ног его, точно алмазная пыль, светилась роса, покрывавшая бугры седого мха, а внизу, в глубине пропасти, сквозь синеватую мглу темнела река и серебрился кустарник, отбрасывая от себя короткие черные тени. "Надо что-нибудь мощное, смелое",– подумал он и запел "Утес".
Е-есть на Волге уте-ес...–
начал он и заробел, чувствуя, что голос его, не имея опоры, бессильно расползается в пространстве. Он прибавил звука, и, когда пробудилось дремавшее в горах эхо и запело вместе с ним, голос его окреп и зазвучал уверенно и могуче.
Ему много и дружно аплодировали и требовали повторения, но он отказался и сошел вниз. Потом еще пели "Проведемте, друзья", "Вперед без страха и сомненья" и другие песни. Генерал находился в самом благодушном настроении.
– Меня в особенности трогает, господа, ваше дружное, согласное общество,– говорил он:– Вы как будто, одна семья, связанная кровными узами. Это так редко и потому так приятно. Я вижу здесь не начальников, не подчиненных, а добрых товарищей одного большого, общего и полезного дела. Это хорошее товарищеское отношение, говорят, распространяется и на младших сотрудников ваших – на рабочих, и я этому охотно верю, потому что вообще допускаю такую возможность... Я верю в дружеский союз тружеников, ибо в единении сила. Я поднимаю свой бокал, господа, за единение, за силу союза и его благие результаты...
– Ура-а!– диким голосом закричал Ожегов и полез к генералу целоваться.
– Урра!.. Урра-а!– дружно подхватили восторженные голоса.
– Ах, ваше превосходительство!.. Как вы хорошо сказали! Как выразили... Мы в самом деле, как одна семья... кровная, задушевная семья!– захлебываясь, говорил Ожегов.– Ей-богу! Мастеровые – наша семья. Живем, слава тебе господи... ладно живем. Наш меньшой брат – товарищ, сотрудник – совершенно верно...
– Могу засвидетельствовать, что для населения делается все возможное,– также очень растроганный, сказал Конюхов:– князь не щадит средств... Придите на помощь, дайте нам железную дорогу, и тогда мы оживем...
– Дорогу вам дадут... без сомнения,– говорил размякший генерал.– Даю вам слово...
– Однако это чересчур! – пробормотал Светлицын, и глаза его задорно сверкнули.
– У нас, действительно, дружная семья,– громко обратился он к генералу.– В доказательство позвольте привести один маленький эпизод. В прошлом году врач Дратвин дал неудобное на суде показание.
– Ну, понес,– перебил его Ожегов,– вот уж не кстати!.. Нашел о чем говорить!
Конюхов с тяжелым изумлением остановил на Светлицыне свои оловянные глаза. На лице Анны Ивановны изобразился испуг. Гости беспокойно зашевелились.
– В качестве эксперта он утверждал, что речка Бардымка, из которой пьет воду население Верхнего завода, систематически отравляется отбросами газовых печей. Вода была, как сусло, но он не захотел признать ее чистой и прозрачной, как кристалл. На него ополчилась дружная семья, и он в двадцать четыре часа был уволен.
– Околесная!.. все извращено!..– кричал Ожегов.– Ты с ума сошел, что ли?.. Идиот!..
– Это неправда!– произнес побледневший от гнева Конюхов.– Дратвин был уволен, но по другой причине. Я сошлюсь на всех присутствующих.
– Неправда!.. Конечно, неправда!.. – заговорили хором крайне взволнованные гости.
– Неправда?.. Вы это утверждаете? – звонким голосом переспросил Светлицын, чувствуя, что он стремительно летит куда-то в пропасть.– Ах, господа, господа! но ведь это только ничтожнейшая частица правды, которую еше никто не раскрыл. Если рассказать все, что здесь творится...
– Довольно!.. Будет!..– как исступленный, наседал на него Ожегов.– Что ты мелешь!.. Собачий черт!.. Все ты врешь... довольно, я тебе говорю!..
– Довольно! довольно!.. Это неприлично, наконец!..– угрожающе подхватил хор.
Светлицын засмеялся и махнул рукой.
– Ив самом деле, довольно,– сказал он с неожиданным добродушием. – Господа, я пасую... Где ж мне устоять против такого дружного натиска!.. Не скажу больше ни слова... но предлагаю все-таки выпить за правду. За все пили, за правду не пили. Итак, господа, за правду!..
– Ого!.. Давно бы так!.. Это дело... пить, так пить...– мгновенно меняя тон, отвечал Ожегов.– А то понес околесную... охальник!.. Пей, друг, за правду, ничего! Сколько влезет!.. И мы выпьем: это не вредит. Пей, да поменьше ври! Держи язык за зубами! Кто против правды? Никто, мы все за нее горой. А то, брат, аллилуйя на постном масле... ни более, ни менее...
Скандал был, однако, настолько велик, что все чувствовали себя, словно ошпаренными. В разных концах начались притворно непринужденные разговоры, кто-то предложил снова составить хор, но, разумеется, предложение не было поддержано. Изумленный, сбитый с толку и всеми оставленный, генерал растерянно мигал глазами. Анна Ивановна, бледная, но улыбающаяся, старалась успокоить мужа. Она говорила ему что-то очень быстро, стараясь как можно больше наговорить слов.
– Прогнать его, как подлеца, как сукина сына! – хрипел Конюхов.
– Да, конечно... но теперь ты должен успокоиться. Разумеется, мы его сплавим, но пока не нужно подавать вида. В сущности ничего особенного. Генерал не обратит внимания... Уволили докторишку... какая важность!.. Возьми себя в руки... не показывай вида... молчи... угощай вином...
– Мерзавец!.. Неблагодарный скот!..– прошипел Конюхов и с окаменевшим видом вернулся к гостям.
Между тем Ожегов, уцепившись за Светлицына, говорил ему:
– В сущности я понимаю... верьте чести!.. И если б не мое положение, я бы... ох! я бы разделал их под орех!.. Одним словом, на меня вы можете положиться.
– Ну вас! Пустите! – отводя его руку, наконец, огрызнулся Светлицын, который после своей выходки начинал чувствовать себя очень скверно.
– Иван Петрович! – громко позвала его Анна Ивановна.– Подите сюда, я вам уши нарву!.. Ну, идите же, идите!.. И вам не стыдно, а?.. Ты с ума сошел! –заговорила она быстрым шепотом, увлекая его в сторону.– Какая злая и низкая месть!.. Как подло! как глупо!..








