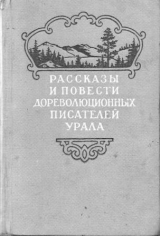
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Говорю, давно я примечала. Третьего дня ситника купила два фунта да больше не покупывала...
Тихо. Дети стонут спросонок, вдали звенит трамвай, гудит мостовая. Он все пьет, жадно пьет и морщится, будто у него болят зубы.
– С голоду... как есть сирота... Ну, сказала бы! Неуж бы не накормили? Хлеб да картошка все есть, чего другого... О, господи!
– Что заладил: с голоду да с голоду... Без тебя слышали! Будет трескать-то, оставь к завтрему, заходишь опять как непокаянная душа! С какой радости жрешь-то? – ругалась жена.
Он все пил, мучимый огневой жаждой, а когда не осталось в бутылке, снес куда-то свою венскую гармонику и принес новую бутылку.
– С голоду... а я украл у голодного человека, у покойника, почитай! Ну, сказала бы, ведь хлеб есть, а то с голоду...
– Да будет тебе, пьянюга! Налакался до чертяков, злочасть моя, пропаду на тебя нету...
– И на что украл-то? Добро бы тоже на хлеб, а то для толстопузой лягушки-генеральши! Свезет к Пантелеймону али Иверской, а там монахи пропьют с девками... А я украл у голодного человека!
На другой день было рождение генеральши, и после обедни к ней приезжал приходский священник с дьяконом. Батюшку оставили на чашку кофе, но он торопился на закладку дома к одному купцу и, извинившись, откланялся. На подъезде он разжал руку и показал опасливо косившемуся на нее дьякону:
– Трешница... Да и какая потрепанная, в чернилах вся, пожалуй, неходячая... о люди, люди!
Какой-то растерзанный человек вышел из-под ворот, нетвердо держась на ногах, и приблизился с дерзким и вызывающим видом.
– Батюшка! От голоду она, а я украл... Можете вы чувствовать, батюшка? Обжоры вы, живоглоты толстопузые! Может, она вам ее отдала, трешницу-то, а я украл... О, господи!
– Иди себе с богом, иди...– отмахнулся батюшка, усаживаясь в экипаж: – Иди... О, люди, люди!
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1908, NoNo 191 и 193, 3 и 5 сентября.
Стр. 291 Ариды (просторечное) – ироды.
БУДНИ
I
– Вот это уж настоящее счастье выпало девушке! Вот это значит в сорочке родиться! И чем взяла-то! Глядеть не на кого: худенькая да щупленькая, лицо как у кошки, одни только глаза и есть на нем... Век надо бога благодарить за такую долю!
Это в один голос твердили Танечке, когда она была еще в невестах, то же слышала она ото всех, сделавшись женою Андрея, так что под конец сама стала думать чужими мыслями и поверила в свое счастье. Подойдет, бывало, к зеркалу, сама удивится: и за что в самом деле Андрей выбрал ее, такую невзрачную, нищую сироту? Озолотил, осчастливил... За что?
– Ах, надо очень ценить этакого мужа, надо в глаза ему глядеть! – И она глядела в глаза Андрею, готовила его любимые кушанья, чистила ему бензином фрак, ухаживала за его канарейками и старалась одеваться изящнее, причесываться замысловатее, чтобы он не разглядывал ее лица. И в свое "некрасивое лицо" она уверовала непреложно тоже с чужих слов.
– Ведь всякому кажется, будто он хорош, а другим виднее. Все говорят, что во мне только кожа да кости... Вон глазища-то какие!
Из опасения потерять свое счастье, служила молебны У Иверской, у Пантелеймона и раздавала нищим копейки. Оттого муж не только не замечал ее недостатков, но день ото дня пуще любил и холил, а в квартирке их царило невозмутимое семейное счастье, с вареньем, с конфетами, с фикусами и канарейками.
Андрей с юных лет служил официантом в одном из шикарных ресторанов, хозяин которого друг-приятель управителя имением, где сиротою выросла Танечка, дочь умершей экономки, устроил и женитьбу своего верного слуги. Из дома Андрей уходит в десять часов утра и возвращается в два ночи, но имеет свободными два воскресенья в месяц.
– Я поставила, Андрюша, сдобное тесто, думаю кулебяку с капустой... А то, может, еще пирожки из блинов? – спрашивала Танечка накануне свободного дня, хлопоча и волнуясь: ведь Андрей так любит поесть дома, наскучившись ресторанной кухней.
В самое воскресенье, очень рано, на цыпочках пробиралась к плите, двигалась осторожно, не хлопая дверью, толкла сахар и молола кофе на черной лестнице, чтобы ле разбудить Андрея.
И все торопилась, торопилась...
Да-да, Андрей любит видеть ее уже одетую, а на столе все уже готовым... Пожалуй, лучше надеть опять ту кофточку, что он в прошлый раз похвалил? И часы и колечки... О, ей есть во что нарядиться! Что это? Уж не встает ли? Нет, так пошевелился...
После кулебяки и кофе Андрей всегда поцелует ее и скажет:
– Ну, куда мы сегодня, Танечка? Я думаю, на Сухаревку, а?
– Куда хочешь, Андрюша...– замирая от удовольствия предстоящей прогулки, соглашается Танечка.
Садились в трамвай и ехали, такие нарядные, важные, совсем как господа. На ней модный сак и шляпа с пунцовыми маками, он в котелке, ярком галстуке и желтых перчатках.
На Сухаревском базаре долго гуляли, покупая иногда гипсовую статуэтку, японский веер из бумаги. Случалось, вместо Сухаревки ехали на Трубную площадь, где смотрели голубей, покупали канарейкам семя, баночки для питья, камышовые жердочки.
Счастливые, довольные всем на свете, возвращались обедать.
– Уж гулять, так гулять: не отправимся ли, Танечка, на Воробьевы горы? Вечер хороший, народу много будет, поглядим...– предлагал после обеда Андрей. Не раздеваясь, собирались и ехали на Воробьевку смотреть публику, великолепные экипажи, ослепительные наряды.
Если было ненастье, то ложились спать, вечером долго играли вдвоем в шестьдесят шесть. Зимою тоже спали, но после шли в электрический театр, где целый час смотрели интересные картины, слушая заводное пианино, где столько огней, нарядов и шума.
Но самое приятное, правда, дорогое и потому редкое удовольствие было, когда у них собирались гости. Андрей тогда приносил кулек с винами и закусками, сам сервировал стол, а к чаю заказывали торт у Филиппова за три рубля.
– Фрося в прошлый раз весь вечер носилась с своими конфетами: от Абрикосова, да от Абрикосова... Думает, удивила, не едали люди! Пусть вот у нас поглядит...– предвкушала Танечка великолепие пиршества и; посрамление чванной подруги.
– Ну, где им! Квартира-то какая? И ничего не умеет, в фаршмак и вдруг вилку воткнула, дура этакая...
Танечка надевала лучшее платье, навешивала свои драгоценности и без нужды много бегала по комнатам, прислушиваясь к шелесту шелковых юбок.
Приходили всякий раз три-четыре официанта с женами и брат одного из них, которого и свои, и чужие звали просто Сережей.
Этот Сережа очень молод, очень красив, служит артельщиком, носит поддевку с серебряным поясом и бриллиантовое колечко. Он не играет в карты с мужчинами, не поддерживает их разговора, но и с дамами, которых занимает смешными анекдотами и игрою на венской гармонике, держится с какою-то учтивою, легкою пренебрежительностью и среди разговора с ними думает о чем-то своем.
– Какой же он официант? – слышатся горячие споры в мужском кружке: – Разве ему место в таком ресторане?
– Ну вот! Слышите, Полинарья Яковлевна, я же вам говорила... Это их новый-то, помните? Еще у Троегубовых все за Манечкой ухаживал...
– Что вы, Фрося, остатки надо покупать на Сретенке, обязательно!
А Сережа сидит подле, тихонько наигрывает на гармонике и чему-то своему улыбается задумчиво. Вместе с ним часто молчала, рассеянно прислушиваясь, черноглазая, смуглая красавица Груша.
О ее странном романе с Сережей много судят и возмущаются подруги, которых больше всего злит ее равнодушие к толкам, высокомерное презрение к тому, что о ней думают и говорят.
Когда все бывало съедено и выпито, переговорено о ресторанных делах и дешевых распродажах, гости мирно расходились по домам.
– Ну, Танечка, отличились мы с тобой! Борис и Василий глазам своим не поверили, не знают, чего взять...– самодовольно усмехался Андрей, проводив гостей и перейдя в спальню.
– Да...– изнемогая от счастья, откликалась Танечка, развешивая свои шелковые юбки до следующего знаменательного дня.
– А знаешь, Андрюша, эта Аграфена вовсе рехнулась, глаз не сводит с Сережи! Хоть бы людей постыдилась, глядит, как кошка на рыбу.
– Подлая она. А муж, знай, зеленеет, в картах путается и слов не понимает, за ней следит... Да ведь говорят, Танечка, между ними и нет ничего: Сережа будто прямо ей заявил, что не любит ее. А она мужу в глаза говорит: "Ненавижу я тебя, собакой поползу за Сережей, только позови он..." И все это при Сереже ведь и преподносит мужу. Сумасшедшие все трое какие-то, больше ничего...
– Конечно, подлая! И неправда, что нет ничего, разве не видно?
Танечке почему-то хотелось, чтоб это была неправда, и она настаивала.
Потом опять шли будни. Андрей уходил в ресторан, она чистила в клетках у канареек, садилась шить, варила обед, опять шила, пила чай и ложилась спать. В два часа приходил Андрей и высыпал из жилетного кармана чаевые деньги. Танечка вставала, накидывалась шалью и принималась считать вместе с мужем, раскладывая стопками двугривенные, пятиалтынные.
– Шесть рублей сорок. Хорошо сегодня! Больше тридцати за неделю...
Ложились спать и долго вслух подсчитывали, сколько теперь на сберегательной книжке, мечтали о собственной столовой или даже небольшом чистеньком ресторанчике.
"Господи, какая я счастливая!" – думала Танечка, засыпая с блаженной улыбкой. И во сне ей виделся ресторанный зал, хрусталь блестит на столе, пальмы, бегающие среди гостей официанты, а она стоит за кассой и все получает, получает...
II
Так прошло три года. Считали деньги, гуляли на Сухаревке, играли в шестьдесят шесть. Попрежнему и все тех же созывали гостей; так же мучилась и наслаждалась в своей бесплодной страсти красавица Груша, страдал от ревности и неразделенной любви чахоточный муж, о чем-то своем думал и загадочно улыбался красавец Сережа.
Только Танечке исполнилось уже двадцать два, а ее мужу сорок три года. Она уже не так часто смеется, не так радуется на свои наряды и не всегда охотно встает по ночам, чтобы отпереть мужу.
О чем-то задумывается, считая двугривенные, а порою и вовсе не притронется к ним: поглядит на серебряные стопки, переведет глаза на измятое лицо Андрея, на его лысину, вздохнет, нахмурится.
– Ну, будет уж... спать я хочу, туши огонь...
Уж не мечтает о собственном ресторане и ни одним словом не поощряет этого в Андрее.
– Знаешь, мне кажется, Груша просто несчастна,– сказала она раз, проводив гостей.– Между нею и Сережей, пожалуй, действительно ничего нет грязного, я даже уверена... И притом ей, оказывается, всего двадцать пять лет, красавица, а муж полуживая развалина! Сережа красавец... бедная!
Случилось, что будучи не в духе, Танечка резко ответила мужу, даже испугалась сама. Но Андрей боязливо вздрогнул, весь день виновато заглядывал ей в глаза. С тех пор она часто стала покрикивать на него, молчать целыми днями и отказываться от прогулок на Сухаревку и Трубную.
– Какая ты стала раздражительная, недовольная...– выбрав добрую минутку, робко и осторожно заметил Андрей,– оно еще придет, ты не печалься, Танечка, право... Я понимаю, что тебе недостает... Ну, там известно! Ведь все женщины хотят иметь детей...
– Что?! – гадливо вздрогнула она: – этого только недоставало! – и засмеялась грубо и зло, сверкая глазами.
Дни теперь были для Танечки, как унылые черные камни в мертвой пустыне, которых не обойти, не сбросить с пути: перелезешь через один, там уже точь-в-точь такой же другой, третий... И шла, не зная куда и зачем, то с тупым равнодушием, то с проклятиями, вглядываясь в бесконечный ряд скучных дней.
В праздник оденется, напьется кофе, и нечего больше делать, не о чем больше думать. К одному окну подойдет, поглядит на улицу, у другого – поговорит с канарейкой: "Скучно тебе, моя птичка? Заперли тебя? Ну, что глядишь-то так? Да, там солнышко светит, люди идут, радуются, смеются... А мы с тобой только сыты... только!"
Потом заведет граммофон, сунет какую попало пластинку. Не даст доиграть и защелкнет пружинку. Остановится у канареек: "Что, проклятые, засвистели? Жрать только знаете, надоели вы мне, окаянные, сколько годов за вами хожу?" Опять выглянет в окно. На лихаче кавалер с дамой проехали: он молодой, красивый, обнял ее и что-то говорит, а она откинулась и смеется...
– Проклятый... милые... Господи, как есть в тюрьме сидишь!
Танечка падает на постель и плачет. И рвет на себе шелковую кофточку, и кусает подушку.
– Не могу я больше этак,– с мрачною решимостью заявила она мужу: – с тоски тут подохнешь одна, не то заберется кто да зарежет еще. Сдам угловую, ни к чему она нам. Что? Старушка? Я еще не сошла с ума, мне еще не пятьдесят лет ходить за богадельщицами!
Она как-то даже и не подумала, что комнату может снять жилец, поэтому, когда стали заходить, как нарочно, одни только мужчины, Танечка испугалась и стала отказывать под разными вымышленными предлогами. Покамест не пришел этот полуюноша, полувзрослый с дорожною сумочкой через плечо.
– Можно посмотреть комнату? – взглянул он на нее своими усталыми, глубокими и печальными глазами.
– Пожалуйста,– не раздумывая, ответила она.
Почему-то сердце колотилось шибко-шибко, горело лицо и дрожали руки. Как во сне отвечала на вопросы и улыбалась сама, когда он с улыбкой попросил убрать портреты генералов. Только оставшись уже одна, пришла в себя и с удивлением глядела на оставленный им золотой, не понимая, как все это могло случиться.
– Ну, что ж! Сдала комнату и сдала, что тут особенного?
А сердце все колотилось, и кто-то шептал, что теперь начнется другая жизнь, пришло то, долгожданное, чего недоставало, по чему тосковала и томилась... Выбежала на парадную лестницу, постояла зачем-то; потом кинулась через кухню во двор, огляделась и крикнула возившемуся под навесом дворнику: "Максим, я сдала свою комнату!" Мужик удивленно поглядел, и она удивилась на себя, зачем это сказала. Потом вернулась в дом и о чем-то заплакала. Но это были уже не те слезы, когда она мучилась от тоски и кусала подушку, не те...
Взмыла нежданно налетевшая хмельная волна, подняла на самый гребень и понесла с ликующей песнью о любви и счастье в какое-то волшебное, как сон, царство. И не было теперь ни дней, ни ночей, а только одна песня жизни, похожей на волну, из звонких серебряных струй, из тихой лазури и солнечных переливов.
– Милый, тихий мой, светлый! – шептала Танечка, прибирая его комнату. Благоговейно дотрагиваясь до его картин, целовала поставленные им в стакане цветы, со слезами восторга и счастья на глазах касалась лицом краев его полотенца.
– Вам письмо! – едва владея голосом, стучала в заветную дверь. Быстрые шаги, звон ключа, тихая, благородная улыбка. И она уже счастлива...
"Вот он теперь читает письмо и радуется, и ему хорошо. А потом вспомнит, кто подал ему письмо, и улыбнется, подумав: какая она хорошая... Ведь может быть это, может?"
Раз в воскресенье утром принесла ему к чаю своей стряпни. От смущения едва пробормотала в оправдание, что, верно, человек должен скучать в чужом городе по мелочам домашней обстановки.
Он с удивлением и нерешительно посмотрел, потом совсем по-детски обрадовался чему-то, стал сбивчиво и горячо благодарить, точно она принесла ему несметные сокровища.
– Это от матери,– как-то по-родственному, дружески улыбнувшись, сообщил он ей на другой день, принимая письмо, будто хотел сказать, что тоже не считает ее совсем чужою.
"За что обласкал-то? Что пирожками угостила, о доме напомнила... Милый! Да если бы знал, что больше-то моего никто его и не любит во всем свете, что в огонь, в воду пойду за него с радостью..."
Но Танечка все менее чувствовала себя счастливою: уже не плакала от восторга, не улыбалась, вызывая в памяти его лицо, сказанное им приветливое слово, не целовала более его цветов. Все, что вначале радовало и волновало смутною надеждой на какую-то новую, светлую и настоящую жизнь, теперь несло с собой муку безнадежной неудовлетворенности и тоску. Больно было входить к нему, больно отвечать насильною улыбкой на его шутку, а если касалась нечаянно его руки, вся вздрагивала и бледнела.
"Чего ждала-то? Чему радовалась? – с тоской прислушивалась она к оживленному, непонятному ей разговору жильца с товарищами.– У него своя жизнь, особенная... На что ты ему? У всех своя жизнь, да не для тебя... А ты наряжайся, тешь своего плешивого мужа, он тебе за то трактир откроет, за стойку станешь! Это вот твоя жизнь! О, господи, ничего бы мне не надо, голубчик ты мой, любить только тебя, рабой твоей быть, уведи только отсюда..."
Танечка совсем не думала об Андрее, не замечала его как-то и забыла, как все на свете. Только когда приехала из деревни выписанная им тетка и стала издали заговаривать о пагубных увлечениях молодых женщин, она вспомнила о муже. И с озлоблением, с ненавистью излила на него всю наболевшую горечь своей неудачной, печальной жизни.
– Да как ты смел?! Что я, развратная какая, что надсмотрщица ко мне понадобилась? Духу чтобы ее не было, или я уйду от тебя, слышишь? Ревность тоже! Не женился бы на девчонке, облезлый пес, старая швабра! Другая бы давно кучу чужих детей нарожала... ноги должен целовать, а не караул приставлять... Не с кем, а коли бы пришлось, скрываться да обманывать не стану, принимай бы тогда свои шелковые юбки – и счастливо оставаться, вот что!
Перепуганная старуха уехала обратно, а Андрей плакал, просил прощенья и все хотел знать, за что Танечка его не любит.
– Отстань, замолчи! Говорю замолчи... не то в петлю залезу!
На другой день жильца до вечера не было дома. В сумерки он вернулся и, не раздеваясь, сказал Танечке, путаясь и краснея:
– Вы меня извините... мне у вас очень нравится, но некоторые обстоятельства... уж, извините... очень жаль самому...
Смущался, сердился за это на себя, хмурился и еще больше краснел.
Танечка прислонилась к стене спиною, заложив руки назад, и следила своими потухшими глазами, как он увязывал вещи. Не сказала ни слова. Только когда вошел извозчик, чтоб вынести узлы, ей стало страшно расставаться так, ничего не сказав.
– Вы, верно, слышали... поняли все? Не сердитесь на меня... не судите...
Больше ничего не могла сказать и потупилась.
– Что вы! Я, напротив, очень благодарен... всегда буду вспоминать...– пробормотал он, торопливо прощаясь, глядя куда-то мимо нее.
И чувствовалось, что все это ему только неприятно и хочется поскорее уехать от этих тяжелых, скучных и непонятных ему людей.
Уехал. Танечка заперла за ним дверь, прошла в опустевшую комнату, посидела. Потом тихонько засмеялась чему-то, покачивая головой, и вышла. Достала бутылку вина, выпила залпом стакан и завела граммофон. Еще выпила и опять засмеялась, все громче и громче, а по лицу текли слезы, такие спорые, крупные.
– Вот и кончилось все... первое и последнее... Узнала счастье! Теперь-то что же? Ведь уж никогда больше, ни-ко-гда... Грушенька! Осуждала я тебя, подлая, дура я была тогда! Что ж, опять, значит, двугривенные считать? Любимый, светлый ты мой! Никогда уж больше, все закончилось... Ни-ко-гда...
Нет, уж, видно, не придется
Солнцу красному греть меня...–
полным жалобы и тоски звуками вторит граммофон. Точно чья-то душа билась и изнывала в безнадежной муке. И не было ей отклика в безмолвной, унылой и мертвенной пустыне.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту еженедельника "Заря жизни" (приложение к газете "Уральский край"), 1909, No 41, 19 октября.
НИМФА
Надо сознаться, что и другие, начиная с самой хозяйки Настасьи Егоровны, не отличались строгой нравственностью и добропорядочным поведением, но эта охальница Фроська вовсе даже «стыда решилась», как всеми было признано.
Начать с того, что она не знала времени, когда надо выпить, а выпивши становилась задорна, срамно ругалась и все норовила съездить а физиономию или вцепиться в косы товаркам. Утром еще туда-сюда, встанет на работу, как прочие, будто ведь и утюга из рук не выпускала, ан глядишь, невесть где и как, она уже клюкнула! Пыхает папиросой, а сама фыркает, ту толкнет, другую изругает.
– Что пхаешься, язва? Успела налить зенки-то? Я тебя самое так пхну, так разлюминую утюгом твою комедьянтскую морду, что до новых веников не забудешь!– огрызался на нее кто-нибудь.
– Это я-то комедьянтская морда? Я? – наступала Фроська.
– Ну и ты, кто боле? Тронь, тронь, попробуй...
Присоединялись остальные, и ссора готова бывала перейти в свалку, но Фроська, должно быть, вспоминала, что теперь было бы вовсе некстати ходить "разлюминованной", а потом в такие минуты появлялась из своей клетушки хмурая, злая после вчерашней попойки Настасья Егоровна.
– Это что за скандалы, а?! Марш по местам! Какую безобразию завели... Ты на каких радостях, сударка, спозаранок-то накачалась?
– Не ты поднесла, тебя не спросилась...
– Я тебе поднесу! Ты не больно у меня фордыбачь, красавица: порога не заденешь – вылетишь...
– Сама уйду! На кой черт дались вы мне все-то, пропади вы пропадом! Была нужда!
– Фуфыра какая, подумаешь! Уйдет она! Не надолго уйдешь, здесь же будешь... В чем пойдешь-то? Ботинок купить не может, локти вылезли, а туда же: уйдет она!
Собственно, и без Фроськи ругань разгоралась тут каждое утро и висела в воздухе до вечера, потому что злились все, и коли еще не сорвать сердца, не развлечься перебранкой, то все от скуки подохли бы в этом темном, вонючем подвале, средь мокрого пара от щелока, среди лоханей и запаха грязного белья, горячих утюгов. И выпить после вчерашнего тоже все очень бы не прочь, но опохмелиться дозволялось только за обедом, а напиться по-настоящему – после работы, вечером. Фроська, таким образом, лишь задавала тон своей строптивостью, другие радовались и подхватывали. Своими ранними выпивками она, конечно, нарушала традиции, это уж правда.
Вечерами, впрочем, все становились добрее, ругались мало, да и то неохотно. Одни уносили чистое белье и возвращались довольные, запасшись на полученные чаевые косушкою, к Настасье Егоровне приходил дворник, которого она за что-то, случалось, била, называла погубителем, плакала и угощала водкою, а тот не сердился и даже гармонику не выпускал из рук, получив оплеуху, только чуть качнется на сторону. Фроська сидела дома за крайним расстройством гардероба, зато к ней являлся гость Сенька-"комедьянт", посещения которого всем чрезвычайно нравились, потому что парень он был развеселый, балагур и процимбал. Теперь Сенька работает полотером, но считает это занятие нестоящим, так, пока что, себя называет артистом и часто говорит: "Когда мы с Фросей работали в Аркадии..." или что другое вроде.
Фроська угощала его водкой, иногда он и сам приносил, но это случалось много реже.
– Мы, Фрось, нигде не пропадем. Нам что полотеры али там прачечная, мы – артисты! Сегодня без сапог, завтра полны карманы и сами пьяны! – несколько своеобразно характеризует Сенька артистический мир, к которому себя относит.
– Разумеется! – попыхивая папиросой, небрежно кивает Фроська, в душе полная торжества и самодовольной гордости.
– Помнишь, как нас принимали в "Отраде"? О-о! Только выйдем, публика ревом ревет. Чистых нам тогда шестьдесят целковых осталось...
– Еще бы, помню...– уже не столь решительно подтверждает она.
– Погоди, еще неделя какая-нибудь, и ангажемент, аванс и все прочее! Конечно, нет у меня нынче собачки, сдохла, проклятая, да мы и без собачек... Вот погляди! Уж я говорил кое с кем – везде зовут. Дело самое верное...
– Куплю я себе все платье и в горничные на хорошее место поступлю, нынче уж обязательно.
– А я – фрак и в официанты! Заживем, Фрось, у-ух, как! И обвенчаемся, Фрось! Я беспременно хочу обвенчаться.
– Ну да... и это можно будет,– вся вспыхивала, млея от сдерживаемого восторга.
– И ребенка из воспитательного обратно возьмем. Это можно, я уж толковал с знающим человеком... все можно! – мечтает вслух разошедшийся артист.
Фрося при этом глубоко затягивается папиросой, делает вид, будто от этого только вслух и не может ответить, потом не спеша утвердительно кивает головой, а на глазах у нее, должно быть, от табачной затяжки, вдруг навертываются слезы. Она принимается кашлять...
В такие минуты товарки прощали Фроське ее сварливость и буйный нрав, забывали свои обиды от нее и, пьяненькие, без зависти, жадно слушали о таком хорошем будущем своей подруги, как чистая жизнь, муж, ребенок...
А когда через неделю, также вечером, Сенька-комедьянт пришел, широко распахнув двери, кинул Фроське красненькую и крикнул молодечески задорно: "Вот! Получай аванс", то этим окончательно завоевал всеобщие симпатии и уважение. Стали прощаться с Фроськой совсем дружески, причем некоторые, выпив уже, прослезились.
– Сама знаешь, какая наша жизнь... не сердись, коли что...
Даже Настасья Егоровна вышла от своего дворника и милостиво сказала:
– Ну, давай тебе бог, Фрося! Недокуда тебе мыкаться... А коли что – у меня завсегда тебе место. Давай бог!
С полден, сейчас же после обедни, к "полю народных гуляний" тянулась уже наименее терпеливая публика: мальчики-подмастерья всяких цехов, мальчики из лабазов, контор и бань, наконец, мальчики привилегированных сословий и молодые приказчики попроще. Словом, кому жгли руки случайные праздничные деньги, попавшие и праведным, и не совсем безгрешным, быть может, путем.
А затем уже через каждые четверть часа праздничные толпы все росли, принимали все более пестрый вид, пока, наконец, вся большая улица обращалась в сплошной человеческий поток, тысячеликий, тысячеголосый. Извозчики, опьяненные, должно быть, впечатлением праздничного шума, нетвердо сидели на козлах и если не давили народ, то благодаря лишь кроткому нраву своих рысаков, миролюбиво останавливавшихся на каждом шагу, чтобы пропустить шмыгавших под самыми их мордами пешеходов. Конки более звонили, чем подвигались вперед, так что нервные люди выскакивали, попускаясь пятачку, и обгоняли вагон, который престарелые кони продолжали невозмутимо тянуть с таким видом, точно хотели сказать: "кума с возу – куму легче!"
Но самое разливанное море шума, веселья и праздничного возбуждения – на "поле народных гуляний". Кого и чего тут нет! Разнаряженные, упитанные, степенные купцы и купчихи, едва прикрытые, пьяные, разухабистые гуляки-мастеровые, солдаты, гимназисты, девицы в платочках и девицы в ярких шляпочках, франты в пальто и котелках, молодцы в картузах и поддевках, юные кадеты, дворники в желтых тулупах и опять солдаты, солдаты...
– Сбитень, горячий сбитень!
– А вот пирожки! С пылу, с жару...
– Яблоки, виноград, всякий им будет рад!
– Орехи для потехи, мармалады, шоколады для женской услады!
Вертятся карусели, сверкая на солнце стеклярусными подвесками, мелькают каски, желтые овчины, яркие бархаты, в сплошной гул сливаются стоны шарманок, трубный рев военных оркестров, взвизгивания и лязг полозьев на ледяных горах, пение и выкрики клоунов на балаганах, говор и смех толпы. Безудержное веселье!
Но уж где яблоку некуда упасть, где ребра трещат от давки и жулики в чужих карманах распоряжаются, как в своих собственных, так это все подле народных театров. Впрочем, это вовсе не значит, что публика стремится туда, совсем даже нет! Прежде чем заманить в театр, артисты добрых полчаса поют, играют и пляшут на подмостках даром, а потом антрепренер долго выкрикивает:
– Начинаем, господа, начинаем! Экстравагантное, пикантное, элегантное галла-представление! Получайте билеты, не теряйте дорогое время!
А когда отрезвленная таким призывом, только что на даровщинку выглядевшая всю труппу публика шарахалась от кассы, почтенный предприниматель хватался за последнее средство, отдергивая входную занавесь, за которой солдатские трубы уже наигрывали галопы, и кричал:
– Вот они! Начали, начали! Первый номер!
Опять, давя друг друга, кидались, чтобы задаром выглядеть, но вход уже закрыт, и снова охлаждающее:
– Получайте же билеты! Не теряйте время!
Уже по одному этому антрепренеру нельзя было отказать в знании человеческой натуры и умении спекулировать на ее слабостях: многие не выдерживали искушения полуоткрытой занавески и в последнюю минуту тянулись за билетом.
"Народный театр "Услада", как называла его водруженная на шестах вывеска, подходил под общий тип целого ряда вытянувшихся подле других: "Фантазия", "Разгуляй", "Очарование" и тому подобных многообещающих и заманчивых наименований. Снаружи те же ярко намалеванные холсты, где астрологи, алхимики и всякие волшебники в острых колпаках магическим жезлом повелевают над козлоподобного вида чертями, рубят головы, из которых рекой хлещет кровь, вновь приращивают их, а какие-то коричневые люди глотают огромных, как осетры, рыб, причем вся эта живопись своей наивной безыскусственностью не уступает египетской, времен фараонов. Как и в прочих театрах, в "Усладе" есть свой "гвоздь", о чем возвещает афиша.
Чудо! Читайте! Чудо!
Живая морская нимфа!
Половина рыбы, половина женщины!
Фурор во всех странах света!
Вот в нем только что кончили шестое с утра представление, публика медленно и неохотно движется к выходу, солдаты, красные от натуги, развинтили и чистят свои трубы.
Закоченевшие артисты, пользуясь минутной передышкой, бегут в крошечную теплушку-уборную, где топится железная печка.
– Скорее, скорее! Сейчас опять начинать, брр...
Накинув на плечи рваное пальтишко, придвинулся к самой печке вихрастый, с худеньким и давно немытым лицом, мальчик-гимнаст. Из-под пальто смешно высунулись его мешковато обтянутые заплатанным трико дико-розового цвета ноги и дрожат частою, мелкою дрожью.
– Выпей, Сашка! – предлагает ему фокусник и шпагоглотатель в затасканном фрачишке и бумажном воротнике.
– Верно, согреешься,– поддержал безобразно накрашенный клоун в пестром ситцевом костюме и войлочном колпаке.
Оба они торопливо, жадно глотали из стоящей на столе бутылки и прямо зубами рвали куски от разбросанных по столу воблы и колбасы. Мальчик дрожал и не обернулся.
– Ну, дьявольская стужа! Пальцы прищипало...– трясется одетый в пестрядинную рубаху и лапти Сенька-комедьянт с балалайкою в руках. Он тоже пьет из горлышка.
– Этакие морозы, помню, были в позапрошлом году...– сквозь чавканье замечает "партерный акробат", человек уже немолодой и несчастного вида погибшего пьяницы.
Входят девицы в якобы малороссийских костюмах, с истрепанными, грязными тряпичными цветами и лентами на головах. Они посинели и тоже наперерыв тянутся за бутылкой, а некоторые, в ожидании, с дикой алчностью кусают и жуют с кожурой соленые огурцы.








