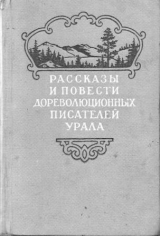
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Нельзя все же переоценивать значение этих рассказов. В художественном отношении они значительно ниже рассказов на бытовые темы. Этим, в частности, объясняется отсутствие их в сборнике.
Социальная тематика творчества Колотовкина широка и разнообразна. Если он в своих рассказах часто касался таких вопросов, как безработица, правовое и экономическое положение рабочих, то не могла его не заинтересовать и жизнь уральской деревни.
Крестьянское разорение, усиленное неурожаями, гонит из родных мест хлеборобов. "Никто, милый ты человек, от хорошего житья со своей родной земли не двинется, никто! – резюмирует замухрышистый, испитой, неопределенного возраста мужик, в армячишке заплата на заплате.– Нужда, голод да холод гонит... Ведь как живем? О, господи! Земли, прямо сказать, с рукавицу, лесу – не по нашим зубам... Огородиться нечем! Избенка – на веретене встряси, из осинок, зимой тут и сам с семьей и телята да овечки..." ("На вокзале").
Творческий путь Колотовкина был недолог, но он ярко отразил эволюцию взглядов и настроений демократической интеллигенции, противоречивость ее мировоззрения, ее колебания.
Период с 1900 по 1905 год закончился выпуском сборника "За горами". В этом сборнике, построенном целиком на материале наблюдений над бытом и нравами приискового населения, писателю удалось подметить не только кровавые драмы, моральное одичание, но и рабочую солидарность, удалось показать тип нового рабочего, готовящегося к борьбе за лучшую жизнь.
Печален рассказ старого шахтера об аварии в шахте ("На отлете"). Еще печальней история Настьки с "бабьей" промывки,– обыкновенная история работницы на приисках ("Около золота").
При всей точности и меткости наблюдений сборник в целом натуралистичен и в литературном отношении не доработан. Особенно это заметно в языке, сухом и вялом.
Следующее пятилетие явилось новым этапом в творчестве Колотовкина, характеризовавшим дальнейший рост его, как писателя. Это чувствуется в более глубокой разработке тем, в более широком охвате социальных явлений, в точности и в тонкости психологического рисунка, богаче становится язык, разнообразней литературные приемы. В рассказах этого периода есть и лирический монолог, и сатирическое изображение, и социальная символика.
С 1910 по 1915 год Колотовкин пишет меньше, но больше работает над своими произведениями. Он создает цикл лирических миниатюр ("Эдельвейс", "Ночные тени", "Дождь шумит" и др.). В этом цикле писатель отдал дань тем настроениям пессимизма и отчаяния, которые овладели после поражения революции 1905 года широкими кругами интеллигенции. В миниатюрах этих лет мы видим стремление автора уйти от общественности в "темную пещеру" собственного "я", желание "заснуть навсегда", "чтобы все забыть, никогда более ничего не чувствовать". Любимыми эпитетами становятся: "черный", "унылый", "бледный", "холодный".
Несмотря на эти колебания, а иногда и прямую зависимость от господствовавших в дореволюционной литературе декадентов и символистов, все же господствующей и ведущей в творчестве Колотовкина была здоровая реалистическая и демократическая струя. Лучшие его рассказы посвящены трудящемуся и эксплуатируемому люду и являются художественной иллюстрацией тех процессов, которые предшествовали Великой Октябрьской революции. Рассказы согреты чувством человечности, озарены светом передовых идей эпохи – идей демократизма и гуманизма.
Тема "маленького человека" перерастала у Колотовкина в тему одинокого человека. На кучера Еремея свалилась большая беда: "в одночасье захворала и через двое суток отдала богу душу баба". Не с кем поделиться Еремею своим горем. Он идет в трактир и изливает перед случайным собутыльником наболевшее сердце ("Гуси").
Писатель ведет нас в сырые подвалы "с плесенью и мокрицами", где "пирогов никогда не пекли и дров не имели" ("С голоду"). Душно жить и в опрятных комнатках, с геранями на подоконниках, с граммофоном и птичьими клетками. "Вот уже настоящее счастье выпало девушке!" – в один голос твердили Танечке, когда она стала женой официанта Андрея. А в чем же заключалось счастье? Считали деньги, гуляли по Сухаревке, играли в шестьдесят шесть, мечтали о собственной столовой и даже о маленьком ресторанчике ("Будни").
Задыхается в этом мещанском раю хорошая девушка Таня, зато благоденствуют такие, как торговец Архип Фролыч ("Благодетель"). "В церковь он приходит ранехонько, вместе со старухами, к часам". А за прилавком "будто крест на себя принимает из христианского снисхождения к человеческой греховной слабости".
Из деревенских рассказов Колотовкина нужно отметить такие, как "В деревне", "Обида", "Новое", "В люди вышел".
Тяжелой тоской веет от последнего рассказа. Старуха-мать собралась проведать сына. Сын "устроился" в городе и сумел-таки "в люди выйти". Драматизм рассказа достигает своей кульминации в сцене встречи матери с сыном. Для сына эта встреча – неприятный "суприз". Пестрядинная юбка и деревенские "коты" родительницы компрометируют его перед сослуживцами, напоминают о былой бедности.
В литературном наследии Колотовкина следует выделить жанр сатирических рассказов. К этой категории относятся: "Житейское", "Сокровенное", "Недоразумение", "Своя своих", "Кровью своего сердца" и др.
Лучшими из вещей этого жанра являются рассказы "Своя своих" и "Кровью своего сердца". В первом из них писатель высмеивает "власти предержащие", готовые поступиться всеми прерогативами, когда им предстоит столкновение с теми, в чьих руках деньги,– то есть настоящая власть.
"Кровью своего сердца" – очень злой шарж. Читая его, невольно вспоминаешь острые тирады Горького в адрес изолгавшегося, исподличавшегося русского интеллигента.
Колотовкин умер в расцвете творчества. Он не смог вырасти в крупную литературную силу. Но он был правдивым писателем-демократом, создателем бытовой новеллы, проникнутой социальными мотивами, и это является вкладом его не только в уральскую, но и в общероссийскую литературу.
Печатается по тексту книги: Ив. Колотовкин. «За горами» и другие рассказы. Екатеринбург, 1905, с незначительными сокращениями.
Стр. 256 в эйфеля – в мягкую породу, остающуюся после промывки золота.
Стр. 258 Фарт – удача.
Стр. 260 самородку подняла – на Урале самородок золота называют самородкой.
Стр. 261 об вагу – поперечное поддерживающее бревно.
В ЛЮДИ ВЫШЕЛ
I
Еще с осени бабушка Феоктиста запоговаривала о поездке к сыну. Дорога к нему была дальняя, в своей деревне старуха безвыездно изжила век, и было немного страшно покидать родные места на старости лет. Поэтому она первое время не решалась серьезно думать об отъезде, не смела высказать свое желание, а только все чаще заводила речь об этом издалека.
– Ох-хо-хо! Что бы Калистратушка надумал попроведать меня... Умру, внучек своих не доведется поглядеть. Здоровьем-то нынче стала что-то больно скудаться,– жаловалась она соседкам.
Дочь ее, Марья, и зять при этом упорно молчали, не желая понимать, к чему заговаривает старуха. Разве уж когда Феоктиста шибко разноется, жалуясь на обуявшую ее тоску по сыне и внучатам, намекая при этом, что родной сестре нужды нет, жив ли, здоров ли братчик, Марья не вытерпит и с сердца скажет другой раз:
– Мы, слава богу, сыты своим крестьянским куском, нечего нам из его рук-то выглядывать! Не больно он нас-то помнит да чествует... Богат, видно, больно стал, а нам тоже нет большой нужды богатству его кланяться!
– Ну, что заскулила! – прикрикнет на Марью муж, тоже никогда не вспоминавший про шурина. Все замолчат, а Феоктиста после этого начинает сердиться на дочь и на зятя, с особым ожесточением накидываясь на работу. У нее тогда гремят горшки и ухваты, потом она начинает всхлипывать и отказывается садиться за стол.
– Бабушка, иди обедать, а бабушка! Иди!– теребят ее внучата, когда не удавалось дозваться Марье,
– Не хочу я, дитятки, не хочу! Садитесь сами-то... Поила-кормила детонек, растила, а чего дождалась,– ворчала она вполголоса, чтобы слышали дочь и зять. Начинались извинения Марьи, зять тоже упрашивал, и Феоктиста не могла устоять, садилась за стол и уж здесь давала волю своим слезам и жалобам.
– Мне то что его богатство! Не за богатством я гонюсь... Тоже ведь сын, сердце-то у меня об нем, поди, тоже болит али нет? По мне оба равнаки, хошь сын, хошь дочь, палец-то, который не укуси, все больно! – пеняла она, всхлипывая и сморкаясь в уголок передника.
После одной из таких сцен размолвки и примирения зять как-то сказал Феоктисте:
– Что же, мать, нешто мы держим? Поезжай, попроведай, увидишь там... Поглянется – останешься, а тоскливо будет – Калистрат тебя отправит. У нас завсегда тебе угол найдется...
Марья присоединилась к мужу, а старуха расплакалась, на этот раз уже от радости. Никогда еще, кажется, не работала Феоктиста с таким проворством, как в эту зиму. На масленице она внесла в избу кросна, основала и с чистого понедельника принялась за тканье.
– Нет, уж я оботкусь сперва, с огородами вам управлюсь, а там, бог даст, и к сыночку отправлюсь! – заявляла она Марье на ее уговаривания ехать в город теперь же. Старуха от сна отбилась, из рук не выпускала работы, чтобы скоротать время и выказать дочери с зятем свою благодарность за их сочувствие к ее материнской тоске по сыну.
Петухи уж пропоют, бывало, проснется Марья, а Феоктиста все сидит за своими кроснами, и мелькает-мелькает челнок, стучит бёрдо под ее сухими, старыми руками.
– Мама! Что это ты до коей поры сидишь,– окликнет дочь.
– А! – встрепенется старуха,– да вот цевку докончить охота... Ты спи, я вот сейчас тоже ложиться стану... Спи, Марьюшка, спи!
Проснется поутру Марья, а Феоктиста уж печь затопила, хлебы месит, скотину поит. Когда она спала – неведомо. Управится по дому – и опять за кросна. Ткет и думает о том, как она поедет к сыну, как будет глядеть на него, сидеть да говорить с ним. Как сноха ей обрадуется да обласкает, а внучаты полезут к ней на колени. Феоктиста хитрила, говоря об одинаковой любви к детям, Калистрата она любила больше Марьи. Дочь была еще совсем неразумное дитя, когда Феоктиста осталась с двумя сиротами на руках после покойника мужа. Калистрату же шел тогда девятый год, и рос он мальчишкой смышленым, толковым, судил с матерью о горести их положения и все утешал, что скоро подрастет и будет им с Машуткой подпорой. Мать подумала было взять его из школы, он разъяснил ей, что без грамоты ему никак не можно, и Феоктиста во всем с ним соглашалась, работая по чужим людям для пропитания себя и сирот. По тринадцатому году отдали Калистрата в подручные мучному купцу в город, по совету приходского батюшки и по просьбе самого мальчугана, мечтавшего стать настоящим человеком и помогать матери.
Шли годы. Изредка Калистрат присылал домой трешницы и пятишницы, заходили соседские ребята и читали Феоктисте его письма, а она заливалась горькими слезами. Раз под рождество приехал и сам он, бравый, красивый паренек, одетый по-городскому, и привез матери шаль и фунт чаю, а сестре на платье. Все соседи тогда приходили глядеть на Феоктистина сына, а он показывал им свои наряды, часы с серебряной цепочкой и удивлял рассказами о благородном городском житье купцов и приказчиков. Прожил он тогда два дня и уехал, жалуясь на деревенскую скуку.
Когда к Марье присватался жених, Калистрат прислал на свадьбу тридцать целковых и отписал, что сам приехать не может, потому что хозяин назначил его старшим приказчиком. После того письма и деньги приходили от него редко, и Феоктиста частенько забегала в волость справляться, не чая уж и получить вести от сына.
Наконец, пришло страховое письмо и при нем фотографическая карточка, на которой Калистрат снялся с какой-то нарядной барышней в буклях и с корзинкой цветов, в руках. В письме он писал, что это невеста его, хозяйская дальняя родственница; мать и сестру с мужем он приглашал на свадьбу, но о деньгах на дорогу старухе не заикнулся. Старуха была вне себя от радости и всем показывала карточку, а Марья и зять, едва взглянув на фотографию, избегали говорить об этом. После того Калистрат еще раз наезжал в деревню, отписываться от общества, но пробыл недолго: напился чаю, подарил матери пять рублей, пообещал выписать ее поглядеть на внучку и уехал на земской паре.
С тех пор миновало три года, и от Калистрата было получено несколько писем, одно с уведомлением о родившемся у него сыне. Последнее письмо заронило в душу Феоктисты пламенное желание повидать сына и его семью.
Прошел великий пост, миновала святая. Прилетели скворцы, мужики выехали в поле. Баушка Феоктиста подняла на вышку кросна и принялась за огород. Близко Николина дня она покончила все работы и приступила к окончательным сборам.
– Уезжает наша Феоктиста Тихоновна,– глядя на ее сборы, горевали то и дело завертывавшие к ней соседки,– умрешь в городе-то, схоронят на чужой стороне и на могилку к тебе побывать не доведется!
– Прощай, милая соседушка, последняя моя подруженька!– причитала полуслепая Матрена.
– Ну, не на век уезжаю, что прощаться-то! – храбрилась Феоктиста, хотя и у самой на сердце кошки скребли от таких речей, да уж больно охота взяла любимого сыночка повидать.– Бог даст, вернусь,– утешала она.
– Где уж вернешься! У сына-то, чай, почет да спокой... Заживешь одна рука в меду, другая в патоке... Город, так уж город, что говорить...– Марья в таких разговорах не принимала участия, делалась угрюма и принималась бесперечь бегать из избы в сени, и беда, если кто подвернется к ней под руку.
– Куды! Куды лезешь, подлая тварь! – И было слышно, как она палкой вымещает свое сердце на пакостливой телушке.
Рано утром зять запряг лошадь, поставил в телегу сундучок, положил мешок с хлебом, и бабушка Феоктиста начала прощаться. Марья не вытерпела, наконец, и завыла, обхватив мать.
– Ну, где вы еще там? Опоздаем на чугунку-то! – крикнул со двора зять, прилаживаясь на облучок.
Феоктиста отцепила от себя дочь, внучат и уселась на телегу, тоже очень растроганная.
– Ну, благословляйте! – сквозь слезы сказала она.
– С богом! Отпиши, как приедешь-то, слышь!
Мужик хлестнул по лошади. Бабы долго еще стояли посреди улицы, глядя вслед громыхающей телеге. Вскоре она скрылась за косогором.
II
Феоктиста оставила свой сундук на вокзале и отправилась, с белым холщовым щелгунком за плечами, разыскивать лавку купца Тулупьева.
Ей указали на громадный хлебный амбар, с широко раскрытыми дверьми, на манер ворот. Внутри него белелись стены и коридоры из мешков с мукой, а около входа сидели лицом к лицу двое сытых, здоровых мужчин в серых от муки куртках и играли в шашки. Они были очень, заняты игрой, громко посмеивались друг над другом и по временам от души хохотали так, что лица у них наливались кровью. В одном из них Феоктиста признала Калистрата, и сердце у нее занялось от подступившей неудержимой радости.
– Здорово живете,– тихонько молвила она, остановившись около двери.
– Что скажешь? – не подымая головы, ответил вопросом на ее приветствие Калистрат, весь занятый игрой.
Она промолчала. Он вскинул голову, с минуту глядел широко раскрытыми, испуганными глазами, и все лицо его вдруг залил неестественный пунцовый румянец. Он так растерялся, что не догадался даже подняться с места, а когда встал, наконец, то не знал от замешательства, что дальше делать и что говорить. Но по мере того, как проходил столбняк, на лице Калистрата вместо испуга все резче обозначалось выражение крайнего неудовольствия и с трудом сдерживаемой злобы.
– Вон что, вон что...– повторял он таким тоном, в котором под удивлением очень ясно проглядывала досада и чуть ли не угроза.– Аль приключилось что, экую даль притащилась? Сидеть бы, ровно, а она путешествовать! – насильно рассмеялся Калистрат, но шутка не удалась, потому что в голосе звучала уже явная злоба.
– Денег надо, так написали бы... Вот сюрприз-то!
– Стосковалась, Калистратушка! Какие там деньги, внучаток поглядеть охота...– виновато пробормотала старуха, озадаченная таким приемом.
– Вон что: стосковалась! Ну, нам здесь тосковать, родная моя, некогда...
– Что, никак родительница прибыла, Калистрат Осипович? – спросил другой приказчик, насмешливо наблюдая затруднение Калистрата.
– Пожаловала, она самая!– усмехнулся и тот, густо покраснев, и еще более рассердился на мать, одетую в пестрядинную юбку и деревенские коты.
– Ну, что ж! Приехала, так уж не воротишь... Зачем сюда-то? Ехала бы прямо на квартиру! – крикнул он ей, как глухой нищенке, зашедшей с чистого крыльца, и позвал дежурившую у амбара ломовую телегу. Феоктиста взобралась на нее и поехала.
В доме купца Тулупьева жили и другие его служащие с женами, немало порадовавшиеся между собой, что зазнавалу – старшего приказчика при всем рынке оконфузила деревенская лапотница-мать.
– Что это, Антонина Ивановна, к вам гостьюшка дорогая прибыла? – ехидно спрашивали жену Калистрата то и дело забегавшие дамы тулупьевского двора.– Да где же она? Покажите, душечка! Аль с дороги спать уложили?
Антонина Ивановна бледнела, краснела от злости и, зная, что правда уже все равно всем известна, принялась жаловаться, что свекровь грязная, глупая, деревенская старуха, которую она дальше кухни бесчестным считает провести.
– Да неужели! – ужасались приятельницы.– Вот удивительно-то! Калистрат Осипыч такой господин великатный, вы сами, можно сказать, совсем даже из благородной семьи, а тут вдруг маменька в паневе! Ужасно как неприятно...
– Недаром уж говорится, что самые лютые только три болезни и есть: зубная, глазная да третья – деревенская родня! – заключила Антонина Ивановна, проклиная в душе свекровь.
А Феоктиста как приехала на квартиру сына, то кое-как ее впустили даже и на кухню-то.
– Да ты кто же доводишься Калистрату-то Осипычу, что к нему в гости пожаловала? – допытывалась у нее прислуга.
– Мать буду... родная мать Калистратушке-то...
– Мать? – выпучила глаза баба.– Вот еще где чудь-то! Так уж ты все-таки, сделай милость, обожди, я сперва барыню спрошу... Вот оказия-то, прости господи!– переполошилась она, убегая в комнату, где пробыла недолго, и, выскочив обратно, возвестила, таинственно прикрывая дверь за собой:
– Разболокайся... Обрадовала, маменька, нечего сказать! Барыня-то посейчас в память придти не может... Сам-то, чай, тоже обезумеет, больно уж высоко себя ведет, мне другого имени нету, как только дура сиволапая, в зубах всем барство-то его навязло, а вот тебе и барин! – злорадствовала баба, гремя посудой.
Феоктиста смирнехонько сидела, как пришибленная, почти не слушая словоохотливую стряпуху, а та, даже и не думая считать гостью хозяйской родственницей и полагая ее на одном положении с собой, продолжала костить на чем свет стоит Калистрата и его жену.
– Уж такие-то выжиги, такие выжиги, что не приведи царица небесная! Как двужильная воротишь у них, а все мало им! Я им стряпаю, и за скотиной хожу, стираю, ребят ихних в ванной мою, да все, все делаю, а они даже досыта-то другой раз не накормят, вот тебе святая икона! Все с весу выдает подлая, ложки мне не остается... Отдельно мне обрезь да шеину покупает, язва! Капитал составляют, над всякой копеечкой дрожат да все в банку, все в банку кажинный-от месяц возят...
Феоктиста молча вздыхала, а на сердце ей навалился тяжелый-тяжелый камень, к горлу подступали горячим клубком затаенные слезы. Прошло часа три, как она на кухне. Уж баба перемыла посуду, нагрела воды и вынесла пойло коровам, наставила самовар и не раз сбегала в комнаты на стук в стену. Ни сноха, ни внучата не думают к ней выходить или к себе звать. "Вот ужо сам из лавки придет, позовет..." – думает старуха.
Стряпка снесла самовар и вернулась, ругаясь.
– Долго кипит! Ды что мне самой в него садиться, что ли? Подождите, не велики господа-то... Уж нет того хуже, матка, как у этаких жить, право, ну! Вылезут в люди из нашего брата, так они – не они, изъезжаются над прислугой...
Уже смеркалось. Стряпка успела подоить коров и принесла из комнат остывший самовар.
– Эвона! Да он уж с коей поры дома-то, чаю напились,– рассмеялась баба: – не видела разве, самовар-то я подавала? Теперь мы с тобой пить станем, сахару тебе послала сама-то; у меня ведь свой, а чай-то ихний допиваю. Разве что не хватит двоим-то? Пойду попрошу на запарочку да по пути про сундук-то твой скажу...
"Не позвал! Погнушался... на кухне... сахару два куска..." – вертелось в голове Феоктисты, и она чувствовала, как тоскливо сжимается и ноет у нее сердце, в груди что-то колотит, как смола жжет, душит, и от этого хочется выть, рвать на себе волосы, биться головой об пол...
На другой день был праздник, и Калистрат не торговал, а уехал с женой к обедне, не показавшись Феоктисте. После обедни на кухню вышла Антонина Ивановна в шелковом лиловом платье, с кольцами и браслетами на руках. Едва взглянув на старуху и брезгливо кивнув головой на ее поклон, она взяла блюдо с горячими ватрушками и удалилась, кинув прислуге сопровождаемое подозрительным взглядом:
– Что-то как будто мало вышло у тебя?
– Хватит тебе подавиться-то! – прошипела та. После чая вышел на кухню Калистрат.
– У тебя там что еще за сундучок, сказывают? – встревоженно обратился он к матери.– Уж ты не со всем ли имением, не на жительство ли сюда приехала, а?
– Где же, зачем на жительство... Повидаться только охота было, Калистратушка, детонек твоих поглядеть... Сам знаешь, с коей поры-то не виделись...– робко ответила Феоктиста.
– То-то,– благосклоннее взглянул он.– У меня ведь жить негде, своя семья, тесно... Гостить гости, сделай милость, хлеба не жалко: готовый едим. Когда домой-то думаешь?
– Не знаю...– упавшим голосом прошептала она.
– Ох-хо-хо! Беда с вами, со старухами,– будто устыдившись немного, вздохнул он для смягчения своего вопроса.– За сколько верст притащилась! Деньги на обратную дорогу есть ли? На вот тебе пять рублей. Дал бы больше, да сам не при деньгах сейчас, здесь жизнь ведь дорога, не то, что в деревне. Все ли там у вас здоровы? Ну и ладно. Кланяйся им от нас... Да ты пила ли чай-то? Пей, а то обедайте. Ну, гости, гости, коли охота, хлеба не жалко! – заключил он, уходя, но в дверях обернулся и добавил: – Пойдем, покажу уж тебе внучат, что с тобой поделаешь!
Внучат ей показали у порога чистой комнаты. Сама Антонина Ивановна сидела у окна, капризно надув губы, и даже не шевельнулась в сторону свекрови. Калистрат держал на руках мальчугана, крепкого, розового, а подле него жалась, глядя исподлобья, девочка лет трех. Феоктиста хотела было приласкать ее, но та дичилась и пятилась, держась за отца.
– Я тебя не любу... Ты нехолосая, бяка...– откровенно призналась она, уставившись на морщинистое лицо и худые, темные руки старой бабушки.
Феоктиста глядела на эти красивые комнаты с картинами и цветами, на этого важного господина с нарядными детьми, на чванную барыню в шелках,– и никак не могла проникнуться сознанием, что это близкая ей семья родного сына. Ничего она не чувствовала к ним родственного, все здесь казалось ей таким чужим, далеким, холодным, а в душе накипала скорбная, неутолимая жалость к безвозвратно пропавшему где-то любимому сыну.
Облегченно вздохнула Феоктиста, покинув на третий день этот чужой дом, где ближе всех была ей только добродушная стряпуха.
К своим вернулась она такая убитая, жалкая, будто даже сразу одряхлевшая. С первого взгляда на вернувшуюся так скоро из города Марья с мужем поняли, что с ней случилось там что-то потрясающее, и не расспрашивали. Молча вылезла Феоктиста из телеги, молча вошла в избу и стала раздеваться при том же подавляющем, жутком безмолвии, какое рождает кругом себя человеческое страдание изнывающей души.
Вот Феоктиста опустилась на скамью, обвела замутившимся взглядом выжидательно воззрившиеся лица родных, и вдруг из груди у нее вырвался долгий, наболевший, отчаянный вопль. Все тело ее задрожало от прорвавшихся, долго таимых в себе рыданий, по лицу потекли быстро-быстро крупные слезы. Она упала на стол, билась об него головой и, захлебываясь слезами, кричала страшно, неистово и пронзительно, как от нестерпимой, жестокой пытки:
– Маменька! Что ты? Полно терзаться, полно,– перепугалась тоже принявшаяся плакать Марья.– Что у тебя приключилось-то? Скажи хоть словечко!
– Нету! Нету у меня больше сыночка-а! Нету моего ясного сокола! Не приголубит он меня, старую, не утрет слезу мою горячую-ю! Ой, тошно мне, горемычной! Тошно, тошноо-о..– надрывалась Феоктиста, как над покойником.
А сын для нее и в самом деле умер, как навсегда похоронила его заживо...
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Голос Приуралья", 1907, 16 июля.
Стр. 317 Бердо – принадлежность ткацкого станка, гребень для прибивания утка к ткани.
Стр. 317 Цевка – шпулька, на которую наматывается нитка утка, идущая поперек основы.
Стр. 320 Щелгунок – котомка, мешок для хлеба и припасов в пути.
Стр. 321 Панева – домотканная клетчатая материя, женская одежда, сшитая из такой материи.
Стр. 322 разболокайся – раздевайся.
КРОВЬЮ СЕРДЦА СВОЕГО
Из молодых, но на удивление талантливый и плодовитый писатель Захар Корытников, пишущий под псевдонимом «Наркис Гиацинтов», чрезвычайно любим публикой и популярен в литературных сферах. Все его хвалят, исключая, конечно, бездарных завистников.
– Бесценный человек! Изумительная способность чувствовать момент... бьет всегда в самое живое, больное место... Удивительно! – с умилением отзывались редакторы провинциальных газет.
Читатели... Бог мой, сколько пышных комплиментов приходится выслушивать от них Наркису Гиацинтову!
– У вас благоухающее, нежное дарование... сколько задушевной теплоты, искренности!.. Вам тяжело, верно, жить с таким чутким сердцем?
– Вы избранная натура, оттого и владеете толпою, что пишете кровью своего сердца, это чувствуется!
Такое внимательное отношение общества ободряет молодой талант, воодушевляет. Правда, всеобщие похвалы часто кружат юные головы, но Гиацинтов и тут счастливое исключение: успех не вселял в него ни сомнения, ни пагубного пренебрежения и лени. Молодой беллетрист от этого только чувствовал в себе все возрастающие, неиссякаемые силы, все более проникался благоговейным уважением к своему таланту и горел жаждою самоотверженного служения добру и красоте. Сколько им сделано для святого дела очеловечения этих жестоких двуногих животных! Не спрашивайте, чего это стоило чуткому, нежному писателю: недаром говорят, что он пишет кровью своего сердца.
Да, он не жалеет сил. Не далее, как в три последних дня, им написаны четыре рассказа, три новеллы, шесть миниатюр – все для праздничных номеров самых распространенных газет. Пусть читают, пусть не говорят, что Гиацинтов зарывает свой талант в землю!
Правда, после столь напряженного художественного творчества он почувствовал такую ломоту в спине, точно его молотили в четыре цепа, и заснул, как пожарный после жаркого дела, но сколько блаженного упоения в высоком сознании совершенного подвига! Сегодня проснулся в одиннадцать утра в детски счастливом настроении.
Слава богу, развязался! Можно и отдохнуть после такой титанической умственной работы. Талант, конечно, принадлежит обществу, но носитель этого божественного дара, как хотите, все-таки человек. Как хорошо! Пройдет неделя, и тысячи, десятки тысяч людей будут читать вдохновенные строки Наркиса Гиацинтова. Если даже только половина воспримет, сколько святых слез исторгнется! Да нет! Что половина? Никто не устоит. Восторженные взгляды толпы, застенчивые похвалы почитателей...
– Барин! Вам письмо газетчик принес.– Гиацинтов поморщился, будто его прямо с Олимпа потянули грязными руками в канцелярию частного пристава.
– Что еще там такое? – простонал он, но едва начал читать письмо, лицо его сперва побледнело, потом исказилось страдальческою гримасой.– Вот проза жизни! Вот шипы наших роз! Проклятые барахольщики, помнят, что за мною авансы...
Письмо было от редактора прогрессивной газеты "Осиное жало"; тот убедительно просит доставить к завтрему праздничный рассказ.
– Но у меня для них ничего нет! Что же теперь делать? Что?! Может, пренебрегу? Не починка же это галош с ручательством, черт возьми! Даже срок назначили... А не дать нельзя, никак нельзя... И как я мог забыть об этом треклятом "Жале"! Но что же написать? Что? Положительно ничего не осталось в голове...
Вконец расстроенный, Гиацинтов отказался от кофе, долго метался из угла в угол, потом в изнеможений прислонился к окну, устремив на улицу одурелый, бессмысленный взгляд.
"Жандарм влюбился в политическую арестантку, помог ей бежать, сам сделался террористом-революционером... Нет, не то! Старушка-мать пошла в тюрьму ночью, впоследние прижать к сердцу своего сына, а за городом на нее напали волки и съели. Тоже не годится! Что ж? Возьму и заморожу мальчика у ярко освещенного окна магазина... Нет, нет! Тысячи мальчиков художественно заморожены великими мастерами, я не хочу повторений, пошлых перепевов!"
По переулку, корчась от мороза, бежали солдаты, лошади все превратились в белых, мужики в дровнях кутаются в косматые собачьи дохи. Солнышко светит на той стороне, такое желтое, холодное... Гиацинтов заглянул на градусник – двадцать восемь! Вздохнул, хрустнул пальцами.
– Что это? Боже мой! Неужели? Ну да, ты нашел себя, схватил тему, вот же она, вот! Ведь это для обывателя просто пьяный рабочий, весь в снегу, выписывающий мыслете, а для художника с творческою фантазией? О-о! Благодарю тебя, небо!
Гиацинтов, весь дрожа мелкою дрожью восторженного экстаза, с выступившим румянцем, жадно следит сверкающими глазами за пьяным, беспомощно цепляющимся за гладкие стены.
– Да он же не дойдет до дому! Он не держится на ногах... сейчас упадет, вот-вот... пал!!
Он стремглав кидается к письменному столу, хватает бумагу, от волнения едва попадает в чернильницу, и вот уже перо его с непостижимою быстротою забегало, заскрипело, спотыкаясь и садя кляксы.
"Мрачный, тюремного вида, сырой подвал... По стенам зеленая плесень... Изможденная, прежде времени увядшая женщина ломает руки в безысходном отчаянии и муке. Сердце несчастной страдалицы терзают вопли голодных детей. "Милая мама! Мы умираем от голода! Дай нам хоть черствую корку хлеба! О, зачем вы нас произвели на свет?" – стонут несчастные малютки. Адские страдания искажают бескровное лицо матери, острые ножи вонзаются в ее сердце. Ножи, ножи!.. Обездоленные существа, вечерние жертвы жестоких социальных условий! Напрасно льются святые ангельские слезы, тщетно лепечут невинные уста: "Скоро ли придет наш папа? Он, верно, принесет французской булки и шоколада?" Напрасно, напрасно... Знаете ли вы желто-зеленые вывески? О, не читайте, не смотрите этих желто-зеленых вывесок, если они вам еще незнакомы! Кровью ваших матерей и жен написаны они, дьявол писал эти вывески. Дьявол! Дьявол! Жертва буржуазного строя, он шесть долгих дней изнывал над работой, чтобы получить эти несколько рублей. На крыльях радости стремился к возлюбленной жене-другу, к дорогим малюткам, ободряемый счастливою мыслью: "Они будут кушать суп и кофе с сдобными булками, у них будет тоже праздник..." Леденящее дыхание морозного ветра пронизывает его ветхую одежду, члены его коченеют... О, искушение! Желто-зеленая вывеска... Печальное наследие предков, мучеников и рабов капиталистического строя сказалось, парализовало его волю, заглушая добрые чувства, он остановился. Огненная влага расплавленным свинцом ожгла его внутренности, отуманила его мозг... Мозг, мозг! Внутри горело, точно наелся кайенского стручкового перца, жажда мучила тем сильнее, чем больше он пил... О, смотрите вы, у которых сердце крокодила, прожорливость акулы. Вы хотели отнять у человека и те гроши, что кинули за его обесцененный труд? Вы отняли. Торжествуйте! Вы сначала одурманили, потом ограбили человека, но вас за то не повесят, даже в тюрьму посадят не вас, а его же, если с голода он украдет колбасу, вытащит кошелек... Вот он идет, у которого вы отняли образ человеческий, окоченевший, в рубищах... Несчастный употребляет последние усилия сохранить равновесие, но тщетно: он упал".








