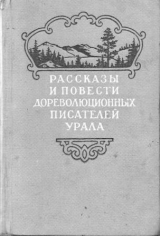
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Нету больше, пустая... Эй, хозяин! Давай водки! Что мы, околевать для тебя должны? Скорее!
Сознавая всю свою зависимость от труппы, старик-хозяин в коричневом сюртуке и нелепом сером цилиндре выездного лакея, беспрекословно подает, заискивающе улыбаясь:
– Холодновато, господа... Грейтесь, да и за дело...
От печки вдруг слышатся всхлипывания, сперва тихие, потом громкие и захлебывающиеся: плачет мальчик-гимнаст.
– Сашка! Ты что это? – рванулся к нему партерный акробат.
– Я... я уйду... не могу больше...– прорывается почти истерическими слезами бедный мальчуган.
Все несколько смущены, окружают Сашку и участливо гладят по голове, утешают.
– Выпей! Пусть он согреется, выпьет...– решает фокусник.
– Нет, нет! Не надо ему... Сашка, глупый ты... какой дурень!
– Ты, Сашка, грейся, грейся пуще...–с таким горячим участием и неуклюжею нежностью даже суетится подле юного коллеги пьяница-акробат, укутывая его, что всем удивительно и даже немножко неловко.
– Собачья жизнь! – шумно вошла Фрося, она же "каскадная певица, любимица московской публики" и "живая нимфа", что, впрочем, уже составляло закулисную тайну "Услады".
Появилась она раздраженная, хлопнула дверью и, ни к кому не обращаясь, залпом выпила чашку водки. Потом тут же наскоро подобрала распущенные волосы нимфы и поверх зеленой кофточки накинула черное платье с блестками, перебросила через плечо золотой веер и приколола огромную шляпу с пунцовыми розами. Все в стиле "Услады" – жалкое в своей претензии на шик.
– Ты бы не очень налегала на монополию-то, еще работать надо долго...– несмело заметил Сенькако-медьянт.
– Не твое дело! – сверкнула глазами, отбросив загрызанный огурец.
При ее появлении вдруг почувствовалось какое-то замешательство, все замолчали. Может, и из почтения к блеску примадонны, а больше потому, что смутно и тревожно ожидали чего-то очень скандального. Дело в том, что в интимной жизни "нимфы" и Сеньки-комедьянта свершился разрыв, что Фрося очутилась далее, чем когда-либо, от осуществления мечты о "хорошей жизни", ибо Сенька-комедьянт забрал вперед за себя и за нее, не ночевал дома и вернулся без копейки. Объяснения их после того – семейная тайна, только "нимфа" сегодня все запудривает синяк под глазом, пьет на отчаянность и держит себя вызывающе задорно. Все ее поведение не предвещает ничего доброго, отсюда всеобщая настороженность, скрытое уныние.
– Господа, в "Фантазии" и "Очаровании" кончили! Пожалуйте! – оповестил старичок в сером цилиндре.
Все заспешили, ринулись из уборной: предстояло поддержать престиж "Услады". Хотя, казалось бы, какое им дело до хозяйского кармана. Но тут стояло на карте реноме всей труппы и каждого в отдельности.
И вот все уже на подмостках, насквозь пронизанные холодным двадцатиградусным ветром, но – веселые, смеющиеся...
Выходила вперед всех Фрося в своей шляпе с замызганными ситцевыми розами, улыбалась, строила глазки и пела сиплым голосом:
Мой костер в тумане светит...
Потом, разводя руками, кокетливо подбирая платье, плясала, притопывая каблуком, вздрагивая плечами:
Чудо, чудо, чудо,
Чудо, чудеса-а...
– Господа! Не теряйте время, получайте билеты!
Когда, посинелые, трясущиеся, спускались с подмостков, Сенька дернул Фросю за рукав и шепнул виновато, тихонько:
– Не сердись, Фрось! Еще пять дней, еще все можно, ей-богу.
– Пшел от меня к чертям!
Затрубили солдаты, подняли занавес.
– Вот, господа, живая человеческая голова! – величественным жестом указывает старичок в коричневом сюртуке на открытый со стороны публики ящик, в постаменте которого сидит партерный акробат, высунув в ящик свою голову.
– Она моргает. Голова, моргни!
Акробат поднимает веки, несколько раз зверски поводит глазами.
– Она может и курить. Голова, покури!– сует разожженную трубку.
Акробат с удовольствием затягивается и пускает колечки.
– Браво, браво, браво-о!
– восхищается публика.
Опять ревели трубы. На трапеции изгибался мальчишка Сашка-гимнаст, с заплаканным лицом, посылал воздушные поцелуи и улыбался.
– Браво, браво-о!
Колесом ходил партерный акробат, пел, кривлялся и бренчал на балалайке одетый в лапти и пестрядину Сенька:
Барыня угорела, много сахару поела...
– Ого-го-го-о! браво, браво!
Выходила Фрося в черном платье с веером, пела шансонетку, дрыгала ногой, задирая юбки, фокусник ловил из воздуха двугривенные, вынимал из наволочки яйца, глотал шпагу.
– Браво, браво, браво!..
– Браво, браво, браво!..
Потом занавес опустился. Старичок в цилиндре вышел и оповестил почтеннейшую публику о предстоящей демонстрации живой нимфы. Трубы заиграли что-то вроде вальса.
– Торопись, Фросенька, торопись...– робко заглянул в теплушку антрепренер.
– Подождешь, старый сморчок! – грубо засмеялась в ответ, скидывая черное платье и на ходу уже отпивая из бутылки.
Опять нагнал Сенька и шепнул вкрадчиво:
– Не скандаль, Фрось, еще все можно! И ребенка из воспитательного можно, ей-богу...
– Ладно, запляшете вы у меня...– совсем по-волчьи лязгнула зубами и угрожающе засмеялась.
– Ну, теперь все пропало!– махнул рукой Сенька-комедьянт.
– Фросенька, публика требует, не задерживай...– мягким шариком подкатился старичок.
– Что пристал? Публика, подумаешь... всякая сволочь. Подождут!
Не торопясь, подобрала юбки и влезла до пояса в картонный, раззолоченный рыбий хвост. Облокотилась.
– Ну, показывай, что ли, седая кикимора!
Занавес поднялся. Хлопки и крики в публике разом смолкли, оборвался и солдатский вальс.
– Живая, говорящая нимфа, пойманная в Средиземном море. Половина рыбы, половина женщины. Нимфа, скажи, сколько тебе лет?
– Семнадцать! – досадливо, со зла кинула Фрося, лузгая семечки.
– Нимфа, кто твои родители? – растерянно и опасливо спрашивает вдруг заробевший старичок.
– Гм! Черт их знает, кто они были! В воспитательном выросла, потом по прачечным пошла, никаких родителей не знаю! – к ужасу антрепренера, уже совсем не по программе ответила Фрося.
В публике ропот, одобрительный смех, шиканье и свистки.
– Желающие могут убедиться, что здесь нет обмана, что это действительно живая, говорящая нимфа!– спеша потушить скандал, лепечет заученные фразы обезумевший старик.
Когда "желающие" обступили вплоть и бесцеремонно разглядывали и ощупывали, Фрося по привычке состроила томное лицо, протянула руку вперед и заигрывающе, умильно вымолвила:
– Пожертвуйте...
– Вот тоже! Что они дурачат честной народ?! – вдруг громко выкрикнул какой-то молодец в бешмете и бобровой шапке.
– Нимфа! Да я эту потаскуху за двугривенный со всей ее требухой куплю!
– Господа, господа...– завертелся старичок в сером цилиндре.
– Что?! Это я-то потаскуха? Меня за двугривенный? – мигом вылезла из рыбьего хвоста Фрося.– Это, может, жена твоя по двугривенному идет, паршивец ты этакий, а у меня ребенок есть, я тебе не потаскуха!
И прежде чем могли опомниться, она со всего размаху влепила обидчику звонкую затрещину.
Поднялся невообразимый гвалт, рев, шум.
– Это разбойничье гнездо! О-о! А-а!
– Бей их! Обман! Деньги назад!
Кто-то ударил Фросю, и по лицу у нее течет кровь, кто-то изорвал на ней кофточку, дергали, толкали... Антрепренер скрылся, а откуда-то выбежал бледный, перепуганный Сашка-гимнаст, и его ударил по голове купец в лисьей шубе.
– Бить нельзя! Эй, нельзя бить! За что бьешь мальчонку?
– Полицию надо сюда! Зови полицию!
С улицы напирала любопытная толпа, верещала, как под ножом, кассирша, отстаивая хозяйские деньги; надрываясь, жалобно и тревожно плакал полицейский свисток.
Через десять минут порядок был восстановлен. На сцене "Услады" распоряжался околоточный и чинил допрос.
– Ты кто такая? – строго обратился к Фросе.
– Не больно тычься, я тебе не родня! – ответила та, сморкаясь кровью и глядя на полицейского чина насмешливо и враждебно.
– Что?! Кто ты, у тебя спрашивают?
– Не фыркай! Почище видали, да редко мигали... Нимфа я.
– Я тебе дам нимфу! Я тебе покажу! Паспорт есть?
– Это она, вашескородие! Которая нанесла мне оскорбление... словами и действием, она...– подсказывал молодец в бешмете.
– Знаю. Это еще что за шут гороховый?
– Позвольте представиться... антрепренер-с... простите, такое досадное происшествие...
– Знаю. Айда все за мной! В участке разберем!
С этого вечера театр "Услада" был закрыт, к вящей радости конкурентов.
О труппе его ничего неизвестно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1909, 25 декабря.
СВОЯ СВОИХ
Тому бы, известно, по дружбе объясниться келейно, посоветовать приятелю не говорить напредки непотребных слов, за которыми, как ему было известно, и крамолы-то никакой не таилось. Так вот поди ж ты! Не знаешь, где упадешь. Законность какая-то на ту пору обуяла, служебное рвение... Ох, если бы да знать тогда! Не знал.
Вот и приехали на промысла хорошие гости: мундирчики с иголочки, шпоры позвякивают, все-то на них блестит, сверкает. Красота! Приняли отменно: бал, ужин с шампанским, музыка, дамы... Уехали, очарованные сами и всех очаровав. Долго воздушными поцелуями обменивались. Управляющий после того так полюбил военных, что стал свято чтить не только царские дни, а и все кавалерийские праздники. Даже флагов нашили в большом изобилии.
Только господин исправник после ближайшего первого числа не получил с промыслов традиционного конвертика с лаконическим: "в собственные руки". Изумился, подождал недельку.
"Может, забыли просто... Хотя, как забыть? Ну да мало ли! А вдруг да... Нет, нет!" – сам испугался мелькнувшей догадки.
И неделя, другая прошла, а конвертика нет как нет.
– Господи, неужто? Конечно, по закону не обязаны, просить нельзя... Да разве одни писаные законы? Освященный веками обычай стоит закона, уважение его не менее обязательно...
Пришло следующее первое число и опять не принесло ничего. Выходило уже – не забыли, а наоборот,– припомнили.
– А, вы вот как! Хорошо же, посмотрим. Пока не трогали закона, жили да радовались:
– Ах, что и за исправник! Ему бы губернатором...
– Вот это – управляющий... Не копеечник! Сейчас видна натура, размах... Белая косточка!
А как попутал лукавый в недобрый час на законы опереться, и пошло:
– Хапуга! Держиморда! Я ему покажу, полицейской крысе...
– Выжига, вор, нигилист! Ему в остроге сгнить мало!
И чинили один другому всякие каверзы, пакости.
Событие исключительной важности, задолго оповещенное в «Ведомостях» и взволновавшее уездные сферы далекой окраины: едет «по епархии» преосвященный. Трепетали батюшки, морщились церковные старосты и монастырские казначеи.
– Понимаете: сам владыка! Особа! – внушительно подымал палец озабоченный исправник, раздавая инструкции. И становые пристава сломя голову летели сгонять народ для починки дорог.
Одновременно с этим вздумал обозреть свои владения какой-то Шляхтин, личность неизвестная; по крайней мере газеты о поездке его не обмолвились, никаких распоряжений на сей предмет от начальства не последовало.
– Мало ли тут директоров всяких компаний, владельцев и золотопромышленников ездит! Видали этого добра...
Так, разумеется, думал и владыка; вернее – совсем не думал, что поездка какого-то Шляхтина и его собственное путешествие могут составлять равноценные события, одно на другое влиять.
И однако на первой же после железной дороги почтовой станции пришлось услышать неожиданное:
– Каки теперь лошади! Все с Шляхтиным убежали.
Владыка, узнав о причине задержки, вопросительно, с тихою укоризною поглядел на сопровождавшего его исправника.
– Это недоразумение, ваше преосвященство... не извольте беспокоиться...– забормотал, краснея. И выбежал во двор.
– Что?! Да знаешь ли, что я могу с тобой сделать?– накинулся на почтосодержателя.– Кто едет-то? Как ты осмелился!
– Воля ваша,– развел тот руками,– только вон две пары стоят, потому, ежели для казенной надобности, без коней тоже нельзя...
– Я с тобой после разделаюсь,– зловеще прошипел исправник,– доставай скорее вольных!
– Нету вольных, восемнадцать троек под Шляхтиным ушли. Начисто! Подождать, не иначе, придется...
Точно вдруг потеряв способность речи, исправник несколько секунд стоял, выпуча глаза. Мужик, потупясь, ковырял в носу. Потом точно кто плашмя ударил лопатой по чему-то мягкому. Раз, другой... Мужик покачнулся.
– Ваше скородие, владыка требуют!
Мужик как ни в чем не бывало высморкался кровью в подол рубахи, покрутил головой, ухмыляясь хитро и самодовольно всей физиономией, и отправился куда-то по хозяйству.
– Так-таки и нет лошадей? – коротко спросил преосвященный. Исправник, заикаясь, принялся со страха в чем-то оправдываться.
– Ну что же, я подожду, да...– проникновенно поглядел владыка.
Выехали только через семь часов, на измученных обратных лошадях. На всех следующих станциях повторилось то же самое; почти сказочные подробности рассказывались о проследовавшем поезде Шляхтина.
– Кто же вам коней оставит? Он по три целковых на водку дает, по десятке за тройку с перегона!
– И секлетари с ним, и доктора, и повара, а камердин весь в медалях да прозументах... Одних генералов, чай, до десятка!
– Нет, ведь это пренебрежение, насмешка какая-то... Я буду жаловаться! Так нельзя... Не мне, скудоумному и убогому, а сану моему довлеет, за себя я все прощаю, но здесь оскорблен представитель...
– Простите, владыка! Я в отчаянии... я, видит бог, всей душой...
– Я вас и не обвиняю. Понимаю, вижу, как вас убивает. Тут золотой телец... Да кто же, этот муж?
– Владелец промыслов... еврей, ваше преосвященство... Сейчас узнал, что царский прием на границе его владений оказан, священник похвальным словом приветствовал...
– Как? Православный священник? Иудея? Кто же этот иерей?
– Из его имения, Феогност Купелин! –с готовностью подсказал исправник, родственницу которого этот самый отец Феогност сжил с места учительницы.
– Возмутительно! Православный священник... иудею! Надменному гордецу, из-за которого епископ терпит надругательства... Нет, я буду требовать правосудия!
– Смею ли просить, владыка, вашей защиты и представительства пред господином губернатором? Я все делал...
– Вполне, всеконечно, можете располагать моим покровительством! И от себя, и за вас стану протестовать против дерзкого неуважения к власти...
По приезде в городишко преосвященный отправил жалобу в губернию, а отцу Феогносту отрешение от должности с предписанием немедля явиться пред владычные очи. Отсюда же, ободренный архиереем, исправник почтительно, но властно потребовал из управления промыслов сведений: какими видами на жительство располагают прибывшие туда лица и имеют ли вообще право жительства в губернии, будучи иудейского вероисповедания? Торжествующе улыбался, потирая руки.
С триумфом, действительно, невиданным, въехал Шляхтин в свое имение, в котором могло бы вместиться все царство Польское. И дом, над которым день и ночь работало несколько сот человек, был похож на дворец в этих дебрях: до тридцати комнат, с великолепною мебелью из столицы, с дорогими материями по стенам, ливрейные слуги, флаг на кровле...
Все это понадобилось для месячного, первого и последнего, конечно, пребывания на промыслах их владельца.
Странную, невероятную бумагу от исправника получил управляющий. Даже из рук выронил, как прочел, испарина прошибла. Побежал за советом к личному секретарю Шляхтина.
– Извините, не смею доложить его превосходительству сам... Вот видите, исправник... грубый и невежественный человек, конечно...
Секретарь отнесся совсем необычайно. Читая, все выше подымал брови, улыбаясь, а кончив, вздернул плечи и громко, весело захохотал.
– Черт возьми! Хорошо, я доложу...– сквозь смех едва мог ответить.– Для курьеза, само собой! У него – паспорт?.. Нет, каково! Доложу обязательно... Паспорт! А? Курьез, курьез...
Едва ушел управляющий, как прибежал встревоженный, запыхавшийся отец Феогност и просит непременно личного свидания с владельцем. Очень доступный вообще, тот сейчас же принял.
– Ваше превосходительство! Защитите, помогите! Семеро детей... Что же я такого сделал? Ваше превосходительство! – взывал обескураженный попик, потрясая архиерейской бумагой.
Перед обедом лакей Шляхтина принес в контору депешу, объяснив, что приказано отправить с нарочным.
"Видно, губернатору",– подумал управляющий.
Но, прочитав адрес и текст телеграммы, разинул рот и замер в благоговейном ужасе.
После богослужения в соборе владыка проследовал к градскому голове. К обеду съехалось все, что было именитого, богатого, чиновного. Когда зашла речь о неудобствах дорог, преосвященный пожаловался на сугубые тяготы и лишения, испытанные по милости какого-то проезжего Шляхтина.
Это вызвало среди гостей неловкое замешательство. Разговор на минуту оборвался, кое-кто переглянулся.
– Вашему преосвященству, вероятно, неизвестно, что это тот самый... известный, не только русский, а общеевропейский банкир, обладатель колоссальных богатств? У него огромные связи. Очень жаль, что вам пришлось претерпеть, но... тут уж всякая власть, к несчастию, бессильна! – заметил один из гостей.
– Да-а... До ста миллионов состояние! – вздохнул другой.
– По всем дорогам экстренный министерский поезд подают!
– Губернаторы встречают, а коли изволит почивать, губернатор ни с чем возвращается, только на вагон посмотрит...
– Еще бы! Тут и с министрами не очень почтительны, должники и клиенты есть повыше... По всему свету владения, сто миллионов! За достоверное известно, ваше преосвященство, что на балах у него бывают...
Тут следовали имена, от которых владыку хватило холодком, а когда вспала на память отправленная жалоба, бросило в жар.
– Из сего, мнится, можно заключить, что... что эта персона занимает до некоторой степени официальное положение в высших сферах? – прерывающимся голосом вымолвил он.
– О да! в самых высших, ваше преосвященство... Крупнейший жертвователь, благотворитель, почетный член и глава всяческих обществ, учреждений...
Тут следовал, вместо ошеломляющих имен, цикл анекдотов и легенд о Шляхтине, от которых волосы становились дыбом.
– Понимаете, среди бала сама пошла собирать в пользу раненых... Ну, кто откажет? Триста, пятьсот рублей вынимают... А он вырвал листок из записной книжки, пописал что-то карандашиком, подает: в любом банке, говорит, получите... Сто тысяч! Тщеславие, конечно, эксцентричная выходка, но какой эффект!
Владыка почувствовал себя утомленным и отбыл в монастырь. Там ожидала его срочная телеграмма: "От имени его высокопревосходительства господина... предлагаю, а от себя лично убедительно прошу извинить за причиненные беспокойства и отменить, буде возможно, ваше распоряжение в отношении священника Феогноста Купелина, чем предотвратите многие серьезные мне и, вероятно, другим неприятности. Доброжелательный к вам губернатор".
Точно камень с плеч. Вместо недавней усталости – радостное возбуждение и потребность действовать, действовать... Владыка, почти не обдумывая, без остановок написал обширную, братски нежную телеграмму губернатору, пространно продиктовал отеческое прощение отцу Феогносту, наградил его скуфьей и еще чувствовал в себе избыток силы и благоволения. Но когда доложили об испрашивающем аудиенции исправнике, он вдруг сделал недовольное лицо и объявил:
– Болен. Не принимаю.
Служка, однако, вскоре опять вернулся, смиренно кланяясь и что-то зажимая в руке:
– Очень просят, преосвященнейший владыка!
– Ну, пусть войдет... Что еще там у него?
Принял холодно, глядя совсем в другую сторону, куда-то за окно. И морщил лоб.
– Ваше преосвященство... заступитесь! Без объяснения причин, без суда и следствия... без права поступления навсегда уволен! – из глубины растерзанной души воззвал готовый расплакаться исправник.
– Ну, что ж вам от меня угодно? Я не по вашему ведомству, ничего не могу, кажется, ясно! Не приемлю на себя смелости судить, но... верно, заслужили! Оставьте же меня...
– Вашему преосвященству известно... единственно в интересах ваших, усердствуя за престиж высшей власти... Вы же обещали свое высокое покровительство, ваше преосвященство! – с отчаянием гибнущего выкрикнул забывшийся чиновник полиции.
– Ах, полноте об этом! – вдруг, в свою очередь раздражаясь, повернулся к нему владыка.– Вы воспользовались моей слабостью, греховным побуждением... это стыдно, недостойно! Надо прощать обиды, это долг христианина... И потом... вы ввели меня в заблуждение, да! Сказано: несть эллин и иудей... Это великая, святая заповедь. Вы обманули, вы скрыли от меня высокие добродетели этого человека! Вы солгали, умолчали!
– Ваше преосвященство!
– Я вам это прощаю и... более ничего не имею сказать! Господь с вами...– благословил он и вышел из комнаты.
С тех пор утекло немало воды. Управляющий промыслами Шляхтина получает свои восемнадцать тысяч в год, владыка занимает где-то архиепископскую кафедру, и даже отец Феогност давно увенчан камилавкою. Только злополучный исправник, спившийся с круга, оборванцем шляется по канцеляриям и ищет "попранную справедливость". Над ним все смеются, а знававшие его прежде иногда дают гривенник.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Приуралье", 1909, 1 марта.
НА ВОКЗАЛЕ
Зал первого класса узловой станции. Одной из тех станций, встречающихся на российских дорогах, что одним названием нагоняют жуть и нудную тоску на путешественников, познавших все прелести пересадок с «приятными» десятичасовыми ожиданиями поезда.
– Второй звонок! Поезд на Ряжск, Тулу, Москву! – с какою-то сдержанной злобою оповещает пробегающий сторож, потрясая колокольчиком: кажется, ему доставляет удовольствие оторвать этих, опротивевших ему людей от еды и питья, сунуть в душные вагоны.
Засуетились, задвигали стульями, спешно расплачиваются, направляясь к выходу.
– А скоро придет почтовый? – цепляется за сторожа дама с страдальческим выражением на лице.
– Опаздывает на четыре часа! – непочтительно, с тупым злорадством кидает он на ходу и кричит уже вдали;– на Ряжск, Тулу, Москву!..
У дамы обиженный вид. С ненавистью глядит вслед удаляющимся счастливцам, что вот сейчас сядут и поедут, куда хотят.
– Затворяйте, пожалуйста, дверь! Тут – дети!– желчно обрушивается на них, поджимает губы и садится с видом невольной покорности затравленного человека.
В наполовину опустевшем зале зажжены яркие калильные фонари в люстрах, лампы на столах, убранных хрусталем, цветами, фруктами. Кое-кто из ожидающих располагается поудобнее на плюшевых диванчиках и дремлет, другие нервно шагают взад-вперед, хмурясь и шумно чиркая спичками. Официанты с равнодушно-тоскливыми лицами движутся бесшумно или стоят у буфета, точно спят с открытыми глазами.
С края за общим столом сидит упитанный старец с библейской, белой, во всю грудь бородою и жирно смазанными, еще совсем темными волосами. Лицо у него разогрето, крошечные плутоватые глазки затуманились. Откинувшись на спинку стула, он благодушно улыбается, время от времени крестясь широким истовым крестом, благоговейно шепча:
– О, господи! Прости нас, грешных...– И выпивает при этом рюмочку из поставленного перед ним графинчика, закусывает балыком и икрой.
Дальше, какой-то средних лет, необычайно важный и властный с лакеями, джентльмен, а по речи и манерам коммивояжер-купец из "интеллигентных", угощает офицера сигарами, кофеем и ликерами.
– Это мне обходится рублей шестьсот, ну и пускай! Зато ведь хор какой! Разве только в Москве такие... Мне преосвященный тогда за обедом и говорит...
Офицер держится холодновато, с большим достоинством, и хотя принимает угощение, но ухитряется делать это так, что становится ясным со стороны: не ему оказывают любезность, а он удостоивает чести случайного компаньона и дорожного знакомого.
– Господи меня благослови! – все крестится и выпивает набожный старичок. Опорожнил графинчик и пальчиком помаячил официанту насчет другого. Потом выразительно помахал платочком, отгоняя табачный дым.
– Вот стоит по печатному написанное, что курить за столом воспрещается, а промежду прочим, не соблюдают сего,– кинул как бы в пространство.
Офицер разом обернулся в его сторону.
– Извините, пожалуйста, мы вас, кажется, беспокоим?– галантно поклонился, готовясь потушить сигару будто бы.
– Что вы, господин! Нисколь даже, курите себе, курите!– не хочет уступить в вежливости польщенный таким тонким обращением деликатного человека: – Я только к слову, а то что же, помилуйте! Сделайте одолжение...
– Верно, раскольник! Они всегда так: дыму табачного не выносят, а водку пить с двуперстными крестами – сколько угодно...– почти вслух обронил джентльмен гостинодворского пошиба, досадуя, должно быть, что отвлекли внимание собеседника от его повествований о знакомствах с высокими персонами. Правда, офицеру давалось понять о социальном положении его случайного компаньона в совсем не хвастливой форме, а этак вскользь и даже в иронически-снисходительном тоне – надоело, мол, и нисколько даже не занимает! – но, видно, все-таки...
– Господи благослови! – знай старается над вторым графинчиком патриархальный старец, не замечая шпильки.
Впуская клубы морозного воздуха, в зал то и дело входят новые пассажиры. Долго толкутся в дверях, пролезая с картонками и узлами.
– Затворяйте двери! Как не понимать, что тут дети...– всякий раз встречает пришельцев нервозная дама.
Одна прибывшая компания оказывается знакомой тому именитому коммерсанту, что угощает офицера. Трое мужчин и дама.
– А-а, здравствуйте! Вот не узнал!
– Богатым быть, хе-хе... Милости просим!
Требуется новый запас ликера, шоколад для дамы.
Офицер чуточку отодвинулся и держится в кругу новых, нежданных знакомых с еще более осторожной, слегка высокомерной учтивостью. Похоже, его начинает шокировать это общество, где сразу завязались разговоры о хитро проведенных и, кажется, не совсем чистых сделках с векселями, замаскированно хвастливые повествования о беседе запросто с губернатором, а все это вперемежку с неуклюжими остротами, пошлыми любезностями по адресу дамы, смачными гастрономическими прениями.
– Докладывают ему, конечно: потомственный почетный гражданин...
– Нет, вот мне раз привезли осетра – это была рыбина!
– Ну, чем удивили, батенька! У меня бывали стерляди с вашего осетра, ей-богу... Во! Аршина полтора!
Совсем уж осовевший благообразный старец разглядывает плакаты по стенам, размышляя вслух:
– И все жиды, армяне да немцы... Ни одной русской фамилии! О, господи...
– Но, позвольте! Как это "не дается", когда я даже и подписываюсь всегда потомственным почетным гражданином?
– Извините, я не спорю, мне только помнится... Может, ошибаюсь, может, и за личные заслуги, кроме духовенства, дается потомственное, может быть...– почти презрительно соглашается офицер, отодвигаясь еще дальше.
– Забыли господа бога и заповеди его, вот он и наслал, как древле саранчу, всякую инородную нечисть по грехам нашим,– изливается в гражданской скорби благочестивый старец.
Все новые и новые пассажиры... Заняты все диванчики, все стулья. Дамы, укутанные в дорогие меха, увешанные золотом, с птицами, звериными мордами и лапами на головных уборах, похожи на каких-то языческих идолов и, повидимому, гордятся этим. Кажется, они с удовольствием вдели бы себе в нос и губы какие-нибудь красивые рыбьи кости, но еще нет такой моды...
– Ах, какая досада: столько ждать... Говорила, спросить по телефону надо было. И лошадей отпустили. Фу, какая глупость!
– Ну, что ж? Все к лучшему! Успеем поужинать. Эй, человек! – сделал строгое лицо только что ухмылявшийся пижон.
– Только стерлядь сварить обязательно в белом вине, иначе я не ем! Есть у вас сотерн? Ах, я такая капризная!
– А мороженое фисташковое, слышите? Непременно фисташковое, непременно!
– Что это? – свирепо уставился на официанта какой-то важный чиновник, приготовившийся покушать:– Как подаешь, спрашиваю я тебя?!
– Извините-с...– заробев, лепечет недоумевающий "человек".
– Дурак... Пшел! – с гадливой миной делает пренебрежительный знак рукой.
Упитанный буфетчик прислушивается в священном трепете и встречает несчастного официанта; как ястреб свою жертву, гневно шипит, сверкает глазами на его неслышные оправдания и долго с тревогой приглядывается к сановитому, грозному господину. А тот, довольный нагнанным страхом на безответного лакея, успокоился уже и кушает, аппетитно чавкая.
– Гинет матушка Россия, гинет...– скорбно кивает головой осушивший второй графинчик богобоязненный старец и глядит на официанта с кроткою укоризной: – Так нет, говоришь, растегаев?
– Нет-с. Вот по карте – что угодно.
– М-м... Кансоме да штенглицы какие-то, нерусское все... Все и везде... О, господи!
– Он мне: не могу, дескать, вот ежели по полтинничку...
– А я его тут и пристукнул своей накладной! Как, мол, нравятся мои тридцать вагончиков? И на гривенничек, говорю, дешевле вашего, расторговаться-де хочу... Ну, тут другой разговор, конечно! Полный рублик, только проезжай дальше, голубчик мой!
– Дайте шампанского! Да чтобы холодное, слышите!
– И фруктов! Ах, если бы здесь были персики...
– А мне жареного миндаля. Шампанское и миндаль – прелесть!
Буфетчик, насторожившись, заметался, как акула подле корабля, почуявшая бурю и поживу. Засуетились, забегали официанты...
Зал третьего класса – что-то вроде длинного и грязного манежа – едва полуосвещают мерцающие лампы на чугунных колоннах. С первого взгляда похоже, будто попал на бранное поле после горячей сечи, точно и пройти невозможно средь этой сплошной массы повергнутых тел, где в беспорядочных кучах перемешались головы и руки, лохмотья овчин, ноги в лаптях и валенках, солдатские шинели и белые холстяные котомки. И нельзя понять при виде этой человеческой груды на заплеванном каменном полу, которые кому принадлежат перепутавшиеся руки и ноги; кажется, случись переполох, и сами обладатели их не скоро разобрались бы. А над всем этим – тяжелый, отравленный, спертый воздух...
Только осмотревшись, удается разглядеть отдельные лица: мужские и женские, старые и молодые, устало-равнодушные и озабоченно-грустные. И как увядающие полевые цветы средь свежескошенного сена, выделяются детские личики из этой грязной кучи оборванных людей и их нищенского скарба. Истомленные, печальные личики.








