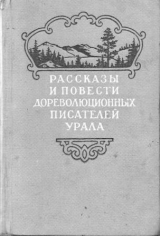
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– У меня, отец, другое на уме... Может, и не глупее твоего!
И, когда неторопливо, обстоятельно изложил свой план, отец казначей мог только воскликнуть:
– Соломон! Нет, мудростию превзошедший Соломона!
Хватил, конечно, через край, но почтенный иеромонах вообще не признавал меры ни в чем, что мог бы засвидетельствовать и смиренный послушник Евтихий, едва успевавший убирать пустые бутылки.
А на другой день у отца игумена был званый и необычайный гость: становой пристав. Приняли его отменно, с великою почестью, как архиерея, но без колокольного звона, однако. Достоверно известно было из поварской, что варили, жарили, извлекая все сокровенное из погребов и кладовых, даже до полуночи.
Келейник Евтихий рассказывал после на трапезной, будто речь велась потаенная, но ему, якобы нечаянно, удалось подслушать, что говорили о глинянском юродивом Егоре, будто становой то и дело обещал: "Будьте спокойны, после моих увещаний на все согласится..."
– Тут отец настоятель взялись за ключи от шкатулки и меня из покоев выслали,– заключал свои повеетвования Евтихий. И при этом всякий раз почему-то вздыхал горестно, будто становой и настоятельская шкатулка странным образом ассоциировались у него, рождая элегическую грусть о каких-то прекрасных и несбыточных мечтаниях...
На "Алексея, божия человека,– с гор вода", в самом деле, выпала такая ростепель, что и ночью нисколь не подстывало, капель не унималась, а в полдень уж катились целые потоки талой воды. По всему выходило – быть ранней весне.
Об этом думает и древний привратник отец Герасим, грея на солнышке свои старые кости. Приглядывается мутными глазами к черным буграм оттаявших полей, прислушивается к звону ручьев, к птичьему гомону, ведет ласковую беседу с докучными сизарями.
– Ну, что, тепло учуяли, а? Ишь, вы... Ну-ну, пошли, что на руки лезете! Еще крошечек? А вот и не дам, да... Ну, нате уж! Да что крыльями-то прямо по глазам хлещете? Обрадовались... Ну-ну, ладно, озорные, право...
Улыбается. Потом забывает о голубях, смотрит вдаль слезящимися глазами и думает:
"Стар уж, стар... Пожалуй, и не дожить до другой-то весны... А и то сказать, пора уж костям на покой, ох, пора! Все-то болит да ноет... Коли по правде, и верно рассудил отец рухальный: на что добрые сапоги? Ноги-то уж все равно не ходят? Не ходят, да... Отходили!"
Что-то далекое вспоминается от этих теплых солнечных ласк, слабо и смутно, жалостно-бессильно. Будто разворошили до земли забытый, сгнивший без толку зарод, а под ним уж давно заглохли, умерли все корешки трав и цветов, и уж ни одна-то былинка не проглянет, не зазеленеет под животворными лучами весеннего солнышка.
– И памяти прежней не стало, рассудка, настоящего чтобы, нету... Непонятно все как-то, словно пеленой какой застилает...
Много непонятного вдруг подымается в старой голове отца Герасима, и ничего не развяжешь, не разберешь. Будто рыбу руками ловит: вот тут она, стоит, пригретая солнышком, уж совсем твоя, только взять, а сунулся – и нет ничего, только вода еще больше замутилась...
Много непонятного. Вот наказывали сперва говорить богомольцам, будто еретик и побродяжка старец Егорий, а как-то утречком, по-приморозу, привез его в обитель отец казначей и приказал говорить, что праведник и прозорливец.
– Не стало понятия, не стало...
Особую келейку в монастырской роще срубили, сам отец игумен посещает. И он, отец Герасим, тоже заходил к Егорию.
Две барыни у него в келье стояли о ту пору, смиренно так, а тот почто-то, едва вошел Герасим, поклонился ему земно, дал ягодку-черносливинку, облобызал, а барыням совсем неподобное показал из перстов...
– К чему это возвещает? Непонятно все...
Солнышко греет жарче да жарче, ручьи сверкают, пахнет землей и лесом, грачи галдят в роще, голуби воркуют и шмыгают под ногами, взлетают и садятся на голову, на блюдо с копейками.
– Кыш, вы! Кыш!
Не то дремлется, не то думается... Вспоминается.
– Тогда еще не Герасим был, а Григорий-послушник. Ох, и силы же было! Пахать ежели, лошадь не успевает, сам один, почитай, плуг-то и ведешь... Блаженные памяти игумен Ианнуарий всегда говорил: "Голиаф". Прост был: настоятель, а сам невода тянул, после уху варил на берегу с прочей братией... Все было просто и понятно, все...
Голуби порхают, звякают о блюдо медные двушники, шлепают растрепанными лаптями богомольцы, отряхивая грязь, прежде чем войти в святые ворота. Порою с грохотом подкатит барская бричка.
Встает отец Герасим, кланяется и сейчас же,– не по чину это, положим,– садится. Восьмые десятки в доходе, ноги-то худо слушаются чина да устава...
– Ну вот, отец, теперь и нас не обходят? А-а? – раздается подле знакомый голос отца казначея. Только теперь в этом голосе звучит довольство и сдержанный смешок, какой-то скрытый и заигрывающий. Смотрит на дорогу, как тогда, а в глазах – плутоватые, веселые искорки. И уж не кашляет.
– Не обходят, ваше преподобие, точно...– кланяется отец Герасим.
– Да, не обходят! Понимаешь ли ты сие, однако, а? Ох, старо место, гляжу я на тебя... В землю смотришь, в настоящее-то понятие и взять не можешь уж?
– Не могу, ваше преподобие, что таить...– кается отец Герасим.
– Ну-ну, сиди тут пока что...– уходит, покровительственно усмехнувшись.
А старик как-то по-виноватому смотрит себе под ноги, будто хочет одолеть что-то неукладывающееся в его голове. И голуби, взлетая ему на плечи, воркуют, шумят, точно хотят утешить:
– Это ничего, что не понимаешь, ничего! Мы тоже не понимаем у них, у людей, а ты, хоть и человек, все равно что мы...
– Непонятно, все непонятное пошло... Ох, пора в землю-матушку, видно, пора!..– недоуменно покачивает головою отец Герасим.
Голуби все вьются подле него, хлопают крыльями.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1911, 10 апреля.
Стр. 308 Келейник – прислужник при игумене, при старшем в монастыре.
Стр. 312 Отец рухальный – монах, ведающий монастырским движимым имуществом.
БЛАГОДЕТЕЛЬ
Архип Фролыч – самый благочестивый прихожанин во всем селе, против этого уже и заклятый враг его не мог бы ничего возразить. А врагов у Архипа Фролыча не занимать стать, потому что не любят грешники видеть постоянно в лице его укор всей жизни не по заповедям господним.
И в самом деле, когда мужики, то по лености, то за мирскими суетами, по неделям не посвящают и нескольких часов молитве в храме, Архип Фролыч не пропускает ни одной воскресной и праздничной службы. Ровно за полчаса до колокольного звона к обедне он запирает лавку, торопливо выпроваживая покупателей.
– Ну, уходите, уходите, некогда мне с вами... О, господи! Все серебро, крупа да мука, чай да сахары, суета одна... Для мамону все, а о боге-то когда? Душу свою погублю я с вами, право,– вздыхает он сокрушенно.
В церковь приходит ранехонько, вместе со старухами, к часам. Благообразный, с умасленною головою и бородою во всю грудь, не торопясь, чинно снимает свое, добротное такое, городское драповое пальто, укладывает на подсвечник. После кладет поклоны перед каждой местной иконой и ставит свечки, осторожно ступая на носочки скрипучих лаковых сапог. И всю обедню молится истово, прижав руки к сердцу, подпевает дьячку и крепко ударяет лбом в пол. Когда батюшка говорит проповедь, Архип Фролыч подвигается к самому амвону, прикладывает ладонь рупором к уху и умиленно кивает головой на каждое слово, возведя очи горе.
– С праздничком, Архип Фролыч...– уступая дорогу, низко кланяются мужики, когда он с просфоркою и поминальником в руках спускается после обедни по ступенькам паперти, весь такой просветленный, "по-божественному" спокойный и строгий. Отвечает на поклоны степенно, с достоинством и с какой-то проникновенною, всепрощающею кротостью во взоре: видно, что человек еще весь в боге, еще не вернулся к суетной и греховной земле.
Дома с супругой съедали просфору, благоговейно подбирая крошки, потом принимались за пирог, скушивали добрую гору жирных ватрушек и пили чай с топленым молоком до тех пор, что уж из самовара не потечет.
Тогда поднимался из-за стола, долго крестился в передний угол, отирал пот с лица и говорил тоном измученного подвижника:
– О, господи, царь небесный... Пойти, что ли? Вишь, около окошек вьются, заглядывают... Все жратва у людей на уме! Теперь бы слово божие почитать, о душе пораздумать, а как отвергнешь: может, голодны... Грех!
У Архипа Фролыча всегда все с молитвою, с покаянным воздыханием. Ранним утречком, выйдя с ключами в руке, прежде всего долго крестится на церковный купол, а, отперев лавку, еще молится и на икону. Потом уже со вздохом встает за прилавок, будто крест на себя принимает из христианского снисхождения к человеческой греховной слабости.
На веревочках под потолком развешаны полотенца, сапоги, гармоники, тканые скатерти, фуражки, расшитые рубахи – все просроченные заклады, выставленные на продажу.
Начинается спозаранок и на весь день обычная история.
– С прибылью торговать,– заискивающе ласково говорит баба, как-то виновато отводя глаза. И мнется несколько секунд.
– Бог спасет. Что скажешь? – скучающе отворачивается от нее хозяин.
– Архип Фролыч... полпудика бы, сделай милость...– она вывязывает из платка трубку холста, пестрый сарафан, три мота льняной пряжи.
– Ох, господи! Душу свою потопил я с вами, право...– тяжело вздыхает, как бы с брезгливостью разбирая принесенное, а в глазах уже сверкнул соответствующий елейному тону жадный огонек, крючатся сухие, цепкие пальцы, будто ястребиная лапа.
– Гм... десять фунтов еще туда-сюда, можно...– и отодвигает вдруг заклад: – Не надо бы вовсе, много у меня этого хламу! Ну, да уж сказал ежели, не отопрусь... жалеючи...
– Десять фунтов! Архип Фролыч, побойся ты бога-то. Ведь выкуплю, неуж попущусь?
– Ты мне этих слов не говори! Я господа бога завсегда памятую, оттого только, может, вам и благодетельствую, а вы как за благостыню мою? Лонись как заверяла: десять ден стану жать, говорила, только дай, а о самую страднюю пору рожать вздумала... Все вы таковы, обманщицы, лукавки, только бы стеребить, обмануть доброго человека...
– Батюшка, Архип Фролыч! Да ведь ежели нет силы-мощи?
– Ну, это уж меня не касательно. Пятнадцать фунтов, пожалуй, дам уж, и то только бога для... (Копейка с гривенника в месяц... Некогда мне с тобой! – досадливо обрывал, оборачиваясь на звонок входной двери.
– Ладно...– подавленно вздыхает баба, озираясь на входящих, и подставляет мешок поскорее, будто не хочет "на людях" просить да вымаливать.
– Ох, согрешил я с вами,– по щепотке подбрасывает Архип Фролыч и зорко следит за стрелкой: не дать бы "похода"...
– Здорово... Что скажешь?– отвечает через плечо на приветствия новых покупателей. И тычет последнюю щепотку так, что весы сразу показывают "поход".
– Отпускайте, обождем, Архип Фролыч,– отвечают как-то по-виноватому, заискивающе. И прячут под полою принесенные овчины, самовары, узлы; прячут стыдливо от добрых людей свою нужду, как и те тоже скрывают свою, хотя те и другие все понимают друг о друге доподлинно.
– До вашей милости, Архип Фролыч... Вызволь! Вот-те истинный Христос! В срок рассчитаюсь... Тулуп-то, гляди, не поныхнулся, что есть новенький...
– Да ты что думаешь? Сам я кую деньги-то, что ли? Не надо мне твоего тулупа, полна клеть их у меня, и денег я тебе не дам... Даже и припаса не отпущу, вот что!
– Архип Фролыч! Два-то целковых?
– И пятака не дам. Ты вон бога не побоялся, оболгал меня, будто лишнее я с тебя взял... Все знаю. А как так лишнее? Сказано было гривенник с рубля в месяц, а? Вот то-то и оною.. А выкупил ты, заместо десятого, тринадцатого числа, да... Вот и рассуди, коли ум в голове, что на другой месяц, стало быть, три дня перешло, а мне все едино; день один, месяц ли полный... У меня все по совести, по уговору, не то, чтобы на обман, по-вашему! По-божески взял я с тебя тридцать копеек-то, да... Только для бога, для души и возжаюсь с вами, а заместо благодарности вы только гадите, на это вас и стать есть. Бога вы забыли!
Вбегает справно одетая молодуха, смело протискивается сразу вперед, с шиком ударяет о прилавок полтинником.
– Два фунта баранок, какрамели тоже на гривенник! Да поскорее, Архип Фролыч... Некогда, гости там ждут!
– Сей минут, Пелагея Потаповна,– кидается, забывая о закладчиках, и улыбается медоточиво.
Мужики и бабы почтительно отступают, глядят на молодуху и ее полтину с несказанным уважением: есть же, дескать, такие богатеи, что обладают экими капиталами и гостей потчевать могут...
– Гости, это хорошо... Проезжие, говорите? Паче того,– юлой вьется Архип Фролыч, из всей силы кидая на весы баранки и поспешно снимая.
– Это по-божески, да... Сказано потому в святом писании, что странного прими...– тянет вовсе уже нараспев, подбирая сдачу.
– Так как же, Архип Фролыч, скажешь? – выступает обдерганный мужичонка, комкая поярковую шапчонку.
– Да ты все еще тут? Ох, господи, царь небесный! Сказал уж, хошь, бери пятишку... И то лишь из жалости к нужде твоей, для детенышей твоих, а то бы и даром не надо, потому много у меня скотины и без того, с руками, с ногами съели... Разорюсь я из-за своей добродетели к вам, право!
– Архип Фролыч! Да ведь нетель-то какая, на племя бы только! Ну, хошь, вместо десяти целковых, по осени за пятнадцать обратно возьму? Вот тебе крест, не обману...
– Это мне несподручно, чтобы перепродавать. Ежели с концом только, вот последнее слово две трешны...
– Архип Фролыч, батюшка!– впопыхах возвращается богатейка-молодуха:– Ведь вместо пятака-то ты мне старинный двушник дал, гляди-ка... Заест меня мужик!
Уж нет медоточивых улыбок, вкрадчивых, ласковых речей: глядит спокойно, обиженно-строго и равнодушно.
– Помилуйте-с! Как это можно? Мы не мошенники какие... Верно, дома перемешали... У нас тоже крест на шее!
– Да окромя того полтинника, и нет ничего! Вы ссчитайте-ка.
– Нечего считать. Проверять сдачу надо у выручки, а то вот экое и возводите на человека... Бога в вас нет! Идите себе со Христом... Покорыстуюсь я вашими тремя копейками!
Молодуха уходит ни с чем, перебирая на ладони медяки.
– Батюшка, Архип Фролыч, да ты погляди! Это еще не стоит семи гривен, а? Ведь яичко к яичку, свеженькие!
– Мне их не есть, хоть золотые будь. Вот сказал, сорок копеек, хошь,– бери, не хошь,– иди, милая, с богом...
– Архип Фролыч! Да ведь в городу-то рупь семь гривен...
– Ох, господи! Душу погубил я из-за суеты вашей.... Ну, вези в город, продавай, может, два целковых дадут! И дай бог на сиротство твое... Царица небесная! Ведь только для души, вашего нищенства ради, жалеючи и возжаюсь вот... Ну, возьми полтину, Христос с тобой уж, все равно, сирота ты ведь! – При перекладывании яиц он поучает, что корыстолюбие – великий грех и что курочек кормить надо лучше, тогда они и яички станут нести крупнее.
– Что уж, какой наш корм, известно...– вздыхает старуха.
– А вот ты и слукавила! Думала, считать не стану? Пятка недостает до полсотни-то... Может, невольно, а согрешила, да...
– Да, Архип Фролыч! Три раза считала, нешто бесстыжая я какая? Еще одно яичко лишнее накинула пра всякий случай...
Глядит строго, но уветливо да скорбно столь на старуху.– Ты что же, думаешь,– обсчитал я тебя, а? Э-эх, люди! Им добро делаешь, а они... Не надо мне твоих яиц в таком разе!
– Да не серчай ты, Архип Фролыч, может, неравно и просчиталась... Что уж велика наша грамота, вам виднее...
– Ну, уж Христос тебя простит... и скину я с полтинника всего две копейки, бедность твою уважаючи... Богу на свечку, не себе, нет! Ты не жалей для бога-то, он тебе невидимо пошлет на сиротство-то твое.
С раннего утра до ночи этак. Что называется, дверь на пяте не стоит.
– Ох, господи! Согрешенье одно... А как отвергнешь? Куда они без меня? Для души уж только, для души...– Архип Фролыч долго крестится на церковь, заперев лавочку и пощупав еще раз замки.
Спустив цепную собаку, ощупает еще все засовы на дверях амбаров и клетей, обойдет весь двор и накажет работнику:
– Ты не больно-то спи... поглядывай... На людей не больно ведь полагаться причитается, им добро творишь, а они ворогом глядят на тебя... Прости их, господи!
За самоваром долго считает выручку, щелкает на счетах, пишет намусленным карандашом в грязных книгах, а потом, надев очки на нос, читает на сон грядущий псалтырь, сокрушенно, со слезой в голосе:
– Господи! Перед тобою все желания мои и воздыхания мои, от тебя не утаюсь...
А лик спаса смотрит с иконы по-новому, ночному, будто сурово. И божественные персты, кажется, не благословляют, а грозят...
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту журнала "Уральское хозяйство", 1912, No 5.
Стр. 273 для мамону все – мамон (просторечие) – утроба, желудок; грубые чувственные наслаждения.
Стр. 275 Лонись (диалектное) – в прошлом году.
БЕЛОРЕЦКИЙ (Ларионов) Григорий Прокофьевич (19(31).01.1879, Белорецкий з-д, Уфим. губ. – 06 (19).1913 г.Скопин, Рязан. губ.), писатель, фольклорист. Род. в семье приказчика. Окончил с золотой медалью Уфим. гимназию (1896) и Военно-мед. акад. в Петерб. (1901). Служил военным врачом. Первая значительная публ. – статья «Заводская частушка» (газ. «Ур. жизнь», 1901). Всего Б. записал более 500 заводских и бытовых частушек. В рассказах и очерках из нар. быта У. («Страдалец», «Юбилеи», «Поздней осенью» и др.)вывел галерею героев, разочаровавшихся в жизни. Пов. «На войне» (1905) и ряд примыкающих к ней рассказов обобщили впечатления русско-японской войны и вызвали цензурные преследования. Последние годы жизни служил военным врачом в разл. гарнизонах.
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
"Привел меня Бог видеть злое дело..."
I
Это был очень хороший вечер – теплый, тихий, задумчивый и грустный. Широкая равнина, окутанная вечерней мглой, засыпала тихо и мирно; за день ее утомили горячие ласки солнца, и теперь она, удовлетворенная и усталая, была охвачена только одним желанием – успокоиться, отдохнуть, уснуть... А на небе зажигались одна за другой кроткие и грустные звезды, задумчиво и любовно глядевшие на землю...
В поле мелодично перекликались перепела и монотонно дергал свою единственную ноту коростель. И эти звуки не нарушали общей гармонии, не тревожили засыпающей степи,– они, такие родные и близкие ей, казалось, убаюкивали ее и делали общий колорит картины еще более грустным и мирным.
На деревне прозвенела было нескладная рулада гармоники, но тотчас же смолкла, как будто поняв свою неуместность и сконфузившись.
Мы – земский доктор, и я, студент, исполняющий обязанности его помощника,– сидели на выходившем в поле крыльце своей больнички, расположенной у околицы маленькой степной деревеньки, и думали. Я был молод, и потому мне хотелось любви и счастья, и я думал, что моя молодость проходит очень грустно и скучно и что ее, мою молодость, может согреть и оживить одна только женская любовь. А доктор? Он был тоже не стар и тоже, вероятно, думал о близкой женщине, о любви.
Мы сидели и молчали. Ночь надвигалась бесшумно и: незаметно. Только темнее становилась степь да ярче разгорались звезды.
– Ночь...– неожиданно констатировал факт доктор.– Как тихо... и как грустно... В хорошие летние ночи как-то яснее и потому больнее чувствуется, что жизнь уходит... Ужасно грустно... Вы когда-нибудь испытывали такую грусть, такую тоску, когда не разберешь, тоска это или физическая боль в груди?
– Да. Испытывал.
– Ужасно грустно... Какая-то глупая, беспредметная тоска... Вы когда-нибудь любили?
– Да. Впрочем, еще гимназистом, глупо.
– У меня и того нет. Всю молодость проморгал... Гимназистом и студентом рачительно занимался, бегал по урокам, врачом – работал так, что не до любви было. А теперь вот жаль... и кажется, что молодость погибла... Да, выражение "погибшая молодость" не всегда кажется пошлым... Что может быть ужаснее одиночества?.. Ужасная тоска... Впрочем, все это происходит, вероятно, оттого, что устал я и в дело не верю.
Он помолчал.
– Я десять лет таскаюсь вот по таким норам,– он показал на деревеньку,– идее служу, "оздоровлению деревни..." Как это пошло и глупо!.. Им просто хлеба надо, а не наших жалких микстур. Мы вместо хлеба даем им не камень, что было бы откровеннее и честнее, а черт знает что... На что я ухлопал эти десять лет, лучшие десять лет моей жизни? Черт возьми, и я ведь имею право на личное счастье, право любить, не быть одиноким... Ужасно грустно... Слышите, как перепела кричат?.. А понимаете вы, о чем они кричат?.. Вот крикнул самец – и страстно, и немного нетерпеливо... А вот отвечает ему самка. Слышите, как у ней это выходит томно и нежно?.. Чем не "песнь торжествующей любви", а?
Он замолчал. А ночь плыла, торжественная, спокойная, грустная...
...Вдруг где-то близко-близко раздался странный и страшный крик. Кто-то, зверь или человек, крикнул протяжно и пронзительно,– и в этом крике было и какое-то дикое торжество, и смертельный ужас. Крик пронесся над степью и замер вдали. Звезды тревожно задрожали, в все звуки ночи притихли.
– Что такое? – вскочил доктор.
Крик повторился – такой же страшный и непонятный. Было ясно, что кричат в деревне, где-нибудь недалеко от больницы.
– Фу, черт, какой ужас...– пробормотал доктор.– Что бы это могло значить? Как будто это в деревне...
Мы обернулись к деревне и напряженно всматривались в темную кучу крестьянских изб. Послышался топот босых ног по гладкой дороге,– и из улицы деревни показалась какая-то белая фигура. Она быстро приближалась к нам, и, когда она была уже совсем близко, мы увидели, что это бежал изо всей мочи нагой человек. Он вихрем пронесся мимо нас, нагнув вперед голову и неистово махая руками. Бежал он по дороге, ведущей в степь, и быстро исчез в темноте ночи...
А тем временем и в деревне началась какая-то суматоха: до нас долетели обрывки торопливого и испуганного говора, стук открываемого окна, скрип ворот. Из этого хаоса звуков опять отчетливо выделилось шлепанье босых ног по накатанной дороге,– это бежало несколько человек по тому же направлению, по которому пробежал и голый. Когда толпа сравнялась с нами, кто-то из нее крикнул:
– Не видали?.. Не пробег?..
– Пробежал.
– Куды?.. Туды?..
– Да, по дороге. Кто это такой?
– Бешеный убег.
И толпа пустилась бежать по дороге.
– Какой бешеный?! – крикнул вдогонку доктор, но ему не ответили.– Какой бешеный? – повернулся он ко мне.– Я никакого бешеного в деревне не знал.
Все это продолжалось каких-нибудь две-три минуты. Затем опять наступила тишина, и опять в степи задергал коростель, и перепела возобновили прерванную беседу. Но вот из деревни показалась новая толпа крестьян. На этот раз шли тихо, возбужденно и громко разговаривая. Кто-то нес фонарь, неверный и трепещущий свет которого придавал толпе вид фантастического пестрого пятна на фоне черной ночи. До нас доносились обрывки разговора.
– Ему бес помогает,– возбужденно и торопливо говорил чей-то старческий голос.– Говорил я, приковать надо. А то вот теперь, поди, лови его... Набедокурит где-нибудь, а кто в ответе? Обчество,– почто не блюли.
– Обчество не при чем,– отвечали ему спокойно и рассудительно.– Кузьма виноват, с Кузьмы и спрос.
– Ну, чего там зря болтать,– перебил новый голос.– Прикуй или не прикуй – с бесом не совладать.
– Ох, прогневали мы господа бога...
– Беда...
Доктор и я подошли к толпе. Крестьяне остановились и замолчали. Их было человек десять. Все они были без шапок и босые, в одних рубахах и портах. Они, вероятно, только что вскочили с постелей и не вполне еще успели очнуться от тяжелого и крепкого сна после длинного трудового дня.
– В чем дело? Кто это пробежал? – спросил доктор.
Крестьяне молчали. Старик, стоявший впереди с фонарем в руках, что-то пробормотал было, но осекся и уставился глазами в землю. Толпа, казалось, была в затруднительном положении и не знала, как ей выбраться из него. Наконец, кто-то нашелся:
– Так это... Убег тут один...
– Да кто "убег", я вас спрашиваю?! – уже с оттенком раздражения в голосе крикнул доктор.
Толпа казалась пойманной с поличным. Крестьяне смущенно переминались с ноги на ногу, кашляли, вздыхали.
– Да так... Один тут человек...
И опять молчание. Кто-то вздохнул громко и глубоко, ему ответили тем же, еще и еще.
– Ох, грехи наши...– пробормотал старик с фонарем.– Пожалуй, на спокой пора... Поздно... Прощевай, ваша милость.
Он поклонился доктору, то же проделала и вся толпа и быстро повернулась назад.
– Нет, ты, брат, постой,– ухватил доктор старика за рукав.– Говори, в чем дело. Все равно узнаю – не сегодня, завтра... Не чужой я вам, черт вас дери...
– Оно точно что... Так что...
Толпа остановилась. Старик поставил фонарь на землю, высморкался и обтер руки о штаны. Мы ждали.
– Безумный убег,– проговорил, наконец, он.– Иван Петров. Кузьме, значит, брат... Старшой брат.
Я знал Кузьму Петрова, но существования его брата, да еще сумасшедшего, я и не подозревал.
– Разве у Кузьмы Петрова есть брат?
– Есть. Он, значит, и убег... Подрыл, значит, под дверь нору и убег.
– Сумасшедший, ты говоришь?
– Да... Бешеный, значит... Так что не в своем уме.
Доктора, видимо, происшествие очень заинтересовало.
В этой деревне с какими-нибудь 50–60 дворами он жил уже второй год и знал решительно всех ее обитателей от мала до велика. А с Кузьмой Петровым он был уже совсем на короткой ноге: Кузьма много лечился, доктор очень часто бывал у него в избе и очень охотно и часто говорил с ним. Этот угрюмый и молчаливый мужик, живший очень замкнуто, очень интересовал его. Интерес к Кузьме могло возбудить одно то обстоятельство, что в нашей деревне, население которой составляли сплошь отчаянные пропойцы, он один был трезвенником. Словом, доктор был очень хорошо, до мельчайших подробностей знаком с жизнью и всей деревни вообще, и Кузьмы Петрова в частности,– и вдруг оказывается, что в деревне живет сумасшедший, которого запирают и о котором доктор решительно ничего не знает, и притом живет у Кузьмы... Было ясно, что сумасшедшего прятали, и только его побег выдал и его и крестьян.
Старик отвечал сначала на наши вопросы крайне неохотно, туманно и сбивчиво, но потом, когда доктор убедил его, что теперь все равно нам все известно и скрывать дальше не имеет смысла, он сделался более разговорчивым. Оказалось, что Иван Петров сошел с ума два года тому назад, а так как он буянил и был опасен, его заперли.
– Ну, конечно, держали в секрете,– рассказывал старик,– а то ведь упрятали бы его в желтый дом... Совсем бы человеку капут был.
– Почему, "капут"? Там лечат.
– Оно, конечно, лечат, а только что... Нехорошо в сумасшедший дом бешеных сдавать... В ем, в бешеном-то, бес сидит, а мы его в сумасшедший дом. Как же можно!.. Тут мы, може, его и отчитаем, а в сумасшедшем доме чего уж и ждать. Был тут у нас один бесноватый, годов пять назад... Не уберегли – становой усмотрел. Ну и забрали в сумасшедший дом. Потом, слышим, через две недели без покаяния помер, а евонного отца да брата в каторгу ни за что, ни про что закатили,..
– Как в каторгу? За что?
– Били, говорят. А как его не бить? Не его били, беса били... Мы-то так это самое дело понимаем: не за бешеного сослали, а за беса. Слуги бесовские подвели.
– И Ивана били? – спросил я.
– Не Ивана били, беса били... Беса выгоняли... И отчитывали, и били, и крест накладали. Уж оченно в ем бес упрямый... Не простой, должно.
– Где же вы его прятали?
– В хлеву. Наше дело бедное, другого подходящего места нету... Да ему, Ивану-то, все равно ведь,– нешто он теперь что понимает? Опять же беса держать в горнице не гоже.
Мы решили посмотреть хлев, в котором сидел сумасшедший. Старик повел нас к избе Кузьмы Петрова. Толпа шла за нами. Деревня проснулась вся,– в окнах мелькали огни, на улице толпился народ. К толпе, которая шла за нами, присоединялись все, кто попадался навстречу, и, когда мы вошли на двор Кузьмы, народу набралось так много, что двор не вместил всех,– больше половины осталось за воротами. На дворе запрягали в телегу лошадь.
Старик подвел нас к низенькому и маленькому дощатому хлеву, находившемуся в глубине двора. Он отворил дверь, вошел в него с фонарем, а за ним вошли и мы. Нашим глазам представилась такая картина. Маленькая в две-три кубические сажени клетка, сколоченная очень крепко из толстых досок, прибитых к массивным столбам по ее углам, была донельзя загрязнена и запакощена. Больного не выпускали из нее даже для отправления известных потребностей, и потому весь пол был покрыт экскрементами – хлев, должно быть, не чистили по крайней мере три-четыре месяца. Хлевы, в которых держат скотину, показались бы очень приличными жилищами в сравнении с этой ужасной норой. Зловоние в хлеве было невыносимое – и только теперь я сообразил, чем объясняется тот тяжелый запах, который был на дворе Кузьмы Петрова и который я замечал и раньше... На полу валялся обгрызанный кусок хлеба, весь выпачканный. Посередине хлева в землю был вкопан невысокий столбик; к нему была привязана короткая и толстая веревка.
– Это зачем? – указал доктор на столб и веревку,
– Бешеного привязывали,– объяснил старик.– Приковать надо было... Нешто веревкой беса удержишь? Ишь, как перегрыз.
Он поднял конец веревки. Он был весь измочален,– видно было, что недешево стоило сумасшедшему перегрызть веревку.
Под дверью, ведущей в хлев, была выкопана свежая яма, позволявшая выбраться из него даже когда дверь была заперта. Комки свежей и черной земли можно было видеть во всех углах хлева. Сумасшедший, очевидно, работал с неистовой поспешностью и усердием. Никакого орудия, которым можно было бы выкопать яму, не валялось поблизости,– работа производилась голыми руками... В одном углу была отодрана от столба доска – и на ней я заметил следы крови...
– И давно его тут держали? – спросил доктор.
– Без малого два года.
– И зимой?
– И зимой.
Зимой в хлеву, вероятно, было невыносимо холодно: его дощатые стены не могли служить защитой от мороза.
– Однако... Как же он не замерз?
– Снегу, значит, снаружи-то нагребли... Под снегом оно тепло... Дюже тепло... Зимой-то он, ровно медведь, в берлоге жил.
Доктор молча повернулся и пошел со двора. Я шел за ним. В воротах он остановился и крикнул толпе:








