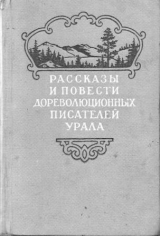
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– На шести цалковых порешили,– рассказывал между тем Марыч: – пятнадцать просил, десять просил – не дали, уперлись. Ну, он и согласился на шесть.
"Съехал, однако, на шесть,– с злорадством подумал Псалтырин,– а не будь меня, и двадцать содрал бы".
– Ироду-то только по пятишне пришлось,– повествовал Марыч,– а цалковый волостным за хлопоты.
– Однако по пяти рублей – тысячу двести восемьдесят рублей. Ну, да хорошо, посмотрим, как ты их получишь, дьявол!
– Чего! Уж он получил. Вчера вечером и деньги отдали; им страховка из земства вышла, так из страховки. Теперь в расчете.
Псалтырин был поражен.
– А ты не врешь? – спросил он, остановившись перед Марычем со сверкающими глазами.
Марыч перекрестился.
– Вот, ей-богу... Разрази меня на месте... Лопни мои глаза!..
– Следовательно, сам старшина из волостного сундука выложил деньги Ироду? Не может быть!
– Провалиться на месте!
– Великолепно! Я их всех под суд отдам, подлецов. Сходи за старшиной.
Марыч, увидев, что дело принимает серьезный оборот, струсил.
– Не погубите... не выдайте меня... Узнают, что я рассказал,– беда!..– забормотал он жалобно.
Взбешенный Псалтырин цыкнул на него, как на собаку, и Марыч, проглотив какое-то слово, выбежал из комнаты.
Марыч очень долго не возвращался. Надо думать, что он принужден был все рассказать старшине, старшина совещался с писарем. Псалтырин метался по комнате, как зверь, в нетерпении заглядывая в окно, и даже выбегал на крыльцо. Наконец, явился трепещущий Марыч, за ним шел старшина. Последний был несколько бледен, но холоден и суров, как человек решившийся.
– Садитесь, садитесь, почтеннейший,– насмешливо обратился к нему Псалтырин.
– Не беспокойтесь. Мы постоим.
– Скажите, пожалуйста, страховые деньги уже выданы погорельцам?
– Так точно, выданы.
– Когда?
– Вчерашнего числа.
– Полностью?
– Все на очистку.
– Без всяких вычетов?
– Так точно. И расписки есть на всю сумму.
– Так-с, и расписки есть. Прекрасно. Теперь слушай, что я тебе скажу. Ирода я увольняю сегодня же. Относительно взятки, которую ты ему выдал и себе взял из страховых денег, будет произведено дознание. Я думаю, что мужики не будут покрывать Ирода и скажут правду, когда он уже не будет страшен. Тем паче, что я им отвожу Сухой лог, как они сами просили. Понимаешь?
Старшина страшно побледнел, однако сумел сохранить на лице выражение некоторой твердости.
– Так-то, почтеннейший,– продолжал Псалтырин язвительно,– не миновать тебе суда, не миновать. Ирод скажет: не бирал, не знаю, и писарь останется в стороне, а вот уж ты-то – как кур во щи! Обделали тебя, как дурака. И стоило ли огород городить? Из-за чего? Много ли на твою долю досталось? Во всяком случае, пустяки,– рублей пятьдесят, самое большее – сто... Дурак ты, дурак!
Старшина, сделав несколько нетвердых шагов вперед, вдруг повалился Псалтырину в ноги.
– Не погубите!..– крикнул он странным голосом. Псалтырин испуганно отшатнулся.
– Перестань!.. Как тебе не стыдно!–сказал он, подавляя в себе брезгливое чувство. Но старшина выл и причитал как баба. Бессвязно и глупо выкрикивал он что-то о своем сиротстве, о малых детях и жене, о своем неразумии и темноте, ползал, рыдал, бился головой об пол. Когда, наконец, вняв настойчивым приказаниям Псалтырина, он поднялся с полу, по лицу его текли непритворные слезы, смешанные с грязью, а лицо было измято и красно. Он продолжал всхлипывать и бормотать о прощении, о божеском милосердии, о малых детках.
– Ступай! Уходи, уходи! – говорил ему Псалтырин, отворачиваясь. Но старшина снова бросился в ноги и снова заголосил.
– Я тебя вывести прикажу! – уже не владея собой, крикнул Псалтырин.
Старшина медленно поднялся, перестал причитать, утер лицо и, шатаясь, пошел к двери.
– Вон! – вслед ему закричал Псалтырин, выходя из себя от подступившего чувства жалости.
Старшина, выйдя на воздух, долго стоял на крыльце без шапки в каком-то оцепенении. Потом еще раз утер глаза и лицо, нахлобучил шапку и направился во флигель узнать, когда вернется Голубев. Сверх всякого ожидания, Голубев оказался дома. Взглянув в расстроенное лицо старшины, он сказал коротко:
– Ну, рассказывай.
Старшина, пересыпая речь сетованиями и упреками, рассказал события сегодняшнего утра. Голубев, не перебивая, выслушал все с совершенным спокойствием.
– Бить тебя некому, дурака,– сказал он в виде успокоения. Старшина в самом деле успокоился в значительной степени.
– Как же теперь? – спросил он.
– А все так же.
– Как?
– А так.
– Как же так?
– Да ты в самом деле думаешь, что он меня уволит?
– Сегодня же, говорит.
– Ну!
– Не уволит?
– Он у меня, как муха в тенетах. Поершится, покричит, поскачет, да с тем и останется.
– Стало быть, ничего не будет?
– Не беспокойся.
– Ну?.. Ах, подь он к лешему! Как напугал!
– Скоро запьет.
– Ну?
– Верно. Уж я примечаю.
– Ах, шут те!..
– Запьет, опять начнет куралесить.
– А и задал же он мне баню! Такую задал баню, что ну! Думаю, окончательно теперь под суд, на скамью подсудимых! – уже совсем весело говорил старшина.– Стало быть, без сумления?
– Ступай с богом!
– Ах ты, господи!.. Ведь совсем было я испугался... Ах, шут те!.. Ну!..
И успокоенный старшина в наилучшем настроении духа вернулся домой.
IV
В пылу гнева Псалтырину представлялось увольнение Ирода таким простым, необходимым и справедливым делом, что он не думал о его последствиях, но по мере того, как раздражение его проходило, начали выступать разного рода препятствия и неудобства. "Не уволишь, не уволишь,– ехидно шептал ему насмешливый голос,– где тебе! Без Ирода ты, как без рук... Начнется томительная передача имущества, которая протянется недели, месяцы... Ирод будет тянуть, путать, запутает и тебя... Откроются такие вещи... Тут только копни, как пойдет сюрприз за сюрпризом, и бог знает еще, чем это может кончиться... Ирод – делец, он все помнит, все знает, а ты ленив и отвык от труда,– где тебе с ним бороться? А теперь ты с ним как у Христа за пазухой..." "Действительно, дьявольская память, башка!– думал Псалтырин и через минуту опять твердил: – И все-таки необходимо уволить..." Вдруг он вспомнил, что Ирод не получал жалованья за пять лет, что при увольнении надо его рассчитать, а касса пуста; вспомнил, что в кассе не хватает трех тысяч, растраченных им, Псалтыриным, в разное время на неотложные надобности, и что, если бы случилась внезапная ревизия, самому Псалтырину не миновать суда. Вспомнил, как не раз в подобных случаях выручал его Ирод, вкладывая свои деньги...
"Ну, хорошо, положим, прогнать – немудреная штука, но кем я его замещу? Кто пойдет на триста рублей в год? Писцы больше получают!.. Извольте найти толкового и честного человека за триста рублей!.. Найдутся охотники, слов нет, но ведь такие же мерзавцы и еще, кроме того, дураки... Вор... Но как не воровать при таком содержании? Разве возможно человеку семейному прожить на триста рублей хоть сколько-нибудь по-человечески?.. И чего жалеть добро, которое никому не принадлежит, о котором никто не заботится?.. Смешно изображать собаку на сене бог знает для кого и для чего!.. Говорят, Ирод притесняет народ. Но ведь это сущий вздор!.. Будь здесь настоящий хозяин или хоть честный смотритель, взвыли бы все в один голос, потому что благодаря Ироду население пользуется многими льготами, и контрибуция его не столь обременительна... Он сам живет и дает жить другим... Он будет уволен, кому станет лучше? – Никому. Вор, вор... Но кто теперь не вор? Где они, эти честные люди? Ирод – мелкая сошка, нуль, ничтожество, без воспитания, без образования, разве можно его строго судить? Есть покрупнее его мерзавцы, и мы пожимаем им руки, свидетельствуем им свое глубочайшее почтение, знакомство с ними считаем за особую честь... Да, да, это вовсе не так просто".
Псалтырин ходил по комнате, лежал на диване, курил и бормотал с негодованием: "Ну не мерзавец ли? Рвать с нищих, с погорельцев, с несчастных, отнимать последнюю рубашку",– то думал через минуту: "Разве он один? Разве не везде одно и то же: грабеж, насилие без стыда, без совести, без малейшей жалости к человеку?.."
Вечером неожиданно явился Голубев и, поклонившись, скромно стал у дверей. Псалтырин страдальчески нахмурился, съежился и не знал, что сказать. Голубев сам начал разговор.
– Я до вашей милости,– сказал он.
– Что такое?
– Пришел посоветоваться. Меня Дубинин на службу зовет. Шестьсот жалованья, место хорошее. Уж вы меня извините, хочу от вас уходить.
– Что такое? Что ты городишь? – вскричал Псалтырин с испугом и побледнел.– Почему? Что за причина?
– Причины никакой, а только что боюсь хорошее место пропустить. Сами знаете, я здесь только триста рублей получаю.
"Финтит, мерзавец",– мелькнуло у Псалтырина в голове, но он сейчас же подумал: "А если в самом деле уйдет? Отчего ему не уйти, если место хорошее?"
– Привык я здесь, положим, на родительском месте,– продолжал Ирод кротким голосом.– Что жалованье маленькое – и это бы ничего, только что нету больше никакой моей возможности.
– Какой возможности?
– Грозятся убить. Сами знаете, какой здесь народ: пропадешь ни за копейку. Уж лучше уйти от греха.
– Убить?.. Что за нелепость? За что? Почему?
– За что? Известно, за мое за усердие. Разве мало у нас неприятностев? Из-за одного лесу, из-за покосов, из-за росчистей,– сущая беда! Я казенные интересы соблюдаю, так они меня за это съесть готовы. Вон теперь говорят: «Убьем, говорят, как собаку».
Псалтырин стал его уговаривать.
– Послушай, Ирод, ведь это же пустяки. Ты не первый год служишь, мало ли что говорят! Конечно, я тебя держать не могу: твоя воля, как хочешь, но если нужен мой совет, то не советую. Что такое Дубинин? – Кулак, самодур, бог его знает, как он там. А здесь ты дома, привык к делу и к тебе привыкли... Впрочем, как знаешь.
– Не придумаю, что и делать,– говорил Ирод, разыгрывая роль беспомощного человека. Наступило молчание. Псалтырин в задумчивости ходил по комнате, Ирод терпеливо стоял у дверей.
– Я понимаю, что триста рублей – ничтожное содержание,– начал Псалтырин.– Ну, я постараюсь прибавить... ну, четыреста, пятьсот, может быть...
Ирод молчал.
– Подумай. Я не советую, а там, как знаешь.
– Вчера мне человек один говорил: поберегайся, говорит, так и так, что Ионычу было, то и тебе.
– Вздор какой,– пробормотал Псалтырин, бледнея.
– Уж вы отведите им Сухой лог, прошу вас из милости: дело будет без греха. Хотелось мне поберечь это местечко, но теперь сам прошу.
Псалтырина точно что кольнуло. Он забыл и о Сухом логе, и о погорельцах, и теперь, вспомнив, нахмурился.
– Насчет Епанчина бора не беспокойтесь, укараулить его – пустяшное дело.
– Ты мне ручаешься? – спросил Псалтырин, хотя хотел спросить другое.
– Будьте покойны. Сам наблюдать буду.
– Ну, ладно. Делай, как знаешь.
Псалтырин вдруг почувствовал страшную усталость и в изнеможении опустился на стул. Ирод молчал, но не уходил.
– Вот вы все недовольны мной за разные непорядки,– начал он каким-то фальшивым голосом,– и точно, я виноват, потому действительно непорядки. А только возможно ли за всем углядеть? Дача большая, сторожей мало, как тут быть? Хоть разорвись, ничего не поделаешь.
– Знаю, знаю...
– Опять же, изволите говорить, сторожа мошенничают... Я не скрываю, действительно не без греха, но как быть?.. Жалованье маленькое, восемь рублей с лошадью, тут рука не подымется взыскивать с человека по закону.
– Да, да...
– А сколько напраслины терпишь, сколько разговоров!.. Боже мой!..
Псалтырин страдальчески сморщился и тоскливо глядел в черную темноту ночи. Ему не нравилась необычная болтливость Ирода, и резали ухо фальшивые интонации его речей. Голубев постоял еще минуты две, поклонился и вышел. Псалтырин, съежившись, бледный, худой, усталый, казался таким жалким, больным, беспомощным существом. Долго сидел он, погруженный в пучину мелочных и вздорных мыслей, наконец, сказал:
– Ну ладно. Не все ли равно? Наплевать!
И вдруг почувствовал облегчение, обрадовался, что теперь он на свободе и может ехать домой. "Завтра же утром на лошадей и к вечеру дома",– думал он, и перед ним промелькнули на мгновение широкие, правильные улицы большого города, светлая, уютная столовая, жена, дети.
V
Псалтырин не уехал, однако, ни на другой, ни на следующий день. Ему не хотелось двинуться с места. Его грызла тоска, та безотчетная тоска, которая по временам давила его, как кошмар, и которую он всегда пытался потопить в вине. Он мало спал, почти не прикасался к пище, предаваясь мрачному отчаянию, и не пускал к себе никого. Присутствие людей его раздражало и малейшее противоречие приводило в ярость. Под влиянием почти физического ощущения страшной пустоты все казалось ему отвратительною бессмыслицей. Тщетно перебирал он в уме одно за другим, что могло бы возбудить в нем теплое чувство, на чем с отрадой могла бы остановиться его измученная мысль,– все представлялось холодным, пустым, бессмысленным, безотрадным, как могила, а в голове, помимо его воли, возникали скверные мысли, только усиливавшие хандру. Он пытался вспомнить свою молодость, свое детство, но воспоминания не доставляли ему ни отрады, ни утешения. Он просто как-то представить себе не мог, что он был когда-то молод, весел, остроумен, смел и жизнерадостен, исполнен благих намерений и блестящих надежд впереди. Надежды, относившиеся к благоденствию человеческого рода вообще и местного населения в частности, казались ему теперь возмутительным лицемерием и самообманом, скрывавшими самое жалкое тщеславие. Надежды не сбылись, но не потому, что население оказалось не столько облагодетельствованным, сколько обездоленным, а потому, что сама иллюзия разрушилась и распалась на свои составные части, блиставший светоч оказался простою гнилушкой, прошла молодость, и с нею все потухло, помертвело, и впереди один мрак и пустота. Если бы теперь удалось ему, даже без всяких усилий, одним своим словом облагодетельствовать все население, десятки тысяч людей, чтобы не было голодных, озлобленных, темных, обиженных и несчастных людей,– он чувствовал, что это не доставило бы ему никакого удовольствия. Что они ему? Они будут сыты, довольны,– чем ему от того будет легче? Разве рассеется от того безотрадная пустота и эта гнетущая душу тоска? Да и зачем им быть сытыми? Разве не все равно, сыты они или голодны? Разве не все равно, честные люди населяют землю или подлецы?
"Честность, честные люди,– думал он,– какие лакейские бестолковые слова, придуманные фарисеями для безмозглых дураков и рабов! И где они, эти честные люди? Видел ли ты за всю свою жизнь это чудо света, хотя бы одного поистине честного человека? Нет, ни разу за всю свою жизнь, хотя мир кишит так называемыми честными людьми. Я тоже ведь честный человек, потому только, что, живя, как тунеядец и паразит, не украл ни одной копейки с грубостью и наглостью мелкого вора. Многие тысячи рублей израсходовало общество на мою великолепную особу. За что? За гнусную комедию, которая на фарисейском языке называется беспорочною службой. Но, может быть, помимо службы, как образованный и просвещенный человек, я внес в общество хоть каплю добра? Нет, из жалкой трусости, по непростительному равнодушию я сознательно и бессознательно вредил благородным стремлениям и хорошим делам и, плывя по течению, потворствовал подлецам, лгал, драпируясь в тогу бескорыстия и благонамеренности, тогда как во всем руководился лишь мелкими и пошлыми мотивами, хвалился своими мнимыми заслугами, а все плохое, что нельзя было скрыть, приписывал деятельности других людей или общим условиям жизни... Лгал всю жизнь и буду лгать впредь до самой смерти... Дойдя до последней степени падения, я, однако, не утратил права называться честным человеком и смотреть прямо людям в глаза... Был ли я по крайней мере хорошим семьянином и старался ли в детях воспитать людей? Нет, и здесь, как во всем остальном, я лицемерил и лгал. Я трепетал от страха при одной мысли, что из моих детей могут выйти истинно честные люди, и сделал все, чтобы в самом зародыше убить в них искру божию. Глупейшие предрассудки и ложь я внушал им, как святыню, а те немногие истины, в которые верил, прятал, как вредное заблуждение..."
И вдруг ему страстно захотелось упасть во прах и, признавши все свое ничтожество, молить о прощении, об очищении и обновлении духа... "О, если б наверное знать, что есть высшее существо, высшая справедливость и разум, что, помимо людской, есть высочайшая милость и правда!" – шептал он побледневшими губами и, став перед образом на колени, долго молился, стукаясь лбом о холодный пол. Но молитва ему не помогала: он попрежнему чувствовал себя оставленным, брошенным, одиноким и, поднявшись с полу, корчился в муках и ломал руки. В окна глядела безмолвная, черная ночь. Ему становилось страшно. Его пугала темнота растворенной двери, пропадавших в тени углов громадного дома и мрак глядящей в окна ночи. В ней мерещились ему неуловимые, но страшные призраки. Страх смерти и чего-то таинственного, неизведанного, и жуткое опасение, что вся усвоенная им иллюзия миросозерцания, условного знания мира может исчезнуть в одно мгновение, и перед ним предстанет то, что действительно есть, чего он не знает, но смутно предчувствует, что оно ужасно, нелепо и безобразно, противно его человеческой природе,– оставляли в нем ощущение холода. Широко раскрытыми глазами, в оцепенении смотрел он перед собою и переживал странное ощущение, будто все вещи видит в первый раз.
Минуту спустя припадок проходил, и он в страшном изнеможении, обливаясь холодным потом, опускался на стул, чувствуя, что надо скорее, как можно скорее чем-нибудь занять себя, забыться, отвлечься от тех ужасных образов, какие лезли в голову, и выйти из этого состояния холодного ужаса, уйти от самого себя. Он с усилием пытался думать о приятных и веселых вещах: о семье, о клубе, о городских увеселениях, о последнем концерте, но все представлялось ему отвратительно пошлым, безобразным, чудовищным... Клубная зала представлялась мрачною, грязною, как последний трактир, с запахом гнили и керосина, звуки оркестра – каким-то диким завыванием, и всюду пошлые, глупые лица не людей, а скотов... Он видел жену и детей, но они казались ему чужими, и когда он мысленно пытался отыскать в них знакомые и милые черты, в груди вдруг подымалась острая боль презрительного сожаления. "Разве я их люблю? – бормотал он.– Боже мой! Я их ненавижу!.. Я их презираю... Говорят, у меня прекрасная жена, эта воплощенная кротость и долготерпение... прекрасная жена... Да, она прекрасная жена, прекрасная мать... Она любит меня и детей, во всем свете только меня и детей... Она обожает нас, как язычник обожает солнце... А если б она знала одну сотую, одну тысячную часть всех мерзостей, какие я совершил, если б только она знала, может быть, она с отвращением отвернулась бы... впрочем, нет... она бы весь мир обвинила, только не меня, я остался бы прав и только несчастлив и потому еще более достоин любви,– такова логика идолопоклонства... О, господи, господи!.. А дети? Я любил их, пока они были малы и наивны, а с тех пор, как выросли и возмужали, во мне засело скрытое недоброжелательство к ним, ненависть, зависть... я не знаю, что это такое... Я ненавижу Катю за то, что она и душой, и телом так поразительно похожа на мать... Она читает романы, вышивает по канве, танцует на вечерах и там ведет с кавалерами поразительно глупые, но безукоризненно приличные разговоры, потом выйдет замуж, станет верною женой и матерью-наседкой, с куриным умом, с куриными хлопотами и заботами, с наивным эгоизмом. Пойдут дети, начнутся мелкие ссоры с мужем, дрязги... Танцы, наряды, милые пустяки и любезные речи кавалеров должны будут уступить другой, более скучной материи, но все же они, только они, навсегда останутся единственною поэзией жизни... Боже мой! Какая страшная нелепость!.. А сын, этот умеренный и аккуратный Митя, который так прекрасно учится? Ему нет еще девятнадцати лет, а он уже на втором курсе горного института... Рассудительный, сдержанный, строго отличающий приличное от неприличного, должное от недолжного, он не попадется в студенческую историю, не заведет рискованных знакомств, напротив, он уже теперь умеет заводить полезные связи, этот мальчишка. Поразительно невежественный и самоуверенный, он обо всем судит с кондачка, довольствуясь общими местами, всегда холоден, ровен, как человек уже поживший. Мое родительское сердце должно бы радоваться,– ведь это осуществляется мечта моей, жизни, ведь я всегда желал его видеть таким, застрахованным от всяческих увлечений, между тем отчего же сознание, что этот молодой старик, этот Молчалин – мой сын, наполняет мое сердце горечью и холодным озлоблением?.. Я его ненавижу, я его презираю, этого чистенького, гладенького, надменного и ограниченного барчонка, эту тупицу без сердца и без мысли... да, ненавижу, ненавижу... О, боже! Как мне все опротивело и надоело!.. И зачем эта ужасная, разрывающая душу тоска?.."
Он знал, что это болезнь, приближение запоя,– знал, что он неизбежно наступит, но еще боролся и надеялся, авось, пройдет. Будь под руками водка, он бы немедленно запил, но водки не было, за ней надо было посылать, а что это значит – все знали, и он боялся подавленных улыбок Марыча и прислуги и той особенной торопливости в исполнении его приказаний, которою хотят показать, что они ничего не знают и не подозревают о том, что с этого момента начнется нечто безобразное и унизительное. Когда наступит время, он, после многих терзаний, скажет Марычу возможно непринужденным тоном: "Вот что, Марыч, возьми на столе деньги и купи водки". Марыч растеряется на минуту, заморгает глазами, потом суетливо ответит: "Слушаю-с, сколько прикажете-с? На все-с?" – и с особенною поспешностью в движениях, не глядя на него, выйдет. Потом явится Ирод с графином и закуской. "В кабаке водка нехорошая,– скажет он смущенным голосом,– не угодно ли, у меня первый сорт",– и так же, не глядя в лицо Псалтырина, чтобы не видеть на нем краску стыда, поспешно уйдет.
– Нет! – вскричал Псалтырин с исказившимся от страдания лицом,– врете вы, изверги! Не позволю над собой издеваться! Не позволю!..
Но припадок бешеного протеста быстро проходил, и Псалтырин со стоном в изнеможении бросался вниз лицом на кровать, подавленный горьким сознанием, что с роковою неизбежностью он должен будет всю чашу унижения выпить до дна.
VI
Псалтырин запил. Красный, опухший, с безобразными щелями вместо глаз, с мутным, блуждающим взором, немытый, нечесаный, полураздетый, он пил без просыпу уже пятые сутки.
Окно было завешено, в комнате был страшный беспорядок: по полу валялись окурки, крошки хлеба, всюду грязь, пыль, сор. Из-под кровати глядели пустые бутылки, под столом стояла початая четверть водки, на столе графин, рюмка, черный хлеб и соль. Псалтырин в припадке самоуничижения не позволял ни к чему прикасаться.
– Пусть грязно, пусть грязно... Не трогать, не нужно! Чем больше грязи, тем лучше, так и подобает... Свинство так свинство! – кричал он охрипшим голосом, размахивая руками и блуждая бессмысленным взором по сторонам.
Он выкрикивал грязные ругательства, горланил песни, рыдал, кулаком бил себя в грудь и плакал пьяными слезами; в промежутках пил, закусывая одним черным хлебом с солью. Он гнал всех и выносил только Марыча, который ему прислуживал.
Ранним утром, когда было еще почти темно, во двор въехала повозка, запряженная тройкою лошадей. Из нее вышла жена Псалтырина и сын Митя. Их встретил Голубев с грустным лицом и помог барыне выйти из экипажа. У ней было измятое и заплаканное лицо,
– Ну, что? – спросила она.
– Не извольте беспокоиться.
– Спит?
– Не могу знать. Едва ли-с.
– Ах, я позабыла вас поблагодарить!.. Благодарю вас, благодарю вас.
Барыня протянула руку Голубеву, который сконфузился и пробормотал:
– Помилуйте-с... счел долгом уведомить...
– Я вам так благодарна, так благодарна. Митя, иди осторожнее: он, может быть, спит.
– Едва ли-с,– повторил Голубев.
Барыня, Митя и Голубев осторожно вошли в прихожую.
– Кто там?– послышался хриплый голос Псалтырина.
Спавший у дверей на тюфячке Марыч проснулся и смотрел на них дикими, недоумевающими глазами. Барыня быстро прошла мимо него и вошла в комнату. Митя разделся в прихожей при помощи Голубева и вошел твердым, решительным шагом. Голубев не посмел войти и остался в прихожей.
Псалтырин лежал на диване. Увидев жену, он приподнял голову.
– Ага! – сказал он, с усилием поднимаясь.– Донна Анна!.. Откуда ты, о донна Анна?.. Донесли! Доложили!.. Ага! И Митька здесь. Ну, полюбуйся, полюбуйся на родителя.
– Здравствуй, Саша! – сказала барыня, скоро и весело подходя к нему, и хотела его поцеловать.– Мы совсем тебя потеряли и так соскучились, что, не предупредив, решились приехать. Притом ты ничего не писал, мы так беспокоились.
Псалтырин грубо отстранил ее рукой.
– Незачем! – вскричал он и дрожащею рукой налил из графина водки, расплескав ее по столу.– Незачем! – повторил он, выпивая рюмку и делая странные гримасы. Водка текла у него с бороды на открытую волосатую грудь.
– Ты бы оделся, Саша, ты такой непрезентабельный.
– Незачем! – с пьяным упорством твердил Псалтырин.– Вот запил... видишь? Ну, смотри, любуйся, какие на мне узоры написаны!.. Грязен, как свинья! Ну и что же?.. Так и надо, так и надо.
– Мы хотели тебе сделать сюрприз,– приехали, не предупредив,– говорила между тем жена с беззаботным видом, но едва сдерживая слезы.
Псалтырин захохотал.
– Сюрприз? Покорно благодарю.
– Мы хотели тебя звать домой, ведь Митя на днях уезжает.
– С богом!
– Мама, разденься,– сказал Митя.
– Ах, да, да... Хорошо, хорошо.
Барыня суетливо стала снимать с себя шаль, шубу и калоши.
– А ты зачем здесь, щенок? – обратился Псалтырин к сыну, который упорно, строго и презрительно-холодно смотрел на отца. Митя пожал плечами и ничего не ответил.
– Не одобряете-с? – продолжал отец.– Вижу, вижу, Митенька Козелков... Знаю, что вы неумолимо строги, господин Козелков, будущий помпадур... Ну, что делать? Что делать? Не взыщите!
– Дайте нам чаю, маме необходимо согреться,– распорядился Митя, обращаясь к Ироду. На слова отца он не обратил никакого внимания.
Вскоре подали самовар, сливки, масло и белый хлеб. Митя молча, с видимым аппетитом, принялся за чай. Барыня, не переставая говорить, растерянно хлопотала около самовара. Руки у ней дрожали и голос прерывался от подступавших слез, хотя говорила она все о веселых и безобидных вещах: о городских новостях, о каком-то Петре Степаныче, который у них был с визитом, о театре, о забавных приключениях в дороге. Псалтырин, казалось, впал в состояние отупения и не слушал. Когда руки его машинально протягивались к графину, у жены вырывалось подавленное восклицание, и она как-то вся опускалась, но, быстро овладев собой, опять начинала весело и беззаботно болтать.
Напившись чаю, Митя заявил, что пора ехать домой.
– Дни короткие, дорога плохая,– сказал он,– и так к вечеру едва поспеем домой.
Мать с укоризною взглянула на сына.
– Погоди, дружок, нельзя же так вдруг,– шепотом возразила она.
– Нечего тут миндальничать,– ответил он громко.
Она испуганно взглянула на мужа и с стремительною быстротой заговорила о чем-то постороннем.
– Маточка! – заговорил Псалтырин, точно пробуждаясь от сна.– К чему ты тараторишь? Как горох сыплешь... к чему?.. Зачем эта ложь? Что я, ребенок, что ли?.. Ты за мной приехала, так и говори: поедем, довольно безобразничать, а то "сюрприз"... Ох, боже мой!..
– Что же, поедем, голубчик!
– А вот не поеду!.. Ни за что!..
– Как не поедешь, Саша?
– Не поеду!
– Положим, ты поедешь, отец,– вмешался Митя, бледный, с блестящими от гнева глазами.
– Что-о?!
– Я тебе говорю, что ты поедешь.
– Ты говоришь?.. Что же, ты силой меня повезешь, а?
– Если понадобится, то и силой.
– Митя, Митя! – с ужасом заговорила мать.– Ради бога, ради создателя!..
Псалтырин поднялся на ноги и, сжав кулаки, весь затрясся от гнева.
Барыня бросилась к мужу и, обнимая его, говорила:
– Ради бога... Саша!.. Милый!.. Успокойся... Митя, уйди!
Но Митя не уходил и упорно смотрел на отца, гипнотизируя его взглядом.
– Уйди, уйди! – кричала ему мать.
– Мама, вспомни, что мы с тобой говорили.
– Уйди, уйди!
Между тем Псалтырин рвался из рук жены, размахивал руками и выкрикивал ругательства.
– Негодяй!.. Щенок!.. Как ты смеешь?.. Я тебя ненавижу, ненавижу!..– кричал он в исступлении.
Размахнувшись, он нечаянно ударил жену по лицу и, заметив, что она со стоном ухватилась руками за ушибленное место, сразу опомнился. С внезапною нежностью он обнял и ловко посадил ее на диван.
– Прости, милая,– говорил он, целуя ее руки.– Тебе больно?.. Ну, прости, прости... Ну, я свинья... Господи! Что это?
– Ничего, ничего, пустяки,– отвечала она сквозь слезы, счастливая, что он ее приласкал.
Мите были невыносимы эти "телячьи нежности", и, насупившись, он отвернулся к окну.
– У тебя, маточка, все же доброе сердце, доброе сердце,– говорил Псалтырин расслабленным голосом, лаская жену.
– Поедем, голубчик,– говорила она.
– Поедем, поедем, мне все равно... все равно... Меня только этот возмущает... Митька. У-у, зелье!.. Ты меня извини, я выпью... должен выпить... необходимо...
– Не пей, Саша.
– Нет, нет... только одну, только одну... уж ты позволь...
Псалтырин выпил рюмку и хотел налить другую, как вдруг Митя взял графин со стола и переставил на окно, сказав: "Довольно!"
Барыня страшно побледнела, ожидая, что сейчас разыграется дикая сцена. Однако все обошлось неожиданно благополучно. Псалтырин как-то тупо посмотрел на рюмку, на переставленный графин, попытался что-то сказать, но вместо того махнул рукой.
– Ну, хорошо... Ну, довольно,– пробормотал он, откидываясь на диван.
Через полчаса Псалтырины сидели в экипаже.
– До свиданья, до свиданья,– кивая головой и приветливо улыбаясь сквозь слезы, говорила барыня Голубеву, который без шапки стоял подле экипажа и кланялся.
– До свиданья,– машинально повторял Псалтырин, также кивая головой и блуждая бессмысленным взглядом.








