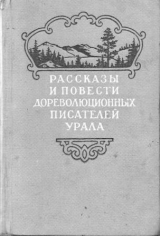
Текст книги "Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала. Том 2"
Автор книги: Александр Туркин
Соавторы: Григорий Белорецкий,Иван Колотовкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– Может, это слухи?
– Извините, – это все знают, только папаша умышленно закрывает глаза. Теперь дальше: по новому закону покупать землю можно только крестьянам, но не больше 30 десятин. Яков Семеныч давно использовал это право, но у него есть подставные лица, на которых и совершаются купчие. Таким манером у него закуплено в собственность более ста десятин по ничтожной цене, в среднем – по 25 рублей за десятину. Недавно богатые хохлы предлагали ему уже по 200 рублей за десятину, но Яков Семеныч ухмыляется и говорит: „Подождем еще!“ И выждет свое, ибо цены на землю все выше и выше растут… Может, он вам говорил про свою торговлю?
– Говорил… – согласился Зайцев.
– И „душа болит“?
– Да… – засмеялся Зайцев, внимательно следя за злым и умным лицом семинариста.
– Ну вот… А торговля у него – петля для живых людей. Понимаете, вроде этакой мыльной удавки. Товарец у него антик с гвоздикой – гниль преотменная!.. И дает он в долг всем сирым, бедным, обездоленным „ради господа“, по „своей цене“, но только тем, у кого есть наделы. Засосет человека так, что он и не услышит, и все старается, чтобы должник вышел из общины, а там уж земля наверняка останется за Лушниковым. При расчете за землю, изволите видеть, он вычтет долг лавочный и додаст одни слезы… По-моему, это страшный человек! Были кабатчики в деревне, вампиры разные, кровососы, но лушниковы страшнее: ибо впились они в самое ценное, кровью вспоенное – в землю!
Семинарист побледнел, подошел к столу, выпил водки и добавил мрачно, смотря куда-то в сторону:
– Но лушниковых будут бить, жечь, душить по ночам!.. И поверьте: землю у них вырвут обратно, с глоткой вместе. Вырвут! И придет новая деревня – только не нами созданная! Ну, извините, господа, – надоел да и папаша сердится…
Он вышел. Отец Василий упорно смотрел в карты, и было заметно, как подергивалось у него лицо. И, как бы оправдываясь перед гостями, тихо проронил:
– Н-да, детки!
– Молодость… – отозвался доктор. – Молодость, господа! Знаете, как хороший квас: будоражит и пенится… По-моему, очень сознательный молодой человек – ваш сын.
– Даже чересчур сознательный… – горько усмехнулся отец Василий. – Прошлый раз становой говорит мне тихонько: „А у вас, отец Василий, в доме красненьким пахнет: по-дружески предупреждаю“. И немудрено: сам еще влопаешься!
– Да чего здесь особенного? – удивился доктор. – Становым вообще мерещится везде „красненькое“.
– Они – народ с нюхом. Сынок мой, видите ли, частенько с мужиками якшается, что-то много говорит им, и не в руку хотя бы Якову Семенычу, который из-за этого и ходить ко мне перестал. Молокососы! Рано бы учить других… И слова не скажи, хотя бы сыну – сейчас на дыбы! Выписал себе „Положение о крестьянах“, какие-то еще книжонки и мутит мужиков: „Из общины не выходите, наделов не продавайте!“ Да ведь что? Про меня, отца родного, мужикам внушает: „Батя у меня ничего, сравнительно, но поблажки давать не следует и зря не платите, ибо поповский карман не набьешь!..“ Каково? Не поверите: доход сильно сократился. Бывало, матушка поедет собирать по приходу даяния – так телеги полные везет всякого добра! До десяти тысяч одних яиц накапливали, масла пудами! А ныне – куда тебе! Все рыло воротят да еще кричат: „Смотри – обиралы едут!“ Это матушке в самые глаза – каково ей бывает? Приедет и плачет, а сынок ржет, как жеребец стоялый, и разные нравоучения читает… Наш народ, дескать, целые века жил для попов да чиновников – теперь будет! Откуда сие? Несомненно, там, в городах, нахватались, а самое ученье по боку. Про себя скажу: кончил семинарию, женился, и дали мне самый бедный приход. Света не взвидел от радости, когда в алтарь зашел господний, и думал: „велика сия милость от вышнего!“ А ныне попробуйте: редкий идет в священники – все куда-то надо в светскую сторону. Уходи, пожалуйста, не мути народ! И девчонку, Людмилу, сбил: была тише воды, ниже травы, а теперь тоже нос кверху… Мы, дескать, всякие идеи понимаем – к чему слушать отца с матерью? Да, наказал бог, наказал!..
Все молчали, и игра как-то не клеилась. Батюшка еще что-то жаловался, и гости, точно сговорившись, встали и начали прощаться. Хозяин пробовал удержать, но делал это вяло и равнодушно, расстроенный и точно осунувшийся немного. Доктор пытался утешить, но выходило все тускло и деревянно…
Зайцев и доктор пошли вместе. Проходя мимо сада, они оба внезапно остановились…
Там играли на гитаре и пели. Рядом с бархатной октавой и рокотом звенящих струн выделялся тоненький, дрожащий девичий голосок. В саду, сквозь редкую изгородь, неясно очерчивались двое, сидевшие рядом, – брат и сестра…
Четко и задушевно, точно зная человеческие думы, рокотала гитара заодно с голосами людей. И плыла-плыла красивая песня, волнующая душу… Тоненький девичий голосок, как бледные цветы на черный могильный крест, ронял образы о ранних жизнях, погибших в неравном бою. И бархатная октава, с силой вливаясь в упругий мрак, где северная весна беззвучно ковала жизнь, – пламенно звала грядущие зори и святое счастье борьбы!..
Зайцев и доктор слушали, молчали, и оба одинаково чувствовали странное в сердцах. Точно по руслу давно обмелевшей реки, где торчало всякое гнилье, вдруг хлынули свежие, сверкающие волны, запели звонкоголосые струи и далеко отшвырнули на берег гнилое и смрадное… Но песня оборвалась – и Зайцев с доктором тихо пошли по серой молчаливой площади…
Доктор в одном месте остановился, взял Зайцева за пуговицу пальто и сказал странно-дрожаще…
– Знаете, дорогой!.. Молодость, звонкая молодость! И у меня сейчас, как у вашего Якова Семеныча, душа болит… Да, болит! И знаете что? Мы с вами резали и обследовали сотни человеческих трупов, но настоящих живых людей мы как-то не замечали. Согласитесь, что мало для живого человека казенной службы, винта и этих вечных проклятых протоколов! А вот тут, рядом что-то молодое, дерзкое, а главное, новое…
– Позвольте, доктор: и мы были молоды…
– Это так, но… рано мы угасли, хотя, впрочем, по-настоящему и не горели… Были порывы, мечты, слова нарядные, но никогда не было дела! Наша молодость – сумерки, может, и красивые из окна комнаты, но не было в них ни одной ранней грозы и молний, которые прорезали бы мрак… Я, например, рано думал о дипломе и о праве занять подобающее „положение“ среди людей, и – только. Занял место и сижу, знаете, как заржавленный гвоздь, раз навсегда вбитый хозяином-мещанином в стену… Вот было так. называемое „движение“, когда дрогнула страна… И стыдно вспомнить сейчас: в окно, из-за косяка, я махал на улицу красным флажком. Понимаете: жили до Этого больными раками, что едва ползают на дне, а тут вдруг „платформа“ и разные, наскоро схваченные слова! Позор один! Сотнями, быть может, лет настоящие живые люди, мученики светлые, нам еще неведомые, гнившие в казематах и крепостях, точили по капле это скромно, мужественно, молча умирая, если нужно… А мы… просто присосались к случаю и ревели: „свобода!“ Не зная, в сущности, в чем она и откуда… Позор! Кричали о „платформе“ сегодня, а завтра уже струсили и, наскоро подтянувшись, крадучись, залезли опять в стену проржавленными гвоздями, чтоб совсем уж не вылезать!..
Он замолчал, посмотрел на небо, где трепетали звезды, и быстро пошел… Зайцев косил глаза на его короткую, толстую фигуру и думал о своем, что осталось в прожитом. И не было там ничего такого, что роднило бы душу с дерзко-свежим и интересным, от чего звенело бы, как сталь, сердце, сверкало небо и пели струны в саду…
1911
ПРИМЕЧАНИЯ
Рассказ первоначально опубликован в журнале «Современник», 1911, № 8. Печатается по тексту книги: А. Туркин. Степное. Издательское товарищество писателей. СПБ. 1914.
Колотовкин Иван Флавианович
Около золота
Бурным потоком лихорадочно спешной, горячей работы кипит залегшая между гор еще недавно не видевшая ноги человеческой золотоносная равнина. Когда-то девственно пышная дремучая тайга уцелела лишь по неприступным утесам и кручам. Жалкий и безобразный вид представляет собой подножие царственных гор: лес уничтожен, по всем направлениям тянутся, как зияющие раны, траншеи, канавы, разрезы; когда-то вольные бешеные потоки закованы цепью плотин. Всюду высятся громадные корпуса, изрыгающие неописуемый грохот железа, адский треск дробящегося камня, тяжелое, огневое дыхание машин, смешанные с непрерывным, пронзительным свистом сигналов и гамом людских голосов. Горный воздух дрожит и стонет от этого дикого хаоса звуков. А налетевшие, бог весть откуда, людские полчища неутомимо идут все далее и далее в своей разрушительной работе, и что-то стихийное чудится в их неутомимом стремлении. Как движимая невидимой рукой искусного стратега, сказочная рать гномов, тысячи выстроенных стеною человеческих фигур медленно и неотразимо крушат недоступные твердыни природы, шаг за шагом уступающей заветные недра силе и разуму человека.
Вдруг прервано наступление; люди врассыпную бегут из разреза, мгновенно очищая поле действия, а через минуту сосредоточенного выжидания там грохнул громкий удар, гулко отдавшись в далеких ущельях и выкинув в высь колоссальный столб брызг воды, камней и осколков вдребезги разнесенной скалы. Новый приступ, новые трофеи победы в виде бесконечной вереницы нагруженных драгоценной добычей вагонеток. Чем-то мирным, отрадным среди этой адской сутолоки и разрушения веет от приютившейся в стороне "бабьей" промывки. Сотня ярких пунцовых, зеленых и лиловых фигур, выстроенных лицом к лицу по обеим сторонам длинных "американок", плавно и методично, как по команде, то подается вперед, налегая на длинные скребки, то откидывается назад, будто отталкиваемая противоположной шеренгой, или все вдруг начинают очищать грохота, дружными взмахами откидывая через плечо накопившуюся обмытую гальку.
Ни одного неловкого движения, ни одного неверного шага: все идет гладко, рассчитанно, как хорошо срепетованный балет. Сотня проворно движущихся скребков, как серебряная, сверкает на солнце; стоголосая, как степь, привольная, как море, безбрежная песня покрывает их лязг и волной разливается по долине.
Солнце поднялось уже на полдень, ослепительно яркими лучами заливая всю эту движущуюся панораму до нестерпимого зноя накаливая спертый в глубокой лощине воздух, пропитанный запахом смолистой хвои сосны, кедра и пихты.
Совершая обычный утренний обход работ, владелец промыслов по своей привычке взобрался на высшую точку целой горой возвышающегося отвала и с самодовольной улыбкой наблюдает оттуда кишащий муравейник прииска, любовным взором провожая тянущиеся к промывкам обозы с богатой добычей. Собственник нового прииска – не старозаветный золотопромышленник – бородач в картузе, что, бывало, не отличишь от рабочей братии, покамест он не начнет, минуя всякие "правила" и "таблицы штрафов", собственноручно учить пьяницу и лентяя или, подгуляв с пудовой намывки, заставит людей петь песни и примется пригоршнями разбрасывать в толпу сотни рублевиков,– нет, это промышленник новейшего времени: уже почтенного возраста капиталист, в рыжих бакенах, с выбритым подбородком и олимпийским величием в надменном взоре.
Окрестные золотопромышленники втайне завидуют его состоянию и умению вести дела; собственным рабочим внушает он трепет и страх своей неумолимой строгостью на почве различных взысканий, вычетов и штрафов; в ревизоре он вызывает сплошное неудовольствие как своею манерою кланяться, не сгибая шеи, и протягивать мизинец руки, не выпуская сигары, так и аккуратным соблюдением всех циркуляров, исключающим счастливую возможность "визитных". Ему нравится русский рабочий своей выносливостью, нетребовательностью. Но он избегает всяких общений с народом вне дела, исключая "бабьей" промывки, приятной ему прежде всего своей дешевизной "со всякой стороны".
Зорко оглянув открытые работы разреза, где согнутые залитые потом спины, ничего, кроме усталости и изнеможения, не выражающие лица, эти мелькающие в воздухе заскорузлые, напряженные руки и шлепающие в леденящей ключевой воде едва обутые ноги представляли мало красивую картину для эстетического ока,– владыка прииска направился уже было в сторону песни, как заметивший его смотритель вырос будто из-под земли, спрашивая, не будет ли каких приказаний.
– Осторошно, пожалюста, работать... Никого не убиль, а то большой штраф и неприятность получаем! Они нарочно руки и ноги подставляль... Что с пятой линии?
– Слабо. Идут пески, но пока только знаки...
– Фуй, стид! Не нужно знаки, нужно золото!
– Постараемся, ваше превосходительство.
– Что постарался, когда фон Громышев мне пустой земля продавал? Знаки, знаки!..
На "бабьей" промывке издали еще заметили приближающегося хозяина, и хотя здесь он бывал всегда даже чересчур ласков, но тем не менее по привычке все подтянулись. Девки спешно пообдернули свои несколько вольно подобранные юбки, оправили растрепавшиеся косы и поплотней застегнули кумачовые рубахи. Песня вдруг начала слабеть, распадаться, а потом и совсем оборвалась. Слышно лишь только мерное шарканье скребков да шум воды. Нарядчик Мартын Яковлевич плюнул на недокуренную цыгарку и, подбодрившись, стал, без всякой нужды к тому, покрикивать на свою пеструю команду, а потом, отвесив поклон хозяину, ретировался в сторонку,– барин не любил свидетелей при посещениях промывки.
– Здрасте, милые! – ответил он на поклоны с слащавою, плотоядною улыбкою.– Фуй, как вас много... И все такой румяной, красивой девушки...– Зоркий глаз его сразу приметил стоявшую с края "новенькую", робкую, застенчивую Настьку, с смуглым кругленьким личиком, темными глазками под пушистыми ресницами и с тяжелой, пышной косой.– Что ты, душечка, переставаль петь? Вот покраснела! Ничего, не бойсь...– Он уже протянул было свою руку к пышному, девственно-прекрасному стану девушки, как вдруг случилось нечто неожиданное. Испугавшись непрошенных ласк, Настька дрогнула всем телом и, как встревоженная лань, так быстро отпрянула в сторону, что, потеряв равновесие, старый селадон сунулся обеими руками в эйфеля, выпачкав свой светлый костюм и сронив с носа пенсне. Промывка замерла. Настька, бледная от обиды и страха, виновато смотрела кругом полными слез глазами. Мартын Яковлевич первый бросился на помощь барахтающемуся патрону, силясь замять неприятный инцидент.
– Известно, в лесу родилась, пню молилась,– лепечет он: – вот не может хорошего-то человека от своей братии отличить... Обращения, значит, не понимает...
– Совсем не понимает... И такая злая, и вон башмаки какие – деревянные...– соглашается переконфуженный ловелас, воззрившись почему-то на истрепавшиеся Настькины лапти.– Такой девушки дружок никогда не будет, и ботинок ей никто не купит...– заключил он, удаляясь с промывки под руку с Мартыном Яковлевичем и слегка прихрамывая.
На машине заревел обеденный гудок и положил конец поднявшимся пересудам. Работы моментально прекратились. Люди побросали скребки, лопаты, привычные лошади не хотели идти далее и распрягались на полпути. Большая часть рабочих с "бабьей" промывки шумной ватагой потянулась в сторону казарм; остальные, вместе с Настькой, чтобы не терять времени, расположились тут же, подле вашгердов. Прошло несколько парней, на иждивении которых состояло большинство красавиц, хлопотавших теперь около котла жиденьких щей с солониной и крупой. Предметом нескончаемых балагурств, шуток и россказней явилась Настька. Парни хвалили, девки искренне сожалели о случившемся и на все лады порицали неопытную подругу.
– Да ты дура али нет? – наступает на Настьку кипящая участливым негодованием франтиха в плисовой кофточке и с богатырскими формами, в то время как смущенная девушка не знала, что отвечать на такой щекотливый вопрос и лишь тоскливо улыбалась на все стороны.– Навек бы себя устроила, может... Тут уж не целковыми пахнет; пятаки да десятки бы получала! Да я бы, кажись, на части разорвалась да ползком бы за ним поползла, кабы поманил он меня; плюнула бы тогда на этих охаверников, что за всякий четвертак надсмеются над тобой на целковый, а ты... У! деревня сермяжная! Другая бы коровой ревела, что экому счастью попустилась, а она хоть бы что!..
– Да уж ты у нас что и говорить! – кольнула говорившую другая, одетая попроще и из себя не столь авантажная.– Все бы за себя взяла... А тут девка новенькая... Другие тоже ведь и совесть имеют...
– А тебе что тошно? Туда же: "совесть". Поди, так она в тебе и не ночевала... Знаю я твою совесть-то. Кто перед пьяным татарином, почитай, вверх ногами плясал? Другая хоть из-за хлеба с одним кем, а ты... Тьфу! Я ведь что? Я ведь ее же жалеючи говорю, потому все равно не удержится, ни за что ни про что пропадет с каким-нибудь голодранцем... Вот ботинки да еще, может, платок ситцевый – вся пожива будет, тем и отъедет он, прощелыга, а она ступай, майся! Чай, ведь и в самом деле думает, что сама-собой проживет, ха-ха! Смехотушки да и только... Вот проробила неделю – рубль двадцать, а по книжке, гляди, за хлеб да чай-сахар полтину отдать причитается; да ведь, поди, один-от чай лишь кишки промывает, охота и похлебать; глядь – из всей-то заработки остался один двугривенный! Тут тебе и ботинки, все прочее. Ежели человек с понятием, так и рассудит, что нельзя тут нашей сестре прожить! Это вот она разве не знает, так пусть бы уж падала в море, а не в лужу; с деньгами-то девка и в деревне завсегда пристроится; не поглядят, что с новинкой, тем море не погано, что пес налакал!
Чуя жестокую правду в речи озлобленной женщины, сбитая с толку, Настька тихонько всхлипывала, оплакивая свою участь. Что-то, действительно, обидное, всеми понимаемое, но всеми умалчиваемое и терпимое, кроется в этом "двугривенном" бабьем заработке; точно так же мирятся люди с облеченным в законную форму и приобревшим гражданское право злом и пороком, алчностью сильного и попранием права слабого.
– Эй, Настька, не тужи! – утешает какой-то приисковый сердцеед в "трековой" жилетке, с наглым лицом и громадным носом, что "смотрит в рюмку".– Утешим по всем статьям, не хуже барина... Денег у нас нет, что ли, али долгу мало! Дура, что ревешь-то?
– Тьфу ты, пес! – загоготали кругом: – туда же с барином равняется, шпана несчастная... Да кто ты супротив него-то? Одно слово – туес некрашенный, право!
– Он, братцы, два раза подходил, как носы раздавали,– решил вставить свое слово все время молчавший, какой-то придурковатый и рябой парень из крестьян.
– Вот уж не из тучи-то гром! – посыпалось на него отовсюду: – гляди, твой пай получил к своему в придачу! Уж сидел бы да молчал, коли свиным рылом украшен.
– А по мне, так какая мужьска красота,– вступилась за курносого давно приглядывавшаяся к нему белобрысая девица: – лишь бы кони не боялись...
– Ну, уж ты тоже...– прыснули на нее более далекие в своих эстетических стремлениях щеголихи.– Вывезла не лучше пряжи! Что скажет, так на обух не наколотишь... Нечего сказать, пара – сыч да гагара! – Довольно откровенные двусмысленности, балагурства сыпались, как из решета; неудержимый смех так и реял над этой жалкой толпой.
– Эк вас разбирает! Набили брюха-то, так заржали...– ворчит подошедший Мартын Яковлевич,– стыда на вас, девки, нету! Связались с этими процимбалами-то; уши вянут слушать вас... Ну, Настька, наделала ты делов; барин и посейчас не очухается, ловко его саданула, право!
– Да почто он, дяденька, с руками-то лезет... Тоже ведь стыдно...– сквозь слезы оправдывается та.
– Вот ты и вышла как есть дура! – отрезала какая-то воструха: – что, позолоту он с тебя смажет, что ли? Старичка и уважить можно; не убыло бы тебя, а глядишь ботиночки бы завела... Ежели с умом делать, так и соблюдать себя можно, да и фарт от себя не отпускать!
– То-то ты и соблюдаешь себя. Небось, тоже за поглядку ботиночки-то получила! Заприметил бы тебя барин-от, поди, не брыкалась бы?
– Да уж известно! Что я ваксы объелась, что ли, от своего счастья отвертываться...
– Счастьем зовет, срамница! – горько усмехнулся Мартын Яковлевич: – совесть да стыд порастрясла, верно, на кофты да разные балянтрясы, а ведь тоже, поди, отец-мать были, не тому учили... Ох, девки, девки! Дуры вы, воистину – сосуд скудельный, слабое место... И почто вас сюда пускают? Самое это последнее дело, вся-то цена вам тут двугривенный, промышляй, значит, более, как знаешь... Стыд! А попала которая сюда, все равно как утонула: какая уж после этого будет замужница, мать детям?
Редкостный человек этот Мартын Яковлевич. Замечателен он не удивительным постоянством, с каким уж лет пятнадцать выпивает с горя, оплакивая участь своей погибшей дочери, а заслуживает уважения тем, что среди загрубелых людей сумел снискать к себе чувство всеобщей привязанности своей бескорыстной, трогательной и высокой любовью ко всем обреченным на скитания по казармам вдовам, чужим дочерям и сестрам. Всю свою жизнь полагает он на постоянные заботы о них, великодушно тратит все заработанные гроши, чтобы спасти и поддержать заброшенных в эту трясину порока и разврата молодых, неопытных и беспомощных среди тысячи соблазнов существ, горько сокрушаясь и болея сердцем за каждое новое падение. А скольких падений он был свидетелем! Счет им давно потерян.
– Ох, Настька, сирота ты бесталанная! Горькое твое дело...– вздыхает старый нарядчик.– И неуж нигде не нашлось тебе иного угла да другого куска хлеба, что сюда бросилась? Дорог здешний-ет хлеб вашей сестре, ой-ой как дорог! Да не убивайся очень-то; тоже и здесь люди живут... Только не гляди ты на этих модниц-то, не слушай их... Чего они тут тебе наговорили? Вот всякая из них локоть-то кусает, да уж поздно; вот храбрятся, сами себя только утешают, а совесть-то не утешишь кофтами да ботинками этими, совесть-то она живуча, да! Иная как пораздумает над собой, наипаче подвыпимши еще с обиды, так волком воет, волосы на себе дерет и рождение свое проклинает!.. Насмотрелся уж я тут всяких... А пуще всего берегись ты этих лоботрясов-то, не слушай басен-то их, ой, берегись! Здесь тебе оставаться не след; барин осерчал и рассчитать велел; так поставлю тебя в разрез сцепщицей, он туда не заглядывает. На глаза ему не суйся. Ничего, проживешь! Много ли одной надо... Ох, жалко мне тебя, девка, жалко! Вот и моя такая же была, кроткая да ласковая... Извели ее, ласточку мою, сгубил ее окаянный инженеришка заезжий,– буры у нас тут ставил, не посмотрел, что ребенок еще, почитай, была... Опоил ее чем-то, надсмеялся! С месяц не в себе была, в рассудке помутилась, не признает никого и все бежать рвется... Только прозевай, бывало, а она уж в казарме: с парнями, как самая последняя это, стыд вовсе потеряла... на всякого вешается, ругаться скверно ее научили... Галились, тешились над ней всей казармой; спрячут ее иной раз да дня два не показывают, а я уж с горя да с обиды и сам с ума сходить начинал! Связывал я ее спервоначалу-то, бил, прости меня, господи, а все не помогает; совсем без ума сделалась, все к парням бежит... Надоумили добрые люди, стали мы ее лечить, и бог пристал... Все задумываться стала: сидит иной раз целый день на одном месте и будто что вспомнит да спросить хочет, а никак не вспомнит... Потом всех признала, и уж не знаю, кто ей про все поступки ее рассказал; а тут еще из избы вышла, и какой-то безбожник, по старой памяти, слово ей такое сказал, что помучнела она вся и нивесть что с ней стряслось: забьется в угол и не откликается; от еды отбилась, слова не скажет ни с кем, а то столь-то горько заплачет! Извелась совсем... Стал я с ней на родину собираться; обрадовалась она, засмеялась даже, по домашности хлопочет, совсем как раньше было... Радости-то у меня было! Да не надолго: в последнюю ночь сбежала она из избы да в прорубь... и не утонула,– вода-то низко стояла; застряла она и замаялась, сердечная, дитятко мое... До следствия в амбаре держали, а тут крысы ее поели... Господи, мученица ты моя!..– Скудная старческая слеза скатилась по морщинистому лицу Мартына Яковлевича и расплылась на грязном, затасканном рукаве.
– А Дунька вчерась самородку подняла,– прервала нависшую тягостную тишину одна из поденщиц: – тридцать золотников вытянула...
– И ведь возле самой-то меня стояла! Просто зло берет, ослепла я на ту пору...– досадует другая.
– Домой отправляется... Замуж хочет идти... Как-то ведь людям везде счастье!
– Ну, и слава богу... Она девка степенная, дай бог...– сочувствовал нарядчик.
– Айда скорей на машину! – Издали еще кричит стремглав несущаяся на промывку бледная, перепуганная сцепщица: – неладно там шибко, Мартын Яковлевич! Аниску шкивом задернуло; не знаю, жива ли... Ужасти просто!
– Как? Где? Какую Аниску? – посыпалось со всех сторон на вестовщицу. Все вскочили, позабыв недоконченный обед, тесным кольцом окружив прибывшую.
– Аниску с Херувимовки... Воды из котла нацедить она хотела, а колесо-то у водокачки за юбку ее как ухватит, да кверху, да ногами об вагу! Только хрусткоток пошел... Беги скорей, Мартын Яковлевич, никого там нету, за фершалом убежали! Дышит ровно еще, а кровь так фонтаном и хлещет, и хлещет...
– Господи Исусе! Сегодня еще вместе на раскомандировке были, еще с Елеской она ругалась... Господи...
– Да как же это так... Вот грех какой! Как же это она... Дай-ка скорей мне правило! Картуз где-то запропал...– мечется впопыхах встревоженный Мартын Яковлевич: – Вот еще напасть-то где! Оборони, царица небесная, всякого крещеного. Айда, беги скорей, по-за кузнице-то беги, ближе!..
– И я! И мы! Айдате все...– всполошилась команда, кинувшись вслед спешно удаляющемуся нарядчику.
– У-у-у! – властно и повелительно заревел гудок, призывая бегущих к продолжению прерванной, бесконечной работы, и, повинуясь этому мощному, безучастному ко всем людским бедам и горю бездушному зову, остановилась двинутая влечением сердца толпа, берясь за скребки и лопаты. Смутный страх и гнетущий ужас обрушившегося несчастья написан на этих сосредоточенных, безропотно покорных лицах, и песня до самого вечера не звенела уж над дешевою "бабьей" промывкой...
ПРИМЕЧАНИЯ
И. Ф. КОЛОТОВКИН
Иван Флавианович Колотовкин родился в 1878 году на Урале, в поселке Березовский завод, в семье чертежника заводской конторы. Флавиан Яковлевич выбился "в люди" из крестьян. Желая дать детям образование, он переехал в Екатеринбург. Здесь Иван Флавианович окончил начальное училище. Попытка продолжать образование в горном училище оказалась неудачной, отказали "за недостатком мест для лиц непривилегированного сословия". Осталось одно – поступить на службу. Иван Флавианович уезжает на Исовские золото-платиновые прииски, где служит конторщиком. В течение двух лет работы на приисках он усиленно занимается самообразованием, а с 1899 года начинает литературную деятельность. В местной печати появляются его первые фельетоны и очерки.
Переехав в Екатеринбург, Колотовкин завязывает тесные связи с редакциями уральских газет и журналов ("Урал", "Уральский край", "Уральская жизнь", "Голос Приуралья" и др.). Отдельные рассказы печатает и в других провинциальных изданиях ("Волжские вести", "Белорусская жизнь"). В 1905 году он выпустил сборник рассказов "За горами", а в 1919 году подготовил второй – "На чужой стороне".
Так и не став писателем-профессионалом, Колотовкин продолжал работать в различных учреждениях Екатеринбурга. Длительное время служил он в конторе компании Зингер и принимал активное участие в забастовке служащих компании. Затем переехал в Пермь, работал в кооперации.
Только в 1917 году он, наконец, получает возможность вплотную заняться журналистской деятельностью, редактирует и издает журнал "Известия потребителей" – орган Союза потребительских обществ Северо-Восточного района.
В 1919 году у Колотовкина начинаются приступы тяжелой болезни. С этого времени он уже ничего не пишет. Болезнь выбила его из рабочей колеи. 28 мая 1922 года И. Ф. Колотовкин скончался.
А. Г. Туркин, современник и личный друг Колотовкина, в одном из писем к нему (июнь 1910 г.) так охарактеризовал дарование и самую личность своего собрата по перу:
"По скромности своей (это, положим, хорошо – скромность) Вы даже и не подозреваете, Иван Флавианович, какой, в сущности, вы талант! Берегите в себе это сокровище, нежно и любовно воспитывайте его... И от этого ваша жизнь, быть может, одинокая – будет согрета близким и чистым другом..."
По характеру своего творчества Колотовкин – лирик. Нет ни одного рассказа, где бы не проявлялось авторское отношение к изображаемым фактам и явлениям. По его произведениям можно проследить всю гамму чувств и настроений представителя той части русской интеллигенции, которая искренне ненавидела существовавший в России самодержавно-полицейский и буржуазно-помещичий строй, искренне желала "великой перемены" в общественной и государственной жизни России. По своей писательской манере Колотовкин стремился продолжить традиции Чехова.
Основной герой Колотовкина – маленький человек. Его мысли и чувства, его горькая судьба все время в центре внимания писателя. Больше всего Колотовкина занимает проблема социального, положения маленьких людей, проблема социальной несправедливости. Рельефно изображает он быт простых людей, не скатываясь при этом к плоскому бытописательству и натурализму, и в героях своих он умеет выделить их социальную сущность.
С горячей симпатией рисует Колотовкин фигуры протестующих против "житейской" несправедливости. Бунт "маленького человека" анархичен и обычно кончается его гибелью, но это не значит, что писатель не видел другого пути борьбы – революционного. Тема революции притягивала писателя в период наибольшего расцвета его творчества с 1905 по 1910 год. Прямо или косвенно Колотовкин касается этой темы в рассказах: "Голодные и пресыщенные", "Олесь", "Ночью", "Рыцарь на час", "Утишье" и др.
Два враждебных лагеря встают перед нами со страниц этих рассказов, интересы их противоположны и непримиримы. Колотовкин не был организационно связан с революционным авангардом рабочего класса. Но он был свидетелем его героической борьбы на родном Урале. Вместе с ним пережил он и горечь поражения. Написанные в 1907 году рассказы "В тупике" и "Рыцарь на час" освещены пламенем последних баррикад. Колотовкин показывает политических ссыльных, живущих мыслями о свободе ("Шестеро"), заключенных, которые, рискуя жизнью, совершают побеги из тюрем ("Ночью"). Однако содержание самого революционного подвига остается вне рассказа. Автора больше интересует психология человека, лишенного свободы, тоскующего и в конце концов бесплодно гибнущего.








