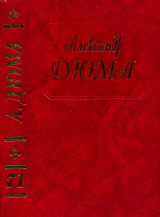
Текст книги "Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
«Ба! – говорил я себе. – Я сам проложу путь, если его не существует, но мне необходимо туда подняться».
Ночью же все было иначе: стоило закрыть глаза, как мне казалось, будто я уже в пути. Вначале подъем был таким легким, словно под ногами у меня была проезжая дорога, и я говорил себе:
«Черт возьми! А я ведь был глуп, думая, что подняться на Монблан так уж трудно».
Затем, мало-помалу, дорога сужалась, но это все еще была вполне приличная тропа, наподобие той, что ведет к Флежерскому кресту, и я продолжал идти вперед. Наконец, я добирался до незнакомых мест, где тропинка исчезала напрочь. И что же! Земля приходила в движение, мои ноги погружались в нее по самые колени. Но я не обращал на это внимания и продолжал рваться вперед. До чего мы глупы в своих снах!.. И в конце концов мне все же удавалось выбраться; однако подъем становился таким крутым, что я был вынужден карабкаться на четвереньках: теперь дело принимало совсем иной оборот! Каждый последующий шаг давался мне все труднее. Я ставил ногу на выступы скалы и чувствовал, как они шатаются подо мной, словно зубы, которые должны вот-вот выпасть; пот катился по мне градом; я задыхался. Это был настоящий кошмар! Но ничто не могло меня остановить: я упорно шел вперед, подобно ящерице, ползущей вдоль стены; я видел, как земля ускользает у меня из-под ног, но мне все было безразлично: мой взгляд был устремлен только вверх, и я страстно хотел дойти до цели, но вот мои ноги!.. Я, никогда не жаловавшийся на крепость своих коленей, не мог их больше согнуть. Я сдирал ногти о камни, я чувствовал, что вот-вот упаду, и говорил себе:
«Жак Бальма, дружище, если ты ухватишься за эту маленькую веточку у себя над головой, все у тебя будет в порядке».
Проклятая ветка: я касался ее кончиками пальцев, я скреб ногами, словно трубочист в дымоходе! А! Вот она, эта ветка! А! Я уже ухватился за нее! Ну же!.. Ах, эта ночь, я никогда ее не забуду: жена разбудила меня крепким ударом кулака!.. Вы только представьте себе: я вцепился ей в ухо и тянул за него, словно это был кусок каучука. О! На этот раз я сказал себе:
«Жак Бальма, ты должен сам все разузнать».
Я вскочил с кровати и принялся натягивать на ноги гетры.
«Куда ты идешь?» – спросила меня жена.
«Искать горный хрусталь», – вот каков был мой ответ.
Мне не хотелось рассказывать ей о своем намерении.
«Не волнуйся, – прибавил я, – если ты не дождешься меня этим вечером. Если я не вернусь в девять часов, значит, мне пришлось заночевать в горах».
Я взял крепкую палку с прочным железным наконечником, которая и по длине, и по толщине в два раза превосходила обыкновенный альпеншток, наполнил фляжку водкой, положил в карман кусок хлеба и отправился в путь.
Как-то раз я уже пытался подняться на Монблан со стороны Ледяного моря, однако мне преградила путь гора Моди. Тогда я повернул к пику Гуте, но, чтобы оттуда попасть на вершину Дом-дю-Гуте, нужно пройти по острому гребню длиной в четверть льё и шириной в один-два фута, а внизу – пропасть глубиной в тысячу восемьсот футов. Нет уж, увольте!
На этот раз я решил пойти другим путем и выбрал для подъема гору Л а-Кот; спустя три часа я добрался до ледника Боссон и пересек его, что оказалось не самым трудным делом. Через четыре часа я поднялся на Ле-Гран-Мюле: тут все было посложнее. Я вполне заслужил завтрак, а потому перекусил и промочил горло. Пока все шло неплохо.
В то время, к которому относится мой рассказ, на Ле-Гран-Мюле еще не была устроена та площадка, какая имеется там в наши дни, и, ручаюсь вам, находиться там было не очень приятно; к тому же меня мучил вопрос, найду ли я выше подходящее место для ночлега. Напрасно я рыскал взглядом по сторонам: нигде не было ничего подходящего. Наконец, положившись на волю Господа, я вновь пустился в путь!
Спустя два с половиной часа я нашел славное местечко, ровное и сухое; с утеса сдуло снег, и образовалось чистое пространство в шесть или семь футов – это было все, что мне требовалось, но не для того, чтобы уснуть, а чтобы дождаться рассвета не закоченев в снегу. Было семь часов вечера: я снова перекусил, выпил еще глоток водки и расположился на площадке утеса, где мне предстояло провести ночь; это не заняло много времени, ибо мои приготовления к ночлегу были весьма просты.
В девять часов я заметил сумрачную тень, которая поднималась из долины, словно густые клубы дыма, и медленно ползла в мою сторону. В половине десятого она добралась до меня и окутала со всех сторон; однако я еще видел у себя над головой последние лучи заходящего солнца, не желавшие покидать вершину Монблана. Я провожал их взглядом до самой последней минуты. Наконец они исчезли, и наступила ночь. Я лежал, повернувшись головой в сторону Шамони; слева от меня бескрайнее снежное поле поднималось к вершине Дом-дю-Гуте[30]30
Дом-дю-Гуте, то есть «Гора полдника», названа так потому, что солнце освещае'т ее в час, когда люди полдничают. (Примеч. автора.)
[Закрыть], а справа, на расстоянии вытянутой руки, зияла отвесная пропасть глубиной в восемьсот футов. Я не мог позволить себе заснуть, так как боялся, что во сне могу скатиться вниз, и, усевшись на свой заплечный мешок, принялся топать ногами и бить себя руками по плечам и бокам, стараясь согреться. Вскоре в обрамлении туч взошла бледная луна, которая в одиннадцать часов полностью спряталась за ними. И тут же я увидел, как с пика Гуте спускается мерзкий туман, который, едва добравшись до моей площадки, тут же принялся плеваться мне в лицо снегом. Тогда я закутал голову в платок и сказал ему:
«Ладно, давай, давай!»
Каждую минуту до меня доносился грохот снежных обвалов, напоминавший раскаты грома. Ледники трещали, и при каждом их треске я чувствовал, как гора вздрагивает подо мной. Я не испытывал ни голода, ни жажды, у меня только как-то странно болела голова: боль зарождалась где-то около макушки и спускалась до самых бровей. Туман все еще не отступал. От моего дыхания платок покрылся ледяной коркой, одежда намокла от снега; вскоре мне стало казаться, что я совершенно голый. Я принялся двигаться в два раза быстрее и начал петь, чтобы отогнать от себя рой глупых мыслей, которые лезли мне в голову. Но мой голос терялся среди этого снежного пространства, ни одно эхо не отвечало мне – кругом простиралась мертвая ледяная пустыня; мой собственный голос производил на меня странное впечатление. Я замолчал: мне стало страшно.
В два часа небо на востоке посветлело. Я почувствовал, как с первыми лучами солнца ко мне возвращается моя отвага. Солнце вставало, борясь с тучами, закрывавшими Монблан; я не переставал надеяться, что оно прогонит их прочь, но к четырем часам тучи сгустились, солнечный свет потускнел, и я понял, что в этот раз мне не удастся продолжить восхождение. Тогда я, чтобы не считать день окончательно потерянным, принялся изучать окрестности и до самой темноты обследовал ледники, отыскивая в них самые удобные проходы. Поскольку уже смеркалось, а следом за сумерками надвигался туман, я спустился на уступ Птичий клюв, и там меня застала темнота. Но эту ночь я провел лучше предыдущей, так как подо мною не было льда и я смог немного поспать. Я проснулся совершенно окоченевшим от холода и, едва стало светать, продолжил спуск в долину, ведь я обещал жене, что вернусь не позднее чем через три дня. Моя одежда оттаяла лишь к тому времени, когда я добрался до деревни Л а-Кот.
Я не прошел и ста шагов, выйдя за околицу деревни, как встретил Франсуа Паккара, Жозефа Каррье и Жана Мишеля Турнье – все трое были проводниками; на них была походная одежда, и они несли с собой заплечные мешки и посохи. Я поинтересовался, куда они направляются; они ответили, что идут на поиски козлят, присматривать за которыми было поручено крестьянским детям. Поскольку эти животные стоили не более сорока су каждое, я по ответу встреченных мною односельчан догадался, что они что-то скрывают от меня, и в голову мне пришло, что они собираются совершить тот подъем, который мне пришлось прервать, тем более что господин де Сос-сюр обещал вознаграждение тому, кто первым достигнет вершины Монблана. Один или два вопроса, заданных мне Паккаром по поводу того, где лучше всего заночевать на Птичьем клюве, утвердили меня в этой догадке. Я ответил ему, что там все завалено снегом и такая стоянка представляется мне невозможной. Я обратил внимание на то, что после моих слов все трое обменялись условными знаками, но сделал вид, что ничего не заметил. Они отошли в сторону, о чем-то переговорили и в конце концов предложили мне подняться на вершину вместе с ними; я согласился; однако я обещал жене вернуться и не хотел нарушать данное ей слово. Я зашел домой и предупредил жену, чтобы она не волновалась, а также переодел чулки и гетры и взял кое-какие съестные припасы. В одиннадцать часов вечера, так и не отдохнув, я вновь отправился в путь и через час догнал моих товарищей на Птичьем клюве, в четырех льё ниже того места, где я переночевал накануне; они спали как сурки; я их разбудил: они мгновенно вскочили на ноги, и мы все вчетвером продолжили подъем. В течение дня мы пересекли ледник Таконне и поднялись до Ле-Гран-Мюле, где за день до этого я провел столь памятную ночь; затем, взяв вправо, мы к трем часам подошли к вершине Дом-дю-Гуте. Один из нас – это был Паккар – начал задыхаться уже чуть ниже Ле-Гран-Мюле, и мы оставили его там, устроив ему ложе из одежды другого нашего товарища.
Добравшись до Дом-дю-Гуте, мы заметили на пике Гуте какое-то темное пятно: оно двигалось, но мы не смогли разглядеть, что это было. Было непонятно, серна это или человек. Тогда мы крикнули, и нам ответили; с минуту мы хранили молчание, желая расслышать второй отклик, а затем до нас донеслись следующие слова:
«Эй, друзья! Подождите, мы хотим пойти вместе с вами».
Мы и в самом деле остановились и стали ждать, а пока мы стояли, к нам присоединился Паккар, к которому вернулись силы. Полчаса спустя нас догнали кричавшие: это были Пьер Бальма и Мари Кутте, которые поспорили с остальными, что первыми дойдут до вершины Дом-дю-
Гуте, и теперь их пари было проиграно. Воспользовавшись остановкой, я отважился отправиться тем временем на разведку и прошел примерно четверть льё вдоль гребня, соединявшего Дом-дю-Гуте с вершиной Монблана: такая дорога была под стать канатоходцу, но мне было все равно – я подумал, что смогу пройти по ней до самого конца, если только остроконечный пик Руж не преградит мне путь. Поскольку дальше дороги не было, я вернулся на то место, где оставил своих товарищей, но там лежал только мой мешок; отчаявшись покорить Монблан, мои спутники ушли, говоря:
«Бальма – проворный малый, он нас догонит».
Итак, я остался один и какое-то время разрывался между желанием вернуться в деревню вместе со всеми и стремлением в одиночку подняться на Монблан. Их уход неприятно задел меня, а потом что-то подсказывало мне, что на этот раз мне улыбнется удача. И потому я принял решение идти дальше; взвалив на спину мешок, я тронулся в путь: было четыре часа пополудни.
Я пересек Большое плато и подошел к леднику Бренвй, откуда были видны Курмайёр и долина Аосты в Пьемонте. Вершина Монблана была окутана туманом, и я не предпринял попытки подняться на нее, но не потому, что боялся сбиться с дороги: просто я был уверен, что остальные не поверят, что мне удалось дойти до вершины, если не увидят меня там своими глазами. Остаток дня я провел в поисках укрытия; но спустя час, так и не найдя ничего подходящего, я решил вернуться домой, настолько, понятное дело, было сильно во мне воспоминание о предыдущей ночи. И я повернул обратно, но, дойдя до Большого плато, перестал различать что-либо: блеск снега совершенно ослепил меня, ведь тогда я еще не умел защищать зрение с помощью зеленой вуали, как стал это делать позже; от яркого слепящего света перед глазами у меня стояли большие кровавые круги. Я сел, чтобы прийти в себя, закрыл глаза и опустил голову на руки. Полчаса спустя слепота отступила, но за это время стемнело, и нельзя было терять ни минуты. Я встал и поспешно пошел дальше.
Не успев сделать и двухсот шагов, я нащупал палкой, что под ногами у меня больше не было льда: я стоял на краю глубокой расселины… Ты ведь знаешь, Пьер Пайо (так звали моего проводника), ту большую расселину, в которой погибли трое и откуда вытащили Мари Кутте.
– Что это еще за история? – вмешался я.
– Я расскажу ее вам завтра, – ответил мне Пайо. – Продолжай свой рассказ, старик, – сказал он, обращаясь к Бальма, – мы слушаем тебя.
Бальма возобновил свое повествование.
– Так вот! Я сказал ей: «Я тебя знаю». И правда, мы переправлялись через нее утром по ледяному мосту, покрытому слоем снега. Я стал его искать, но темнота сгущалась с каждой минутой, мои глаза уставали все сильнее, и мне никак не удавалось найти этот мост. У меня снова стала кружиться голова, мне не хотелось ни пить, ни есть, и от страшной тошноты начались рези в животе. Тем не менее я вынужден был решиться заночевать около расселины, дожидаясь рассвета. Положив мешок на землю, я достал платок, закрыл им лицо и приготовился, насколько это было в моих силах, пережить эту ночь, так похожую на предыдущую. Но поскольку в этот раз я поднялся примерно на две тысячи футов выше, чем накануне, мороз здесь был гораздо сильнее; от сыпавшейся с неба мелкой колючей снежной крупы я весь заледенел; у меня появилось ощущение невыносимой тяжести и непреодолимое желание уснуть; на ум стали приходить печальные мысли о смерти; однако я прекрасно знал, что эти печальные мысли и тяга ко сну были плохим признаком, и если на свою беду я закрыл бы глаза, то уже никогда не открыл бы их снова. С того места, где я находился, в десяти тысячах футах подо мною, были видны огни Шамони, где в тепле и покое сидели у своих очагов или лежали в своих кроватях мои товарищи. И я сказал себе:
«Возможно, среди них не найдется ни одного, кто думал бы сейчас о тебе, а если и отыщется кто-то, кто вспомнит в эту минуту о Бальма, то он наверняка скажет, помешивая кочергой горящие угли в очаге, либо натягивая одеяло до самых ушей: „Сейчас этот полоумный Бальма, вероятно, развлекается, приплясывая от холода. Что ж, смелее, Бальма!“»
Но не смелости мне недоставало, а силы! Человек сделан не из железа, и я прекрасно понимал, что мое дело плохо: в короткие промежутки тишины, ежеминутно прерываемые сходом лавин и треском ледников, я слышал, как в Курмайёре лает собака, хотя от меня до этой деревни было около полутора льё. Это был единственный звук, долетавший до меня оттуда, где находилось человеческое жилье, и он хоть как-то меня развлекал. К полуночи проклятая собака умолкла и вокруг воцарилась гнетущая тишина, какая бывает на кладбище. Ведь нет смысла упоминать о звуках, которые исходят от лавин и ледников; эти звуки – жалобные стоны гор, и, вместо того чтобы успокоить человека, они лишь страшат его.
В два часа ночи на горизонте показалась белая полоса, подобная той, о какой я вам рассказывал раньше. Как и в первый раз, она предвещала восход солнца, но, как и в первый раз, Монблан надел свой парик: он всегда делает так, когда у него плохое настроение, и тогда с ним лучше не иметь дела. Мне был известен его характер, и потому, вняв этому предупреждению, я стал спускаться в долину, опечаленный, но не обескураженный двумя своими неудачными попытками, ибо теперь у меня была твердая уверенность, что в третий раз мне посчастливится больше. Когда пять часов спустя я вернулся в деревню, было уже восемь часов утра. Дома у меня все было в порядке. Жена накрыла мне на стол, но мне хотелось не столько есть, сколько спать; она собралась постелить мне в комнате, но я боялся, что мухи не дадут мне там уснуть, и ушел в сарай, лег там на сено и сутки проспал мертвым сном.
Прошло три недели, а погода так и не изменилась к лучшему, однако за это время ничуть не уменьшилось и мое страстное желание совершить третью попытку взойти на вершину Монблана. Доктор Паккар, родственник того проводника, о котором я упоминал, в этот раз пожелал составить мне компанию, и мы договорились, что в первый же погожий день отправимся в путь. Наконец, восьмого августа тысяча семьсот восемьдесят шестого года я счел, что установилась погода, благоприятная для нашего рискованного предприятия. Я нашел Паккара и сказал ему:
«Ну, так что, доктор, ваше решение не изменилось? Вас не пугают холод, снег, пропасти? Будьте откровенны со мной и отвечайте, как подобает мужчине».
«С тобой, Бальма, я не боюсь ничего», – ответил Паккар.
«Ну что ж, – продолжил я, – настал час вскарабкаться на этот пригорок».
Доктор ответил, что он вполне готов к восхождению, но, когда ему пришло время закрыть дверь, мужество, полагаю, несколько изменило ему, ибо он никак не решался вытащить ключ из замочной скважины; он запер замок на еще один оборот ключа, а потом принялся поворачивать ключ то в одну, то в другую сторону.
«Послушай, Бальма, – вновь заговорил он, – думаю, хуже не будет, если мы возьмем с собой еще двух проводников».
«Этого не будет, – ответил я. – Либо вы подниметесь со мной одним, либо пойдете туда с другими проводниками, но без меня. Я хочу быть первым, а не вторым».
Он задумался на мгновение, вытащил ключ, положил его в карман и машинально пошел за мной, низко опустив голову. Спустя некоторое время, стараясь казаться спокойным, он сказал мне:
«Ну что ж, Бальма, я полагаюсь на тебя».
«Итак, в путь, и будь, что будет!»
После этих моих слов он принялся напевать, правда, несколько фальшиво. Предстоящий подъем явно не давал покоя доктору.
Тогда я взял его за руку.
«Но это еще не все, – сказал я ему, – никто не должен знать о наших планах, кроме наших жен».
И все же нам пришлось рассказать о нашем намерении третьему лицу: это была торговка, у которой мы были вынуждены купить сироп, чтобы развести его водой, ибо вино или водка были слишком крепкими напитками для подобного похода. Поняв, что она кое о чем догадалась, мы сообщили ей обо всем, наказав следующим утром в девять часов смотреть в направлении вершины Дом-дю-Гуте: именно в этот час, если ничто не нарушит наших расчетов, мы должны были быть там.
Завершив все приготовления и простившись с женами, мы около пяти часов пополудни отправились в путь, и, чтобы никто не догадался о наших намерениях, один из нас пошел по левому берегу Арва, а другой – по правому; возле деревни Л а-Кот мы вновь соединились. Тем же вечером мы добрались до вершины горы Л а-Кот и заночевали там: с одной стороны от нас был ледник Боссон, с другой – ледник Таконне. Предусмотрительно прихватив с собой одеяло, я укутал им, словно малого ребенка, доктора, и, благодаря этой предосторожности, он довольно сносно провел ночь; я же проспал без просыпу примерно до половины второго. В два часа ночи на горизонте показалась светлая полоса, и вскоре встало солнце – ясное, ярко сверкающее, не затянутое ни облаками, ни туманом и, наконец-то, обещавшее нам славный денек; я разбудил доктора, и мы тронулись в путь.
Спустя четверть часа мы вступили на ледник Таконне; первые шаги доктора по этому ледяному морю, среди огромных трещин, глубину которых невозможно измерить взглядом, по ледяным мостам, которые трещат под вами и грозят рухнуть в пропасть, увлекая вас за собой, были довольно-таки робкими и неуверенными; но мало-помалу, видя, что я успешно продвигаюсь вперед, он успокоился, и мы благополучно миновали ледник. Сразу же после этого мы стали подниматься на Ле-Гран-Мюле, и вскоре эти скалы остались у нас за спиной. Я показал доктору место, где мне пришлось заночевать в первый раз. На лице у него появилась весьма красноречивая гримаса, минут десять он шел молча, а затем, внезапно остановившись, спросил меня:
«Бальма, как ты думаешь: нам удастся сегодня добраться до вершины Монблана?»
Я прекрасно понял, в чем тут дело, и, смеясь, успокоил его, но не стал давать ему никаких обещаний. Мы поднимались так еще около двух часов; после того как плато осталось позади, поднялся ветер, с каждым мгновением становившийся все сильнее, и, когда мы достигли выступа утеса Ле-Пти-Мюле, резкий порыв ветра сорвал шляпу с головы доктора. Услышав, что он выругался, я обернулся и увидел, как его фетровая шляпа поспешно удирает от хозяина в сторону Курмайёра. Доктор провожал ее глазами, протянув вслед за ней руки.
«О! Вам придется навсегда распрощаться с ней, доктор, – сказал я ему, – мы никогда больше ее не увидим. Она направляется прямиком в Пьемонт. Счастливого ей пути!»
Похоже, ветру понравилось забавляться, и, едва я закрыл рот, он с такой яростью набросился на нас, что нам пришлось ничком лечь на землю, чтобы не улететь вслед за шляпой; минут десять мы не могли подняться; ветер ударял в гору и со свистом проносился над нашими головами, унося с собой снежные вихри величиною с дом. Доктор впал в отчаяние. Я же все это время думал лишь о торговке, которая в этот час должна была смотреть на вершину Дом-дю-Гуте; поэтому при первой же передышке, которую предоставил нам этот ледяной, пронизывающий до костей ветер, я встал на ноги, но доктор соглашался идти дальше лишь на четвереньках. Так мы добрались до места, откуда была видна деревня; там я достал свою подзорную трубу и в двенадцати тысячах футов под нами, в долине, разглядел нашу кумушку, вокруг которой собралось еще человек пятьдесят: они вырывали друг у друга подзорные трубы, стараясь увидеть нас. Чувство собственного достоинства заставило доктора подняться на ноги, и в тот самый миг, когда он выпрямился, мы заметили, что нас узнали: доктора по его длинному рединготу, а меня – по моему обычному наряду; люди в долине приветствовали нас, размахивая шляпами. Я ответил им тем же. Что же касается шляпы доктора, то она взяла у своего хозяина окончательный расчет.
Однако на то, чтобы встать на ноги, у Паккара ушли последние силы, и ни поддержка собравшихся зрителей, ни мои подбадривания не могли заставить его продолжать восхождение. Исчерпав все свое красноречие и видя, что время уходит напрасно, я велел доктору как можно лучше сохранять тепло и двигаться, чтобы не замерзнуть; он слушал меня, не понимая, что я ему говорю, и механически отвечал: «Да! Да!» с единственной целью избавиться от меня. Мне было ясно, как сильно он должен был страдать от холода, ведь я сам совершенно закоченел. Оставив ему фляжку, я отправился дальше один, пообещав забрать его на обратном пути.
«Да! Да!» – отвечал он мне.
Я снова напомнил ему, что не стоит сидеть на одном месте, и отправился в путь. Не пройдя и тридцати шагов, я обернулся и увидел, что он, вместо того чтобы бегать и пританцовывать, уселся спиной к ветру, что уже, впрочем, было предусмотрительно с его стороны.
Дальнейший путь не представлял особой трудности, но, по мере того как я поднимался все выше, дышать становилось все труднее. Через каждые десять шагов я был вынужден останавливаться, словно чахоточный. Мне казалось, что у меня больше нет легких и что моя грудь совершенно пуста; тогда я сложил свой платок треугольником, повязал его вокруг рта и стал дышать через него, что принесло мне небольшое облегчение. Однако я замерзал все сильнее, и у меня ушел час на то, чтобы пройти какие-то четверть льё; я шел, низко опустив голову, но, внезапно осознав, что нахожусь на незнакомом мне пике, поднял глаза и увидел, что стою, наконец-то, на вершине Монблана.
Я с беспокойством осмотрел окрестности, опасаясь, что это ошибка и мой взгляд вот-вот наткнется на какой-нибудь новый пик, какую-нибудь новую вершину, а у меня уже нет больше сил, чтобы преодолеть их: мне казалось, что суставы ног у меня сохраняют крепость только благодаря тому, что их удерживают мои штаны. Но нет, нет! Я стоял у конечной цели моего похода. Я поднялся туда, где никто еще не был, даже орлы и серны; я дошел туда в одиночку, без чужой помощи, рассчитывая лишь на свою силу и свою волю; все вокруг, казалось, принадлежало лишь мне одному; я был королем Монблана, я был статуей, стоявшей на этом гигантском пьедестале…
И тогда, повернувшись в сторону Шамони, я принялся размахивать шляпой, надев ее на конец посоха, и в подзорную трубу увидел, что внизу отвечают на мои сигналы. Мои подданные из долины заметили меня. Вся деревня собралась на площади.
Когда мое радостное возбуждение слегка утихло, я вспомнил о бедном докторе. Я спустился к нему так быстро, как только мог, окликая его по имени и приходя в ужас от того, что ничего не слышу в ответ; четверть часа спустя я заметил издали его фигуру: он сидел круглый, точно шар, и оставался совершенно недвижен, несмотря на мои призывы, несомненно достигавшие его ушей. Когда я подошел к нему, он сидел скрючившись, словно кошка, свернувшаяся клубком. Я похлопал его по плечу, и он машинально поднял голову. Я сообщил ему, что мне удалось взойти на вершину Монблана, но, похоже, это известие нисколько его не заинтересовало, потому что в ответ на мои слова он лишь спросил, где ему можно лечь и уснуть. Тогда я заявил ему, что он пришел сюда, чтобы подняться на самую вершину горы, и он туда поднимется. Я встряхнул его, взял под руки и заставил сделать несколько шагов; но он совсем ничего не соображал, и ему явно было безразлично, в какую сторону идти: спускаться или подниматься. Однако те движения, какие я заставил его проделать, несколько восстановили у него кровообращение, и он спросил, нет ли, случайно, у меня в кармане другой пары рукавиц, наподобие тех, что были у меня на руках; сшитые мною специально для такого похода, они были из заячьего меха и пальцы в них не разделялись между собой. В том положении, в каком мне пришлось находиться тогда самому, я, вероятно, не дал бы их обе даже родному брату, и я отдал ему одну.
Чуть позже шести часов мы стояли на вершине Монблана, и, несмотря на то что ярко светило солнце, небо казалось нам темно-синим, и мы видели, как на нем сверкало несколько звезд. Когда же мы опустили глаза вниз, перед нами предстали лишь ледники, снежные поля, скалы, голые утесы и остроконечные пики. Гигантская горная цепь, протянувшаяся через Дофине и доходящая до Тироля, выставила перед нами, словно напоказ, свои четыреста ледников, ослепительно сверкающих в лучах солнца. Нам казалось, что для растительности на земле уже нет места. Женевское и Нёвшательское озера выглядели едва различимыми голубыми точками. Слева от нас простиралась горная Швейцария, вся в барашках облаков, а за нею расстилалась Швейцария зеленых лугов и равнин, похожая на дорогой зеленый ковер; справа были видны весь Пьемонт и Ломбардия вплоть до самой Генуи; прямо перед нами лежала Италия. Паккар ничего не видел, он мог лишь с моих слов представить себе эту картину; я же больше не испытывал ни недомогания, ни усталости; я даже почти не ощущал, что мне трудно дышать, а ведь всего час назад именно это обстоятельство едва не вынудило меня отказаться от моего начинания. Мы простояли так тридцать три минуты.
Было семь часов вечера; через два с половиной часа должна была наступить темнота, и нам следовало трогаться в обратный путь. Подхватив Паккара под руку, я вновь помахал шляпой, подавая прощальный знак собравшимся в долине, и мы начали спуск. Мы не могли придерживаться своих следов, так как их не осталось на обледенелой поверхности: ветер был таким холодным, что верхний слой снега даже не таял; нам удалось обнаружить на льду лишь небольшие углубления, оставленные заостренными железными наконечниками наших альпенштоков. Паккар вел себя, как безвольный, совершенно выбившийся из сил ребенок; я направлял его там, где дорога была более или менее сносной, и нес, когда она становилась едва проходимой. Ночная тьма сгустилась, когда мы преодолевали расселину; внизу Большого плато темнота накрыла нас окончательно; каждую минуту Паккар останавливался, отказываясь идти дальше, и каждую минуту я вынуждал его возобновлять движение, но вынуждал не убеждениями, поскольку он их не воспринимал, а силой. В одиннадцать часов мы покинули, наконец, область ледников и ступили на твердую землю; прошел уже час, как мы перестали различать последние отблески уходящего солнца; лишь тогда я позволил Паккару остановиться и уже было собрался вновь закутать его в одеяло, как вдруг заметил, что он перестал помогать себе руками. Я обратил на это его внимание, и он ответил, что такое вполне возможно, так как он их больше не чувствует. Я снял с него перчатки и увидел, что его руки побелели и выглядели неживыми; у меня тоже была отморожена одна рука – та, на какую я надел вместо собственной рукавицы его тонкую кожаную перчатку; я заметил ему, что на двоих у нас приходится три отмороженные руки, но ему это было глубоко безразлично: он испытывал одно желание – лечь и заснуть; мне же он посоветовал растереть отмороженную кисть снегом, благо за лекарством не нужно было ходить далеко. Я начал это лечение с доктора, а уже потом занялся и собой. Вскоре кровь вновь стала поступать в отмороженные конечности, а вместе с ней вернулось и тепло, но это сопровождалось такой острой болью, будто в каждую вену нам воткнули по иголке. Я завернул своего беспомощного подопечного в одеяло и положил его под навесом скалы; после этого мы с ним перекусили, выпили по глоточку, а затем, прижавшись друг к другу как можно теснее, уснули.
На следующее утро, в шесть часов меня разбудил Паккар.
«Как странно, Бальма, – сказал он мне, – я слышу пение птиц, но не вижу света: вероятно, я не могу открыть глаза».
При этом, заметьте, он таращил их, словно филин. Я ответил ему, что он, без сомнения, ошибается и что его глаза должны отлично видеть. Тогда он попросил меня дать ему немного снега, с помощью водки растопил его в ладони и протер этой жидкостью веки. После этой операции он не стал видеть лучше, а вот глаза у него стало жечь еще сильнее.
«Что ж, похоже, я ослеп, Бальма!.. – воскликнул он и добавил: – Как же я спущусь теперь вниз?»
«Возьмитесь за лямку моего заплечного мешка и ступайте за мной, вот вам и решение вопроса».
Так мы спустились и дошли до деревни Л а-Кот.
Там, опасаясь, как бы моя жена не стала беспокоиться, я покинул доктора, и он отправился домой, нащупывая перед собой дорогу палкой; лишь вернувшись к себе, я увидел, что со мной стало.
Узнать меня было невозможно; глаза у меня покраснели, лицо почернело, а губы побелели; всякий раз, когда я смеялся или зевал, трещины на губах и щеках начинали кровоточить. А в довершение всего, я ничего не видел на ярком свету.
Четыре дня спустя я поехал в Женеву, чтобы сообщить господину де Соссюру, что мне удалось взобраться на Монблан; однако он уже знал об этом от англичан. Он тотчас прибыл в Шамони и попытался повторить вместе со мной это восхождение, но погода не позволила нам подняться выше горы Л а-Кот, и только на следующий год ему удалось осуществить этот смелый замысел.








