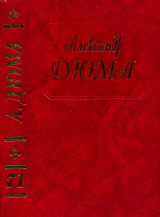
Текст книги "Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
IX
ПЕРЕВАЛ БАЛЬМ
Проводник был точен как часы. В половине шестого мы уже шли по улицам Мартиньи, где мне не удалось увидеть ничего примечательного, кроме трех или четырех кретинов: сидя на пороге родительского дома и тупо глядя перед собой, они грелись в лучах встающего солнца. Выйдя из деревни, мы перешли через реку Дранс, которая, спускаясь с горы Сен-Бернар, течет по долине Антремон и впадает в Рону между Мартиньи и Ла-Батиа. Почти сразу мы свернули с дороги на тропу, которая постепенно углублялась в долину, прилегая правой стороной к восточному склону горы.
Когда мы прошли около полульё, проводник предложил мне обернуться и полюбоваться пейзажем, открывшимся нашим глазам.
Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, какое важное политическое значение придавал Цезарь обладанию Мартиньи, или, если вспомнить имя, какое он дал этому городу в своих «Записках», Октодурумом. Благодаря своему географическому положению городу предстояло стать центром, откуда Цезарь мог вести военные действия в Гельвеции, вступая туда по Тарнадской долине; в Галлии, вступая туда по дороге, по которой мы шли теперь с проводником и которая вела в Савойю; и наконец, в Италии, вступая туда по перевалу Ostiolum montis Jovis[28]28
Дверца горы Юпитера (лат.).
[Закрыть], ныне именуемому Большим Сен-Бернаром, – через него он приказал проложить римскую дорогу, соединившую Милан с Майнцем.
Стоя на перекрестке этих четырех дорог, мы могли проследить, насколько хватало глаз, а иначе говоря, насколько это позволяли причудливые очертания Главного Альпийского хребта, по которому пролегал наш путь, как эти дороги разбегаются в разные стороны.
Первое, что привлекает ваш взгляд в этой необъятной панораме, это находящийся в ее центре старинный город Мартиньи, в котором во времена Ганнибала жили те самые полугерманцы, о каких говорят Цезарь, Страбон, Тит Ливий и Плиний, и который благодаря своему выгодному местоположению удостоился страшной чести видеть, как под его стенами проходят армии трех исполинов современного мира: Цезаря, Карла Великого и Наполеона.
Оторвавшись от Мартиньи, ваш взгляд тут же следует за дорогой на Симплон: отважно углубляясь в долину Роны, она следует из Мартиньи в Рид по столь прямой линии, что кажется натянутой веревкой, кольями которой служат колокольни этих двух городов. Слева от нее Рона, совсем еще дитя, змеится в глубине долины, извиваясь и сверкая, словно серебряная лента, развевающаяся на поясе юной девушки, а над ней с обеих сторон высятся те два горных альпийских хребта, что расходятся у перевала Ферре, затем распахивают свои объятия, чтобы заключить в них кантон Вале во всей его протяженности, а потом, через пятьдесят льё, вновь смыкаются в том месте, где Фурка, промежуточное звено между двумя этими гранитными ветвями, соединяет расположенные слева и справа от нее обширные массивы Галенштока и Муттхорна.
Переведя взгляд от горизонта к ближайшим окрестностям, вы заметите слева дорогу, которая идет по долине Сен-Мориса в Женеву, но, впрочем, тут же теряется из виду, скрывшись за старинным замком Мартиньи; справа идет дорога на Большой Сен-Бернар, доступная взгляду на протяжении примерно одного льё и идущая рядом с рекой Дранс, шумным и каменистым горным потоком, через который она время от времени перепрыгивает, своенравно переходя с одного его берега на другой; за Сен-Пьером эта дорога обрывается, переходя в тропинку, ведущую в приют. Наконец, за спиной у нас находилась извилистая и крутая тропа, по которой, возобновив путь, нам предстояло взбираться и совсем рядом с которой, на первый взгляд, высился мрачный пик Ла-Тет-Нуар; однако, достигнув вершины Ла-Форклй и пребывая в уверенности, что вам предстоит сейчас безотлагательно штурмовать это подобие Пелиона, водруженного на Оссу, вы вдруг замрете в изумлении, при виде того, что эти две вершины разделяет расстояние в два льё, тогда как прежде вам казалось, что они составляют одно целое, и между ними вашему взору неожиданно открывается долина, о существовании которой вы даже не подозревали.
Хотя у меня уже сложилась привычка не доверять собственному зрению, определяя расстояния среди этих громад, я все же испытал немалое удивление, вдруг обнаружив, что стою на краю глубокого провала, как если бы земля внезапно ушла у меня из-под ног. Прямо подо мной, на глубине двух тысяч футов, извивался и сверкал тонкий, словно те нити паутинки, какие на исходе лета уносит ветер, горный поток: сбегая с ледника Триан, он прихотливо змеится по всей долине, а затем рассекает гору от вершины до основания и впадает в Рону, исчезая в ее водах между Ла-Веррери и Вернайя. Несколько разбросанных по его берегам домов под серыми крышами казались огромными неповоротливыми жуками-скара-беями, прогуливающимися по равнине, тогда как от противоположных концов этого подобия деревни отходили две дороги, едва различимые невооруженным глазом; обе они вели в Шамони: одна шла через Ла-Тет-Нуар, а вторая – через перевал Бальм. Наш путь лежал через перевал.
Мы спустились в долину. Проводник посоветовал мне сделать остановку в какой-то деревенской лачуге, затерявшейся на краю дороги и гордо именовавшейся гостиницей. По словам проводника, такая передышка была нужна, чтобы набраться сил перед оставшимися двумя третями пути, ведь единственное жилище, которое встретится нам в дальнейшем, отстоит отсюда на три льё и находится в седловине перевала Бальм. Признаться, из всего этого мне стало понятно лишь, что он изнывает от жажды.
Нам подали бутылку местного вина, назначив за него такую цену, словно это было бордо; ни один парижанин не согласился бы заправить им салат, но мой валлийский проводник с наслаждением осушил ее до дна. К счастью, я нашел в этой гостинице то, что можно найти повсюду в Швейцарии, – кружку превосходнейшего молока, в которое я добавил несколько капель киршвассера. Для человека, которому предстояло пройти еще шесть здешних льё, это была довольно скудная трапеза. Проводник, заметивший мое беспокойство и догадавшийся о его причине, поскольку он видел, как я самым жалким образом макаю в этот кисловатый напиток корку хлеба, твердого и серого, словно кусок пемзы, поспешил несколько развеять мое уныние, заверив, что в гостинице на перевале Бальм мы сможем рассчитывать на более изысканные блюда. Я попросил Господа внять этим словам, и мы продолжили путь.
Спустя полчаса мы подошли к опушке елового леса, и я обратил внимание, что дорога в этом месте обрывалась. Проводник не обманул меня: впереди нас ждали настоящие трудности. Однако в дальнейшем на моем пути встречалось еще столько опасных переходов и крутых склонов, о которых мне предстоит рассказать, что об этом подъеме я скажу лишь для того, чтобы читатель мог получить о нем общее представление. Мы ступили на крутой склон ущелья: справа от нас лежала пропасть глубиной в пятьсот или шестьсот футов, а над пропастью нависала отвесная скала, которую местные жители называют пиком Иллье и которая не так давно получила широкую известность после того, как в 1831 году один англичанин, пожелавший добраться до ее вершины, сорвался и разбился насмерть. Проводник показал мне то место на скале – оно находилось примерно на уровне двух третей высоты пика, – где нога несчастного лишилась опоры; то ужасное расстояние, какое пролетело его тело, перескакивая с выступа на выступ, будто живая лавина; и наконец, то место на дне пропасти, куда упала отвратительная бесформенная масса плоти, уже не имевшая ничего общего с человеческим обликом.
Подобного рода истории, и без того малопривлекательные, производят еще более гнетущее впечатление, когда их рассказывают на том месте, где они случились; вряд ли путешественник, каким бы хладнокровным он ни был, будет ободрен, узнав, что там, где он стоит, у кого-то другого соскользнула нога и этот другой разбился насмерть. Впрочем, проводники не скупятся на подобные рассказы; тем самым они косвенным образом дают путешественникам совет не предпринимать без их участия никаких рискованных шагов.
Тем временем там, откуда упал англичанин, носился сломя голову, перепрыгивая с выступа на выступ, какой-то пастух со своим козьим стадом, и при каждом его прыжке вниз летел камень, в своем падении увлекавший за собой другие камни. Катясь, они вырывали из лунок небольшие валуны, а те, в свою очередь, сдвигали с места более крупные; в итоге вся эта лавина неслась со все возрастающей скоростью вниз по горному склону, грохоча, словно град по крыше; затем, после непродолжительного затишья, она с глухим шумом обрушивалась в поток, несшийся по дну оврага с отвесными склонами, который отделял одну гору от другой. Пастух, удвоив ловкость и скорость своих движений, на протяжении еще полульё следовал так за нами по склону, лежавшему напротив того, по которому шли мы, хотя у него не было явных причин делать это, за исключением желания продлить удовольствие, какое вполне очевидно для него доставляли мне его ловкость и отвага горца.
С какого-то времени воздух стал свежее; дорога неизменно шла вверх, и мы находились уже на высоте около семи тысяч футов над уровнем моря; большие пятна снега, местами попадавшиеся нам на пути, свидетельствовали о том, что мы приближаемся к зоне ледников, где он никогда не тает. Ели и буковые деревья остались внизу, на лесистом склоне Маньена; в тех местах, куда мы поднялись, были только пастбища. Время от времени дул холодный ветер, и тогда пот, выступавший от усталости у меня на лбу, вдруг превращался в лед. Наконец, с искренней радостью я услышал от проводника, что мы вот-вот должны увидеть гостиницу, находящуюся на перевале Бальм; несколько минут спустя я и в самом деле заметил, как в седловине горы, отделяющей долину Шамони от долины Триан, вначале возникла, отчетливо вырисовываясь на фоне голубого неба, красная крыша этого благословенного дома; затем я увидел его белые стены, казалось, на глазах выраставшие из земли по мере того, как мы поднимались все выше; наконец, стали видны ступени крыльца, на которых сидела рыжая собака: она приветливо подбежала к нам, сверкая глазами и размахивая пылающим хвостом, словно приглашая нас зайти отдохнуть под кровом ее хозяина.
– Спасибо, дружище, спасибо! Мы идем!
Я так мечтал поскорее обрести тепло очага и найти стул, что спешно проследовал в дом, даже не бросив взгляда на прославленную долину Шамони, прямо от порога гостиницы открывавшуюся взору во всей своей красоте и всей своей протяженности.
Когда холод и голод, эти два смертельных врага путешественника, немного отступили и любопытство вновь взяло верх, я попросил проводника отвести меня, крепко зажмурившегося, на то место, откуда было удобнее всего охватить одним взглядом двойную горную цепь Альп, и вскоре оказался на площадке, расположенной достаточно высоко, чтобы ничего не упустить из этого зрелища. Тогда я открыл глаза и, как если бы занавес поднялся над великолепной декорацией, с наслаждением, к которому примешивался ужас от ощущения себя песчинкой среди этих величественных громад, окинул взором всю эту необъятную панораму, на которой заснеженные куполообразные вершины, высившиеся над долиной с ее пышной растительностью, казались летним дворцом бога зимы.
И в самом деле, насколько хватало глаз, вокруг виднелись лишь нагие пики, с каждого из которых спускались вниз, словно волочащийся шлейф мантии, сверкающие волны ледников. Это были и те вершины, что выше всех устремлялись в небо: пик Ле-Тур, пик Верт или пик Ле-Жеан; и те ледяные моря, что опаснее всех угрожающе нависали над долиной: ледники Аржантьер, Боссон, Та-конне. А дальше, на горизонте, закрывая его собой, словно последняя вершина той горной цепи, которую он заслоняет от нас своей громадой и которая устремляется к Пиренеям, высился, господствуя над всеми пиками и вершинами и возлежа, словно белый медведь во льдах полярного моря, родной брат Чимборасо и Имауса, король вершин Европы – Монблан, самая верхняя ступень земной лестницы, с помощью которой человек приближается к небу.
Целый час я простоял, созерцая это зрелище, ощущая себя раздавленным им и не замечая, что температура воздуха не превышала четырех градусов мороза.
Что касается моего проводника, уже сотни раз видевшего эту великолепную картину, то он, пытаясь согреться, бегал на четвереньках наперегонки с собакой и заставлял ее лаять, дергая за хвост.
В конце концов он подошел ко мне, желая поделиться со мной мыслью, внезапно пришедшей ему в голову.
– Если у вас появится желание здесь заночевать, сударь, – сказал он с интонацией человека, который не прочь удвоить причитающееся ему вознаграждение, удваивая число своих рабочих дней, – то вы найдете здесь прекрасный ужин и удобную кровать.
Это была оплошность с его стороны! Если бы он оставил меня в покое, то я был бы вынужден воспользоваться и этим ужином, и этой кроватью, и одному Богу известно, что за еда и что за ночлег были мне там уготованы.
При мысли о грозящей мне опасности я в ужасе вскочил.
– Нет-нет! – воскликнул я. – Идем дальше.
– Но мы не прошли и полпути из Мартиньи в Шамони.
– Я не устал.
– Уже четыре часа пополудни.
– Всего три с половиной.
– Нам предстоит пройти еще около пяти льё, а до наступления темноты осталось всего три часа.
– Мы пройдем два последних льё в темноте.
– Но вы не сможете насладиться прекрасными пейзажами.
– Взамен я получу отличную кровать и отличный ужин. Вперед, в путь!
Проводник, исчерпавший свои самые убедительные доводы, не стал досаждать мне другими и, вздыхая, тронулся в путь. Мы отправились дальше.
Все, что я видел по дороге, пока можно было в свете дня различать предметы, было всего лишь подробностями той грандиозной картины, целостная панорама которой произвела на меня такое ошеломляющее впечатление; подробностями удивительной красоты для тех, кто ими любуется, но довольно утомительными, должен признать, для тех, кто попытается их описать. К тому же замысел этих «Путевых впечатлений» – если только предположить, что у этих «Путевых впечатлений» есть хоть какой-то замысел, – состоит в том, чтобы больше говорить о людях, а не о пейзажах.
Стояла глубокая ночь, когда мы добрались до Шамони. Мы проделали еще девять здешних льё, но без преувеличения скажу, что это ничуть не меньше, чем двенадцать или четырнадцать французских льё: то был славный денек.
И потому в тот момент меня заботили только три желания, которые я советую осуществить всем, кто пройдет той же дорогой вслед за мной:
во-первых, принять ванну;
во-вторых, поужинать;
в-третьих, отправить по нужному адресу письмо, содержащее приглашение на завтрашний обед и надписанное следующим образом:
«Господину Жаку Бальмй, по прозвищу Монблан».
Исполнив все это, я лег.
А теперь, лежа в постели, я в двух словах расскажу вам, если только его слава и известность еще не докатились до вас, кто такой Жак Бальмй, по прозвищу Монблан.
Это Христофор Колумб селения Шамони.
X
ЖАК БАЛЬМА, ПО ПРОЗВИЩУ МОНБЛАН
Так уж принято, что каждый путешественник, прибывший в Шамони, обязательно должен увидеть две местные достопримечательности: Флежерский крест и Ледяное море. Эти два чуда природы расположены друг против друга, по правую и левую руку от Шамони; добраться до каждого из них можно лишь поднявшись на основание или одного, или другого горного хребта, между которыми лежит само селение; закончив восхождение, путешественник оказывается на высоте около четырех тысяч пятисот футов над долиной.
Ледяное море, которое питает покрытая вечными снегами вершина Монблана, своими ледовыми языками спускается в долину между пиками Шармо и Ле-Жеан и доходит до самой ее середины. Там, заполнив собой, словно гигантская змея, котловину, разделяющую две эти вершины, между которыми он прополз, ледник раскрывает свою зеленоватую пасть, откуда с грохотом вырывается бурливый ледяной поток Арверона. Подъем на бескрайнюю округлую возвышенность Ледяного моря проходит по склону самого Монблана, громаду которого путешественник уже не в силах охватить взглядом, ибо находится чересчур близко к нему.
Флежерский крест, наоборот, расположен на склоне горного хребта, лежащего напротив горной цепи Монблана. И потому по мере подъема на гору начинает казаться, если только не чувство усталости тому виной, что колосс, высящийся перед вами, постепенно опускается с услужливостью слона, который ложится по знаку погонщика, давая вам возможность лучше рассмотреть себя. Наконец, взойдя на плато Флежерского креста, путешественник видит перед собой, причем столь же ясно, как если бы его отделяли от этой картины всего лишь сто шагов, нагромождения ледяных глыб и снежных масс, скалы и лесные массивы – все, что своенравная и переменчивая природа гор смогла собрать воедино благодаря необузданности своей прихотливой фантазии.
Первое восхождение, как правило, совершают на Флежерский крест. Так, по крайней мере, сообщил мне проводник, которого направил ко мне синдик. Дело в том, что в Шамони все проводники состоят в объединении, которое определяет, кому из них пришла очередь обслуживать путешественников; благодаря этому никто не может увеличить свой доход за счет собратьев, разнообразными уловками переманивая к себе клиентов. Не имея особых причин, вынуждавших меня отдать предпочтение Ледяному морю перед Флежерским крестом, я отложил на следующий день визит, запланированный мною туда, и мы отправились в путь.
Дорога, ведущая к Флежерскому кресту, не так уж трудна; порой, конечно, встречаются крутые подъемы и спуски, отвесные пропасти и обрывы, но, не отличаясь особой ловкостью горца, в чем читатель сможет убедиться, когда тому придет время, я все же с честью справился с этим восхождением. Если же говорить о пройденном расстоянии, то это была просто пешая прогулка по сравнению с теми переходами, какие мне приходилось до этого делать: нам хватило трех часов, чтобы добраться до плато. С его вершины открывался тот же вид, что накануне предстал перед нами, хотя и под другим углом, на перевале Бальм, который теперь уже сам служил отправной точкой для взгляда, обегающего всю эту бескрайнюю панораму.
Я уже говорил о том, как трудно в горах определить расстояние, и об оптическом обмане, возникающем из-за невероятных размеров того, что находится у тебя перед глазами. С Флежерского креста мы ясно видели, словно он находился всего в часе ходьбы, маленький белый домик под красной крышей, который стоял в седловине перевала Бальм и до которого, однако, от нас было около четырех льё: на наших равнинах его невозможно было бы различить на таком расстоянии.
Первое, что замечаешь, начиная обозревать череду высящихся перед тобой горных вершин, это пик и ледник Ле-Тур. Высота пика Ле-Тур равна семи или восьми тысячам футов над уровнем моря.
Непосредственно за ним виднеются ледник Аржантьер и одноименный пик; мрачный и остроконечный, словно игла, он устремляется ввысь на двенадцать тысяч девяносто футов. Далее идет пик Верт, вершина которого, сплошь покрытая снегами, похожа на сказочного великана, останавливающего орлов на лету и достающего головой до облаков. Он на шестьсот футов выше своей сестры – вершины пика Аржантьер.
А прямо напротив вас, опираясь на подножие красноватого пика Ле-Дрю и склоны Ле-Монтанвера, расстилает свой громадный покров Ледяное море, застывшие волны которого, едва различимые с Флежерского креста, где вы находитесь в данный момент, превращаются в настоящие горы, когда смотришь на них, стоя у их основания.
Пять следующих пиков – это Шармо, Ле-Грепон, Ла-Блетьер, Ле-Миди и вершина горы Моди. Высота самого маленького из них равна девяти тысячам футов.
И наконец, ваш взгляд упирается в самую высокую вершину – это гора Монблан, высота которой, согласно Андре де Жи, составляет четырнадцать тысяч восемьсот девяносто два фута, согласно Траллесу – четырнадцать тысяч семьсот девяносто три фута, а согласно Соссюру – четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть футов. С ее вершины тянутся до самой долины ледники Боссон и Таконне.
Стоя лицом к лицу с этим семейством великанов с седыми от снега головами, в первую очередь задаешься вопросом:
«Всегда ли вершины этих гор были покрыты снегами, как в наши дни?»
Что ж, постараемся дать на него ответ.
Две теории оспаривают друг у друга вопрос о происхождении земных пород: нептуническая и вулканическая.
Все геологические изыскания так или иначе доказывают, что различные земные слои первоначально находились в жидком состоянии. На самых высоких земных вершинах и в ходе самых глубоких раскопок Земли ученые находят образцы пород с кристаллической структурой вещества, а ведь кристаллизация солей возможна лишь в жидкой среде. Вместе с тем, отпечатки растительных и животных фрагментов встречаются в самых прочных и твердых породах, а это, без сомнения, доказывает, что вещество, из которого некогда состояли эти породы, являлось жидкостью или, по крайней мере, было размягчено до состояния, в котором эти следы могли быть на ней оставлены. Наконец, тот общепризнанный факт, что разные по своей природе земные пласты повсюду следуют один за другим и лежат параллельно друг другу, если только какой-нибудь катаклизм не нарушил этот порядок, не оставляет ни малейших сомнений в правильности выдвинутых предположений. А раз так, то неизбежно встает вопрос: возникла ли эта текучесть вследствие сильнейшего жара или она была свойством изначальной жидкой материи? Какая из теорий, вулканическая или нептуническая, правильнее объясняет происхождение этой текучести? Обязана ли она своим появлением огню, полыхающему в недрах Земли, или единому мировому океану? Кто же неправ, кто заблуждается: Геттон или Вернер?
Поскольку каждая из двух этих теорий может притязать на правоту, прибегая к доводам, которые выдвинули их авторы и приводить которые здесь было бы делом слишком долгим, современные геологи, затрудняясь отдать предпочтение одной из них, заняты лишь сбором фактов и описанием сделанных наблюдений; однако и собранные факты, и сделанные наблюдения доказывают, что либо изначально, либо впоследствии Земля была полностью покрыта водой. В известняковых горах Дербишира и Кра-вена, а также в Йоркшире находят на высоте двух тысяч футов над уровнем моря окаменелые останки зоофитов и чешую рыб. Наиболее высокие отроги Пиренеев покрыты известняковыми отложениями, содержащими отпечатки морских животных. Даже от растворенного в кислоте известняка, где не могли сохраниться подобные остатки, исходит трупное зловоние, и, без сомнения, источником его является то вещество, из которого он состоит. На высоте семи тысяч футов, на расстоянии трех льё от домов Штехельберга, над долиной Ротенталь, заполненной в наши дни ледниками, среди обломков рухнувшей скалы, в месте, называемом Кригсматтен, встречаются окаменелые морские моллюски необыкновенной красоты. Гора Пердю на высоте более десяти тысяч футов над уровнем моря откроет взору любознательного путешественника ископаемые останки той же природы; наконец, г-н Гумбольдт обнаружил точно такие же окаменелости в Андах, на высоте четырнадцати тысяч футов.
Впрочем, и библейские легенды находятся в согласии с выводами научных исследований. Моисей повествует о потопе, и Кювье находит тому доказательства; пророк и ученый, словно сговорившись, в один голос, но с разницей более чем в три тысячи лет, рассказывают людям об одном и том же геологическом чуде; ну а Академия как неоспоримую истину отмечает следующую прекрасную фразу из книги Бытие, которую Вольтер принимал за поэтический образ:
«Spiritus Dei ferebatur super aquas»[29]29
И Дух Божий носился над водой (лат.).
[Закрыть].
Итак, станем исходить из следующего положения: «Вся Земля была покрыта водой».
Эта водная гладь выдерживала, как выдерживает сегодня земная твердь, давление шестнадцати льё атмосферы, окружающей нашу планету. Но вскоре, то ли потому, что вода улетучивалась от жара подземного огня, этой кузницы Вулкана, то ли потому, что она испарялась под воздействием солнца, этого ока Господа, воды потопа стали отступать.
И вот над поверхностью водной глади показались самые высокие вершины. Чимборасо, Имаус и Монблан поочередно, словно крохотные островки, возникали посреди мирового океана. От соприкосновения с воздухом, светом и теплом на них образовался плодородный слой почвы, а поскольку обволакивавшие их воздушные массы во многом напоминали тот воздух, какой окружает нас, на этих островках суши появились растения, деревья, животные и люди. В античных сказаниях речь идет лишь о горных вершинах. В Эдеме Господь сотворил Адама и Еву; на Кавказе Прометей создал первого человека. Тем временем под воздействием той или другой из упомянутых выше причин, а возможно даже, и обеих сразу, воды продолжали отступать, обнажая уже не только вершины гор, но и их склоны. По мере того как воздушные массы, сделавшие почву плодородной, опускались все ниже, занимая место отступавшей воды, вершины гор попадали в более разреженные и холодные слои атмосферы, что заставило людей изменить места своего обитания и вынудило их спуститься в более теплые зоны. Та земля, которую их предки видели покрытой цветами и луговыми травами, стала бесплодной, высохла и потрескалась; ливневые потоки, несшие воду с небес, устремлялись в изначальный океан, уровень которого неизменно понижался, и смывали плодородный слой почвы; первобытные скалы, голые и бесплодные, обнажились во всей своей простоте и суровости; затем, однажды, люди заметили с удивлением, что горные вершины, служившие им некогда колыбелью, побелели от выпавшего снега, который, однако, лежал недолго. И наконец, когда отступавшая вода окончательно ушла из долин, а горные вершины оказались в наиболее разреженном слое атмосферы, из-за своей малой плотности располагающемся выше остальных воздушных масс, этот снег, прежде таявший, лег навечно, а лед, в свою очередь вторгаясь в края, покинутые отступавшей водой, победоносно стал спускаться с гор в долины, угрожая полностью поглотить в свою очередь и их.
Впрочем, в этих местах, как и всюду, народные предания, в которых отсутствие знания восполняется удивительной изобретательностью, находятся в полном согласии с научными исследованиями. Стоит только послушать крестьянина из окрестностей перевала Фурка, и он расскажет вам, что по этой горе обычно пролегал путь Вечного Жида, когда тот направлялся из Италии во Францию; вот только, когда он прошел по ней в первый раз, скажут вам, она вся была покрыта нивами, во второй раз он нашел ее поросшей елями, а в третий раз увидел ее под снежным покровом.
Когда я не торопясь налюбовался этим бескрайним пейзажем, мы спустились в Шамони; однако примерно на полпути обнаружилось, что я потерял свои часы. Я выразил желание вернуться обратно, но проводник заявил, что он сам займется поисками, ибо в долине Шамони ничто никогда не пропадает. Я расположился на плато, откуда вид был почти таким же красивым, как с Флежерского креста, и принялся терпеливо дожидаться возвращения своего спутника: полчаса спустя я увидел, как он, радостный и торжествующий, вышел из ельника, по которому мы недавно проходили. Он нашел часы и издалека показывал их мне, держа в руке за конец цепочки и размахивая ими в воздухе: несомненно, он был доволен гораздо больше, чем я сам. Я предложил ему вознаграждение, но он ответил отказом. Это происшествие задержало нас минут на сорок, и мы вернулись в деревню лишь к четырем часам. Подходя к гостинице, я заметил на скамейке, стоявшей около ее дверей, старика лет семидесяти; по знаку, поданному ему гостиничным слугой, с которым он беседовал, старик поднялся и пошел мне навстречу. Я угадал в нем своего гостя и направился прямо к нему, приветственно протягивая ему руку.
Я не ошибся: это был Жак Бальма, тот отважный проводник, который среди тысячи подстерегавших его опасностей первым поднялся на самую высокую вершину Монблана, проложив дорогу Соссюру: отвага опередила науку.
Я поблагодарил его за честь, которую он мне оказал, приняв мое приглашение. Славный старик решил, что я смеюсь над ним: ему не приходило в голову, что в моих глазах он личность столь же выдающаяся, как Колумб, открывший неведомый мир, или Васко, нашедший мир потерянный.
Я пригласил своего гида отужинать вместе со старейшиной местных проводников; он принял мое приглашение с той же простотой, с какой ранее отказался от денег. Мы сели за стол, и я сделал заказ: мои гости, казалось, были довольны.
За десертом я заговорил о подвигах Бальма. Старик, которого монмельянское вино сделало веселым и разговорчивым, похоже, с удовольствием готов был мне о них рассказать. Впрочем, прозвище Монблан, с которым он не расставался, доказывало, что он гордился теми воспоминаниями, какие мне хотелось от него услышать.
И потому он не заставил себя упрашивать, когда я предложил ему рассказать мне во всех подробностях о его опасном предприятии. Он лишь протянул мне свой стакан, который я наполнил, так же как и стакан своего проводника.
– С вашего позволения, сударь, – сказал Бальма, привстав со стула.
– Ну, разумеется. За ваше здоровье, Бальма!
Мы чокнулись.
– Черт возьми! – сказал он, вновь усаживаясь. – Вы отличный малый.
Затем он опорожнил свой стакан, прищелкнул языком, прищурил глаза и откинулся на спинку стула, пытаясь собраться с мыслями, но вряд ли последний выпитый им стакан способствовал их большей ясности.
Мой проводник, устроившись поудобнее, также приготовился слушать рассказ, который он, вероятно, слышал уже не один раз. Его приготовления были весьма просты, но, тем не менее, обеспечивали ему полный комфорт: он всего лишь развернул свой стул и сам сел в пол-оборота, так что ноги его оказались возле огня, локоть лежал на столе, левая рука поддерживала голову, а правой он держал стакан.
Я же взял в руки дневник и карандаш и приготовился записывать.
И вот теперь я предлагаю вниманию читателей подлинный рассказ Бальма, переданный мною без всяких прикрас.
– Гм! Было это, скажу точно, в тысяча семьсот восемьдесят шестом году; мне тогда исполнилось двадцать пять лет, так что, если хорошенько посчитать, сейчас, когда вы меня видите, мне уже стукнуло семьдесят два.
В ту пору я был крепкий парень… В ходьбе неутомим и чертовски смел! Я готов был три дня подряд идти, не съев за все это время и крошки хлеба. Однажды именно так и случилось, когда я заблудился на горе Ле-Бюэ. Мне пришлось довольствоваться лишь несколькими пригоршнями снега – и не более того. Время от времени я говорил себе, искоса поглядывая в сторону Монблана:
«Эй, шутник! Что бы там ни говорили, однажды я все же заберусь на тебя».
Эта мысль вертелась у меня в голове и днем, и ночью. Днем я поднимался на Ле-Бреван, откуда Монблан виден так же хорошо, как я сейчас вижу вас, и часами оставался там, отыскивая дорогу.








