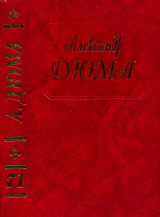
Текст книги "Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
VII
СОЛЯНЫЕ КОПИ БЕ
На следующий день, съев на завтрак головную часть пойманной мною форели, я отправился осматривать соляные копи.
Морис, с которым я окончательно помирился, показал мне тропинку, начинавшуюся сразу за садом гостиницы и представлявшую собой самый короткий и самый живописный путь к шахте. Преодолев первый подъем (он был довольно утомительный, но с каждым шагом, ведущим вверх, взору открывалась все более широкая панорама местности), я ступил на дорогу, которая шла через великолепную каштановую рощу, ничем не защищенную от посягательств проходящих мимо чревоугодников. При виде этой рощи я тут же вспомнил, что и мне когда-то доводилось заниматься подобными кражами, и изо всех сил запустил тяжелым камнем в ствол ближайшего дерева, после чего каштаны градом посыпались на землю. Но орехи были еще в скорлупе, и потому я тотчас приступил к извлечению оных, прибегнув к способу, известному всем школьникам и заключающемуся в том, чтобы подошвой башмака осторожно катать каштан по траве до тех пор, пока воздействие давления в сочетании с вращением не даст желаемого результата. Через десять минут мои карманы были полны каштанов, и я продолжил путь, грызя cas-taneae molles[20]20
Мягкие каштаны (лат.). – Вергилий, Эклога I, 81.
[Закрыть], словно белка или пастух Вергилия.
Существует замечательный рецепт против усталости и скуки, и я привожу его здесь для всех, кому приходится путешествовать пешком по дорогам, которые сами по себе не слишком радуют: найдите какое-нибудь занятие для души или тела. У меня есть для этого свой способ, к которому я прибегал всегда и который я дал себе слово непременно использовать и впредь во время своих новых прогулок. Что касается занятия для души, то в моей памяти всегда хранятся три-четыре оды Виктора Гюго и Ламартина, и я непрерывно декламирую их вслух: едва закончив последнюю строку, я тут же начинаю все сначала, пока, в конце концов, не перестаю понимать смысл произносимых слов, погружаясь в сладостное опьянение гармонией и ритмом звуков. Ну а чтобы дать работу телу, я набиваю все карманы каштанами или орехами, которые могут в них заключаться, а затем вынимаю их один за другим и перочинным ножом очищаю с тщательностью и терпением, достойными художника, который вырезает голову г-на де Вольтера на падубовой трости. Благодаря этим двум занятиям время и расстояние перестают делиться на часы и льё. А если случается, что дурное расположение духа отнимает у меня память, если деревья, растущие вдоль дороги, не предлагают мне свои плоды, я носком башмака упорно толкаю перед собой какой-нибудь камешек, и, по правде сказать, результат бывает точно такой же.
Так что не знаю толком, сколько времени мне понадобилось, чтобы добраться до соляных копей. Экскурсии для путешественников поочередно устраивают здесь в свое свободное время сами рудокопы. Я обратился к одному из них, и он тотчас занялся приготовлениями к нашему короткому путешествию; они заключались в том, что каждый должен был взять в руки зажженный фонарь и положить в карман огниво, спички и трут. Приняв эти меры предосторожности, мы направились к входу в шахту, прорубленному в толще горы. Он представлял собой отверстие в восемь футов высотой и пять футов шириной, над которым была начертана надпись, указывавшая день, когда с первым ударом кирка вонзилась в эту скалу.
Мой провожатый первым ступил в подземелье, а я последовал за ним; штольня, по которой мы шли, прямо, словно стрела, уходила в толщу горы, на всем своем протяжении неизменно сохраняя ту же ширину и ту же высоту, какие были указаны мною выше; время от времени встречались надписи, удостоверяющие, как далеко вперед удалось продвинуться за год рудокопам: порой им приходилось долбить скальные породы, и тогда быстро тупились самые прочные инструменты, а порой на их пути попадался рыхлый грунт, ежеминутно грозящий обвалами, от которых рабочих защищала лишь деревянная крепь, поддерживаемая опорами. По обеим сторонам этого прохода, по деревянным желобам, бежали ручьи: в том, что находился справа от меня, вода была соленой, а в том, что слева, – сероводородной. Из недр горы вытекает некоторое количество такой воды, и ее тщательно отделяют от той, что содержит соль. Проход, по которому мы шли, был покрыт длинным настилом из скользких досок шириной в восемнадцать дюймов, положенных встык.
Проделав не более ста шагов по этой штольне, вы увидите с правой стороны невысокую лестницу, насчитывающую всего несколько ступеней: она ведет к первому резервуару высотой в девять и окружностью в восемьдесят футов; в солевом растворе, содержащемся в нем, на сто частей воды приходится пять или шесть частей соли.
Если и дальше следовать по той же штольне, то через двадцать пять шагов вы увидите второй резервуар; к нему также ведет деревянная лестница из нескольких ступеней, ставших скользкими от сырости; как и первый, он имеет глубину в девять футов, однако окружность у него вдвое больше, а солевой раствор в нем гораздо насыщеннее: на сто частей воды приходится двадцать шесть частей соли вместо пяти.
Вне всякого сомнения, эхо, звучащее в этом втором резервуаре, лучшее из тех, какие я слышал в своей жизни, если не считать, конечно, эха Симонетты под Миланом, где сказанное вами слово повторяется пятьдесят три раза. В тот миг, когда мы уже готовы были спуститься во вторую штольню, мой провожатый удержал меня за руку и без предупреждения громко крикнул; мне показалось, что на нас обрушилась гора, настолько все подземное пространство вдруг наполнилось шумом и гулом; прошла, по меньшей мере, минута, прежде чем затихли последние отголоски этого так внезапно разбуженного эха; было слышно, как, натыкаясь на пустоты внутри скальной породы, оно глухо ворчит, словно потревоженный медведь, прячущийся в глубине берлоги. Есть что-то пугающее в этих оглушительных раскатах человеческого голоса, раздающегося в месте, где он не должен был бы звучать и куда голос самого Господа сможет проникнуть лишь в день Страшного суда.
Мы продолжили осмотр; вскоре мой провожатый открыл проход в круглом заграждении справа от нас и, поставив ногу на первую ступеньку лестницы, почти вертикально уходящей в пропасть, поинтересовался, не желаю ли я последовать за ним. Я предложил ему показать мне пример, чтобы можно было судить, насколько труден этот путь; он спустился по первой лестнице, опиравшейся внизу на выступ, к которому был прислонен верх второй лестницы, уходившей еще ниже. Стоя на этой площадке, он сообщил мне, что на дне каменного колодца, куда я должен был за ним последовать, есть источник соленой воды, который путешественники имеют обыкновение осматривать. Я не горел желанием ознакомиться с обещанным мне природным явлением: на мой взгляд, дорога, ведущая к нему, была плохо освещена, а сам спуск был достаточно труден. Однако, поддавшись чувству ложного стыда, я в свою очередь поставил ногу на первую ступень лестницы; провожатый, увидев мое движение, тут же повторил его; и так мы стали спускаться – он по второй, а я по первой лестнице, он с беззаботностью человека, уже не раз ходившего этим маршрутом, а я – самым тщательным образом ведя счет каждой преодоленной мною ступени.
Через несколько минут, дойдя до двести семьдесят пятой ступени, я остановился на самой середине лестницы и, посмотрев вниз, увидел, что все это время мой провожатый соразмерял свой спуск с моим и потому расстояние между нами осталось таким же, каким оно было вначале. Фонарь, который он держал в руке, освещал влажную и блестящую поверхность скалы, но ниже его ног все тонуло во мраке, и я заметил лишь верх очередной лестницы – несомненное свидетельство того, что мы еще не дошли до конца нашего пути. Увидев, что я остановился, мой провожатый тоже замер; я глядел вниз, он же, подняв голову, смотрел на меня.
– Что случилось? – спросил он.
– Скажите, милейший, – ответил я вопросом на вопрос, – скоро ли закончится эта забавная шутка?
– Мы проделали чуть больше трети пути.
– Ах так! Значит, нам предстоит преодолеть еще около четырехсот пятидесяти ступеней?
Провожатый опустил голову, поскольку так ему было удобнее считать; спустя мгновение он вновь посмотрел на меня и сказал:
– Четыреста пятьдесят семь. Вниз одна за другой ведут пятьдесят две лестницы. Из них пятьдесят одна лестница насчитывает, каждая, четырнадцать ступеней, а пятьдесят вторая, последняя – восемнадцать.
– И это означает, говорите вы, что у меня под ногами в данную минуту четыреста пятьдесят семь футов пустоты?
– Если считать по прямой.
– И если моя лестница сломается?..
– … то высота, с которой вы упадете, будет на сто футов больше, чем если бы вы упали со шпиля Страсбургского собора.
Он еще не успел договорить, как я, пребывая в убеждении, что помощь обеих моих рук не будет лишней, если у меня есть желание, насколько это в моих силах, избежать подобного происшествия, выпустил из рук лампу и ухватился за шаткую лестницу, посреди которой я висел, словно жук-скарабей на тоненькой травинке. Я имел удовольствие следить взглядом за удаляющейся лампой до тех пор, пока светился ее тусклый огонек, а затем было слышно, как она поочередно ударяется обо все препятствия, встречавшиеся на ее пути; наконец глухой звук от ее падения в воду известил меня, что она достигла того места, куда мы направлялись.
– Что случилось? – спросил меня мой проводник.
– Да ничего. Слегка закружилась голова.
– Ах, черт! Вам следовало бы избавиться от такого недуга: в наших краях это опасно.
В этом отношении наши мнения совершенно совпадали, и потому, встряхнув головой, как это обычно делает только что проснувшийся человек, я с еще большими предосторожностями, чем раньше, если только такое было возможно, продолжил спуск. Поскольку лампы у меня больше не было, я присоединился к проводнику, который горделиво сиял на своей лестнице, словно светлячок на живой изгороди, и мы стали спускаться. Минут через десять мы уже оказались на последней ступени пятьдесят второй лестницы, стоявшей на глинистом обрыве, у подножия которого была видна вода; я поискал глазами на ее поверхности мою несчастную лампу, но было похоже, что она успела затонуть.
Попав на дно колодца, я ощутил то, о чем раньше мне мешали думать мои прежние тревожные опасения: мне было трудно дышать; мне казалось, что эти тесные стены сдавливают мою грудь, как это чудится иногда во сне, и я задыхаюсь. И в самом деле, свежий воздух проникал сюда лишь через проем входной двери, а мы находились, как я уже говорил, на семьсот тридцать два фута ниже уровня штольни; поскольку же сама штольня расположена на глубине приблизительно девятисот футов по отношению к вершине горы, то в данную минуту у меня над головой было около тысячи пятисот или тысячи шестисот футов земли; так что на самом деле было отчего начать задыхаться.
Испытываемое мною недомогание весьма мешало мне воспринимать рассказ проводника, объяснявшего мне различные способы ведения горных работ, с помощью которых рудокопам удалось добраться туда, где мы стояли в эту минуту. Тем не менее я припоминаю, как он говорил, что надежда найти более обильный соляной источник заставила начать более глубокие разработки с применением бура. Благополучно достигнув отметки в сто пятьдесят футов, бур остановился перед каким-то препятствием, которое он так и не смог преодолеть и о которое быстро затуплялись все стальные инструменты. Рабочие даже стали думать, что какой-то противник ведущихся разработок бросил в скважину пушечное ядро, пока рудокопы обедали или отдыхали, и именно это ядро не позволяет вести дальнейшие работы.
И все же даже в его нынешнем состоянии этот источник, самый богатый из всех, так как на сто частей воды в нем приходится двадцать восемь частей соли, весьма обилен. Каждые пять лет колодец полностью выкачивают; полученный солевой раствор разбавляют обычной водой, уменьшая тем самым количество соли лишь до двадцати двух частей: таково соотношение, при котором эту жидкость можно довести до кипения. И наоборот, солевой раствор из более бедных источников, содержащих всего шесть частей соли на сто частей воды, обогащают, пропуская через вязанки терновника, что способствует выпариванию воды, а это значительно повышает содержание соли в растворе.
Завершив свои объяснения, провожатый поставил ногу на лестницу, и, признаюсь, я испытал чувство облегчения, когда он, наконец, начал подниматься. Я немедленно последовал за ним. Мы оба благополучно выбрались из колодца, и я с удовольствием ощутил под ногами твердую почву штольни.
Мы шли вперед, все дальше углубляясь в этот огромный коридор, такой прямой, что всякий раз, оборачиваясь, мы могли видеть входное отверстие, освещенное солнечным светом, и, по мере того как мы удалялись, становившееся все меньше и меньше. На расстоянии четырех тысяч футов от входа штольня делала поворот; прежде чем завернуть за угол, я обернулся в последний раз: дневной свет все еще был виден в конце этого длинного туннеля, но он был таким рассеянным и далеким, что напоминал свет одинокой звезды в ночи; я сделал шаг вперед, и свет исчез.
Примерно еще через четыре тысячи футов мы подошли к месту залегания пластов каменной соли; здесь проход понемногу расширялся, и вскоре мы оказались в огромной круглой пещере: люди извлекли из необъятных недр горы все, что было в их силах; до тех пор, пока в земле оставалась каменная соль, они жадно копали, стремясь до конца выбрать ее запасы; поэтому здесь встречается множество начатых, а потом заброшенных выработок, похожих на ниши святых или кельи отшельников. Необычайно грустное чувство рождает в душе вид этого опустевшего карьера: он напоминает дом, где побывали грабители, оставив после себя все двери распахнутыми.
В нескольких шагах от нас луч дневного света падал на большое колесо диаметром в тридцать шесть футов, стоявшее вертикально; его заставлял вращаться поток пресной воды, устремлявшийся с вершины горы, а оно, в свою очередь, приводило в движение насосы, которые качали из колодцев сероводородную и соленую воду и поднимали ее наверх к желобам, ведущим наружу. Что касается луча дневного света, то он проникал сюда через круглую отдушину, устроенную для притока свежего воздуха в шахту; она шла вверх и выходила на поверхность на вершине горы. Мой провожатый заверил меня, что с помощью этого огромного телескопа можно в ясную погоду наблюдать в полдень звезды. На небе в этот день как раз не было ни облачка, и я внимательнейшим образом минут десять смотрел в это подобие подзорной трубы, пока не уверился, что утверждение валлийского проводника скорее продиктовано чувством национальной гордости.
И все же то, что я побывал вблизи отдушины, не осталось без последствий: моя грудь наполнилась воздухом более пригодным для дыхания, чем тот, что я вдыхал в течение получаса, и потому, пополнив запасы воздуха в легких, я с новыми силами отправился в путь. Вскоре проводник остановился и спросил у меня, как я предпочитаю покинуть шахту: через проход наверху или внизу; я поинтересовался у него, чем отличаются эти два выхода, и он пояснил, что наверх ведут четыреста ступеней, а вниз – семьсот. Я, не задумываясь, предпочел подняться, ибо помнил, что мне пришлось пережить во время спуска в колодец, и одного подобного опыта в этот день мне было достаточно.
Добравшись до верха лестницы и оказавшись в штольне, мы увидели в ее конце дневной свет. Признаюсь, что его вид был мне чрезвычайно приятен; я прошел в копях три четверти льё, и проделанный путь показался мне весьма интересным, однако несколько неровным.
Выход, к которому мы подошли, открывался в узкую и пустынную ложбину. Крутая тропинка за полчаса привела нас к месту, где мы вошли в шахту. Пришло время расплатиться с проводником, которому я должен был за экскурсию и потерянную лампу; я оценил то и другое в шесть франков и по его словам признательности понял, что он посчитал себя щедро вознагражденным.
Я вернулся в Бе в одиннадцать часов утра; час был еще довольно ранний, и можно было продолжить мое путешествие. Мартиньи, где я рассчитывал заночевать, находился всего в пяти с половиной льё пути, поэтому я зашел в гостиницу лишь для того, чтобы забрать свои вещи и посох. Первый город, который лежит на пути путешественника, идущего из Бе, – это Сен-Морис: он назван по имени предводителя Фиванского легиона, который в этом месте претерпел мученическую смерть вместе с шестью тысячами шестьюстами своими воинами[21]21
Согласно автору книги «Gestis Francorum»*, и шестью тысячами шестьюдесятью шестью – согласно сочинению монаха из Атона; с этим числом соглашается также Адон, архиепископ Вьеннский, в своем труде «Краткие жизнеописания святых». Венанций Фортунат, епископ Пуатье, в 590 году прославил эту героическую смерть, сочинив стихотворение, отрывок из которого приводится ниже:
Turbine sub mundi сйт persequebantur iniqui Christicolasque daret saeva procella neci;
Frigore depulso succendens corda peregit Rupibus in gelidis fervida bella fides;
Quo, pie Maurici, ductor legionis opimae,
Traxisti fortes subdera colla viros,
Quos positis gladiis armarunt dogmata Pauli Nomine pro Christi dulcius esse mori.
Pectore belligero poterant qui vincere ferro,
Invitant jugulis vulnera гага suis.
Многочисленные надгробные надписи служат доказательством античного прошлого Сен-Мориса и одновременно свидетельствуют о неуязвимости его положения, ибо римляне, более всего страшившиеся осквернения могил, всегда старались захоронить прах тех, кто был им дорог, вне досягаемости для мести врагов. В роду Северов,
Hortantes se clade sua sic ire sub astra:
Alter in alterius caede nalavit heros.
Adjuvit papidas Rhodanis fons sanguinis undas,
Tinxit et alpinas ira cruenta nives.
Tali fine polos felix exercitus intrans,
Junctus apostolicis plaudit honore choris.
Cingitur angelico virtus trabeata senatu,
Mors fuit unde prius, lux fovet inde viros.
Qui faciunt sacrum Paradisi crescere censum Haeredes Domini luce perenne dati.
Sidereo chorus iste throno cum carne locandus Cum veniet judex, arbiter orbis erit.
Sic pia turba simul festinans cernere Christum,
Ut caelos peteret, de nece fecit iter.** (Примеч. автора.)
* "Деяния франков" (лат.).
**В вихре когда мирском нечестивцы воздвигли гоненье И христолюбцам несла буря свирепая смерть,
Хлад отгнав от себя, сердца вспламенив, совершила На скалах ледяных вера кипучую брань.
Там, благочестный Маврикий, славного вождь легиона,
Храбрых увлек ты мужей выю подставить свою.
Их, отложивших мечи, воружил наставленьем ты Павла,
Что для Христова скончать сладостно имени жизнь.
С бранолюбивой душой побеждать умевшие сталью,
Раны зовут на горло свое, желанные им.
Взыти друг друга к звездам призывали общей кончиной,
И один герой плавал другого в крови.
Родана скорые ключ умножил кровавый буруны,
И альпийские гнев чермный снега напитал.
Смертью сею войдя дружина счастливая в небо,
Сонму апостольскому днесь сликовствует она.
Ангельским доблесть сенатом омкнулась, трабеей одета:
Смерть где прежде была, свет там лелеет мужей.
Те, кто гражданству дают возрастать священному рая,
В вечный наследниками Господа приняты свет.
Сонм сей, стать во плоти при звездном имущий престоле,
В час как придет судия, будет вселенной судить.
Так благоверный полк, Христа поспешая увидеть,
Дабы достигнуть небес, начал со смерти свой путь.
("Об агавнских святых". – Перевод РШмаракова.)
[Закрыть], но не отрекся от христианской веры.
Во все времена Сен-Морис считался воротами Вале; и в самом деле, два горных хребта, между которыми лежит долина, в этом месте настолько сближаются друг с другом, что в любой вечер эту теснину можно перекрыть, захлопнув ворота. Цезарь, великолепно сознавая стратегическую важность данного места и желая всегда быть полновластным хозяином этого прохода в Альпах, приказал выстроить здесь укрепления, усилив тем самым крепость, воздвигнутую самой природой. В ту пору Сен-Морис назывался Тарнадом, по имени близлежащего замка, Каст-рум Тавретунеус, погребенного в 562 году под обломками горы Тавредунум.
по-видимому, особенно отдавали предпочтение этому месту как последнему пристанищу: три нижеследующие надписи подтверждают наши слова, ибо первая надпись гласит, что Антонин Север велел перевезти из Нарбона в Тарнад тело своего сына.
D.M.
ANTONI IISEVERINARBONAE DE-FUNCTIQUI VIXITANNOS XXV.
MENSES III. DIEBUS XXIV. ANTONI US SEVERUS PATER INFELIXCORPUS DEPORTATUM HIC CONDIDIT.[22]22
Богам-манам. Антонин Север, почивший в Нарбоне и проживший 25 лет, 3 месяца и 24 дня. Его несчастный отец, Антонин Север, перевез его тело сюда (лат.).
[Закрыть]*
* * *
M. PANSIO COR.
M. FILIO SEVERO
II VIR. FLAMINI
JULIA DECUMIN A MARI TO,[23]23
М[арку] Пансию Кор[нелию], сыну М[арка] Севера, фламину, от его супруги Юлии Декумины (лат.).
[Закрыть]
* * *
D. PANSIO M. EL.
SEVERO ANNO XXXVI JULIA D ECU MINA MATER FIL. PIENTISSIMO.[24]24
Д. Пансию, сыну М[арка] Ф[лавия] Севера, 36 лет, благочестивому сыну, от его матери Юлии Декумины (лат.).
[Закрыть]
При императорах Тарнад оставался сильной и важной крепостью, недаром Фиванский легион, находившийся под командованием святого Маврикия и насчитывавший шесть тысяч шестьсот солдат, стоял там гарнизоном, когда император Максимиан потребовал от легионеров отречься от учения Христа и принести жертву ложным богам, но, укрепившись в новой, зарождающейся вере, солдаты во главе со своим командиром предпочли отречению мучительную смерть. Вскоре после этого, словно те дикие язычники, что приняли христианство и крестились, Тарнад, крещенный кровью мучеников, сменил имя и стал называться Агавном. Это событие с достаточной точностью можно датировать концом IV века, поскольку на карте Феодосия, составленной в 380 году, город носит еще свое прежнее имя, а уже десять лет спустя святой Мартин даст ковчегу с прахом легионеров название «Мощи мучеников из Агавна». Впрочем, обращение Тарнада в истинную веру состоялось гораздо раньше, чем наступило то время, о каком мы ведем рассказ, так как, если верить надписи, ставшей эмблемой ратуши, город стал христианским уже с 58 года:
«Christiana sum ab anno 58».
Происхождение слова «Agaun» сильно занимала умы ученых средневековья; монах из Атона считает его производным от латинского слова «Acaunus», которое, в свою очередь, произошло от кельтского слова «Agaun», означающего «Скалистый край». Другие полагают, что город сменил имя по настоянию святого Амвросия, который в 385 году проезжал через Тарнад, следуя в Трир с посольством к императору Максиму, и пожелал, чтобы место, где фиванцы были преданы смерти, носил название, связанное с их мученичеством. Дело в том, что этот благочестивый прелат сообщает в одном из своих писем, будто место, где Самсон окончил свои дни, разрушив храм и оставив погребенными под его обломками себя и филистимлян, называлось «Agaunus» от греческого «Ауоои»[25]25
Борьба (гр.).
[Закрыть]. Фест в своем словаре дает следующее толкование этого слова: Агон, по его мнению, обозначало жертву, которую императоры, желая снискать милость богов, приносили перед выступлением в поход; святой Иероним, рассказывая о цирковых боях христианских мучеников, неизменно пишет в своих трудах: «Agones martyrum»; и наконец, агонистиками называли некоторых фанатиков-донатистов, ищущих смерти. Мы придерживаемся мнения, что именно в пользу последней версии должен быть разрешен этот важный вопрос.
Но, как бы там ни было, в IX веке к названию этого места, означающему массовое побоище, добавилось имя предводителя замученных легионеров: город стал называться Сен-Морис Агонский, а впоследствии просто Сен-Морис, и это имя он сохранил за собой вплоть до наших дней.
Чудеса, творимые мощами мучеников, создали им такую славу, что те из галльских епископов, у кого недоставало святых реликвий в епархиях, посылали за ними в Агон; и вскоре приходские священники, завидуя привилегии своих начальников, до того потеряли всякий стыд, что стали требовать для своих церквей кто руку, кто ногу святых мучеников; святые мощи, несмотря на их многочисленность, вероятно, исчезли бы все до единой в ходе этого грабежа, если бы не эдикт императора Феодосия, запрещавший под страхом самого жестокого наказания вскрывать захоронения легионеров. В итоге удалось сохранить от расхищения множество останков мучеников, а также несколько сосудов с их кровью. Карл Великий, дабы сберечь эту великую ценность, преподнес в дар Сен-Морису агатовую склянку, которая и поныне хранится в городской сокровищнице. Он также подарил городу золотой стол весом в шестьдесят марок, богато украшенный бриллиантами и предназначавшийся для обряда причастия; деньгами, вырученными от его продажи, были покрыты траты на поход в Святую землю Амедея III, графа Савойского.
Я так подробно рассказываю об античном прошлом Сен-Мориса потому, что, покидая город, очень трудно унести с собой какое-либо воспоминание о его современном облике, и приходится поступать с ним, как с нашими новыми дворянами, которых я из вежливости продолжаю еще называть их старыми именами.
Едва выйдя из Мартиньи, я заметил, взглянув направо, небольшую часовенку в честь Богоматери, покровительницы Бе, построенную на высоте восьмисот футов у отвесной стены утеса, а точнее, прилепленную к ней. Наверх вела узкая тропинка, не имеющая никакого ограждения, местами шириной менее восемнадцати дюймов. В часовне жил какой-то слепой.
Примерно через тысячу шагов, справа от дороги, после десяти минут ходьбы, вы увидите часовню Вероллье, построенную на том самом месте, где был обезглавлен святой Маврикий. В те времена Рона текла у подножия невысокого холма, на котором состоялась эта казнь, и голова святого, отделенная от тела, докатилась до берега реки и исчезла в ней.
Было уже три часа пополудни, а я собирался прийти в Мартиньи к ужину. Мне хотелось посвятить еще некоторое время знакомству с водопадом Писваш, который мне расхваливали как один из красивейших в Швейцарии. После полутора часов ходьбы, за поворотом дороги, я издалека увидел водопад: он четко вырисовывался на фоне черной скалы, словно молочная река, низвергавшаяся с горы. Для взора нет ничего притягательнее и восхитительнее воды: для пейзажа она то же, что зеркало для домашних покоев; это самое живое из всего неживого, что есть в природе, однако водопад затмевает собой все: это подлинно живая вода, так и тянет наделить ее душой. Ты с интересом следишь за пенными бурунами, возникающими в тех местах, где поток наталкивается на выступы утеса; слушаешь ее громкий голос, наполняющийся стенаниями, когда она устремляется вниз; охаешь при виде ее падения, боль которого не может скрасить ей даже тот сверкающий, переливающийся шарф, что мимоходом набрасывает на ее плечи солнце; затем, наконец, с любопытством наблюдаешь за ее неторопливым течением по долине, будто следишь за мирным существованием друга, чья юность была исполнена бурных страстей.
Писваш спускается с Саланфа, одной из самых красивых гор в кантоне Вале; высота, с которой он падает, равна примерно четыремстам футам.








