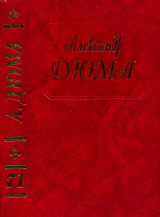
Текст книги "Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Проходя по площади, мы увидели Жакото, закрывавшего кафе, и немца, курившего последнюю сигару и допивавшего последнюю бутылку пива. Жакото пожелал всей компании приятно провести время, а немец крикнул нам вдогонку: «Шастливого пути!..» Напутствие показалось мне не очень уместным…
Мы переправились на другую сторону озера Ле-Бурже, чтобы добраться до подножия горы, на которую нам предстояло взойти; вода в озере была синяя, прозрачная, спокойная, и казалось, что в глубине его мерцает столько же звезд, сколько их было в небе. На западном берегу озера высилась, словно белое привидение, башня Откомб, а между нею и нами тихо скользили рыбачьи лодки: на носу каждой горел факел, и пламя его отражалось в воде.
Если бы мне можно было побыть здесь одному, целыми часами грезя в какой-нибудь одинокой лодке, я, конечно, не пожалел бы ни о прерванном сне, ни о теплой постели. Но вовсе не для этого я пустился в путь: я сделал это для того, чтобы развлекаться. А потому я развлекал-с я!.. Странная штука человеческая жизнь: в погоне за развлечениями люди постоянно проходят мимо счастья!..
Мы стали взбираться на гору в половине первого ночи; весьма любопытно было смотреть на это факельное шествие. К двум часам ночи мы преодолели уже три четверти подъема, но отрезок пути, который нам оставалось пройти, был настолько труден и настолько опасен, что наши проводники устроили привал, чтобы дождаться первых лучей солнца.
Как только рассвело, наше восхождение продолжилось, но вскоре подъем стал таким крутым, что мы почти касались грудью склона горы, по которому тянулась наша вереница. Каждый проявлял всю свою ловкость и силу, цепляясь руками за вереск и кусты, а ногами – за шероховатую поверхность скал и неровности почвы. Было слышно, как из-под ног у нас вырываются камни и катятся под откос, крутой, словно скат крыши, и, провожая их взглядом, мы видели, что они достигают поверхности озера, синяя гладь которого расстилалась в четверти льё под нами; проводники и те не могли оказать нам никакой помощи, так как их поглощала забота найти для нас наиболее удобный путь; лишь время от времени они советовали нам не оборачиваться, чтобы избежать дурноты и головокружения, и эти советы, сделанные резким, отрывистым голосом, лишний раз доказывали, что опасность свалиться вполне реальна.
Внезапно наш товарищ, шедший первым вслед за проводниками, испустил крик, от которого по телу у нас пробежали мурашки. Он собрался было ступить на камень, уже расшатанный под тяжестью тех, кто использовал его как точку опоры, но камень выскользнул у него из-под ног, а ветки, за которые он уцепился, не выдержали веса его тела и сломались у него в руках.
– Держите его! Да держите же его! – закричали проводники.
Но сказать это было легче, чем сделать. Мы с превеликим трудом держались сами, и потому, когда несчастный промелькнул мимо нас, никто не смог его остановить. Мы уже считали нашего товарища погибшим и в холодном поту, затаив дыхание, следили взглядом за его полетом, как вдруг он оказался так близко от Монтегю, последнего в нашей цепи, что тот, протянув руку, сумел схватить его за волосы. Казалось, они оба вот-вот скатятся вниз; длилось это недолго, но, ручаюсь, никто из нас никогда не забудет того ужасного мгновения, когда наши друзья балансировали над пропастью глубиной в две тысячи футов, а мы не знали, упадут они туда или сумеют удержаться на ее краю.
Наконец мы добрались до небольшого елового леса, и, хотя дорога не стала после этого менее крутой, взбираться по ней стало легче, ибо теперь мы могли хвататься за ветви деревьев и опираться на их стволы. Другим своим краем лесок этот почти упирался в голую скалу, которой гора и обязана своим странным названием; уступы, кое-где выдолбленные в камне и своей формой напоминавшие ступени, облегчали подъем на ее вершину.
Это последнее восхождение предприняли лишь двое из нас, но не из-за того, что оно было труднее только что проделанного нами пути, а потому, что вид с вершины не обещал быть шире того, который мы имели перед глазами и который далеко не вознаградил нас за усталость и полученные ссадины; так что мы предоставили двум смельчакам взбираться на эту колокольню, а сами сели на землю, чтобы вытряхнуть камешки из обуви и вытащить колючки из одежды. Между тем наши скалолазы достигли вершины горы и в доказательство своего вступления во владение ею развели там костер и выкурили по сигаре.
Четверть часа спустя они присоединились к нам, так и не потушив костра: им хотелось знать, будет ли виден снизу его дым.
Мы наскоро перекусили, после чего проводники спросили, какой дорогой нам предпочтительнее вернуться – прежней или другой, более длинной, но зато более легкой; мы единодушно выбрали вторую. В три часа пополудни мы уже были в Эксе, и двое наших приятелей, стоя посреди площади, с гордостью взирали на дым своего сигнального костра. Я поинтересовался у своих спутников, позволено ли мне теперь, когда я вдоволь развлекся, отправиться спать. Ввиду того, что они все, вероятно, испытывали ту же потребность, мне было отвечено, что препятствий к этому не имеется.
Уверен, что я проспал бы тридцать шесть часов подряд, как Бальма, если бы меня не разбудил громкий шум. Я открыл глаза: было темно; подойдя к окну, я увидел, что все население Экса высыпало на площадь; все говорили одновременно, вырывали друг у друга подзорные трубы и задирали головы, рискуя свихнуть себе шею. Мне подумалось, что произошло лунное затмение.
Я поспешил одеться, не желая пропустить такое любопытное зрелище, и спустился вниз, вооружившись подзорной трубой. Красноватые отблески озаряли ночь, все небо, казалось, было в огне: гора Ла-Дан-дю-Ша пылала.
В это мгновение кто-то коснулся моей руки; я обернулся и заметил наших товарищей, зажегших сигнальный огонь на вершине горы; они мимоходом кивнули мне. Я поинтересовался, куда они торопятся, и один из них, сложив руки рупором, крикнул: «В Женеву!» Я сразу понял, в чем дело: стало известно, что они вызвали пожар на горе Ла-Дан-дю-Ша, и Жакото потихоньку предупредил их, что король Сардинии весьма дорожит своими лесами.
Я перевел взгляд на младшую сестру Везувия: это был премилый вулкан, хотя и второразрядный.
Ночной пожар в горах – одно из самых великолепных зрелищ, какое только можно увидеть. Пламя свободно разгуливает по лесу, словно гидра, протягивая во все стороны свои огненные головы, подползает к попавшемуся на его дороге дереву, взбирается вверх по стволу, лижет сверкающими языками листья, султаном взвивается над верхушкой, спускается вниз по ветвям и зажигает их одну за другой, словно ветви тиса на народном гулянье. Вот представление, которое наши короли не могут дать на своих празднествах, а оно поистине прекрасно! Затем, когда охваченное пламенем дерево сбрасывает с себя пылающие листья, а порывы ветра разносят их огненным дождем; когда каждая искра, падая на землю, порождает новый очаг пожара; когда эти очаги ширятся, сближаются и, слившись, образуют море огня; когда весь лес полыхает и когда пламя окрашивает каждое дерево в соответствии с его породой и меняется в соответствии с его формой; когда раскаленные камни срываются с высоты и катятся вниз, круша все на своем пути; когда огонь воет, как ветер, а ветер ревет, как ураган, – о, что за волшебная, ни с чем не сравнимая картина развертывается тогда перед глазами! Нерон, поджегший Рим, разбирался в наслаждениях.
От восторженного созерцания пожара меня отвлек стук колес: по площади ехала карета под конвоем четырех королевских карабинеров. Я узнал экипаж наших подражателей Руджиери: выданные проводниками и разоблаченные станционным смотрителем, они были задержаны жандармами Карла Альберта прежде, чем успели добраться до савойской границы. Обоих намеревались препроводить в тюрьму, но мы дружно вступились за них, и, в конце концов, благодаря нашему поручительству и данному ими слову не покидать Экс, друзья были освобождены, что позволило им вдоволь любоваться зрелищем, которое они должны были оплатить.
Пожар продолжался три дня.
На четвертый день виновникам пожара был вручен счет на тридцать семь тысяч пятьсот франков.
Наши друзья нашли, что плата слегка высоковата за несколько арпанов дрянного леса, который к тому же невозможно было использовать из-за его местоположения; они отправили нашему послу в Турине письмо с просьбой добиться хоть какого-нибудь сокращения этой суммы. Посол проявил такую ловкость, что неделю спустя требование о возмещении убытков было сведено к семистам восьмидесяти франкам.
После уплаты этой суммы обоим друзьям разрешалось покинуть Экс. Повторять им это дважды не пришлось: они немедленно внесли деньги, получили расписку и тут же уехали, опасаясь, как бы на следующий день им не предъявили дополнительного счета.
Я утаил имена виновников пожара: они пользуются слишком большим уважением в Париже, чтобы я отважился на него посягнуть.
Неделя после их отъезда не принесла никаких новых происшествий, кроме отвратительного концерта, данного особой, выдававшей себя за первое контральто Комической оперы, и господином, выдававшим себя за первого баритона бывшей королевской гвардии, а также переезда немца, который занял гостиничный номер по соседству со мной (прежде он жил в доме Руассара, напротив Змеиной дыры, и в одно прекрасное утро обнаружил в своем сапоге ужа).
Ввиду того, что поездки на ослах надоедают, даже если вылетаешь из седла не чаще двух-трех раз; что игра в карты не кажется занимательной, если не радуешься выигрышу и не печалишься о проигрыше; что я уже осмотрел все достопримечательности Экса и его окрестностей; и наконец, ввиду того, что нам угрожал второй концерт первого контральто и первого баритона, я решил внести некоторое разнообразие в это бестолковое существование и посетить монастырь Ла-Гранд-Шартрёз, находящийся, если не ошибаюсь, в десяти – двенадцати льё от Экса. Затем я намеревался вернуться в Женеву, а оттуда продолжить путешествие по Альпам, начав с Оберланда. Итак, я приготовился к отъезду, нанял экипаж из обычного расчета десять франков в день и 10 сентября утром зашел проститься с моим соседом-немцем; он предложил мне выкурить с ним по сигаре и выпить по стакану пива – любезность, какую, он полагаю, еще никому не оказывал.
В то время как мы пили пиво и, облокотившись на столик, пускали в лицо друг другу клубы дыма, слуга доложил, что карета подана; немец встал, проводил меня до двери и у порога спросил:
– Куда ви едете?
Я объяснил ему.
– Ха-ха! – засмеялся он. – Ви увидите монахоф, они шудные люди.
– Почему чудные?
– Да-да, они едят в шернильницах и спьят в шкапах.
– Что это значит, черт возьми?
– Увидите.
Он пожал мне руку, пожелал счастливого пути и захлопнул дверь своего номера. Мне так и не удалось добиться от него никаких разъяснений.
Я зашел к Жакото выпить на прощание чашку шоколада. Хотя я и не делал большие заказы в его кафе, Жакото преисполнился ко мне уважением, ибо ему сказали, что я писатель; узнав, что я уезжаю, он спросил, не напишу ли я что-нибудь о водах Экса. Я ответил, что это маловероятно, хотя и возможно. Тогда он попросил меня упомянуть о кафе, где он был старшим официантом, ибо, несомненно, это принесет большую пользу его хозяину. Я не только дал ему такое обещание, но и обязался в меру своих сил прославить лично его, Жакото. Бедный малый даже побледнел при мысли, что его имя будет напечатано когда-нибудь в книге.
Общество, которое я оставлял, покидая Экс, представляло собой странную смесь различных общественных слоев и различных политических убеждений. Однако представители потомственной аристократии, повсюду преследуемой и шаг за шагом вытесняемой аристократией финансовой, которая идет ей на смену, – так на скошенном поле прорастает новая трава, – были здесь в большинстве. Это означало, что карлисты составляли в Эксе самую сильную партию.
Сразу за ними шла партия собственников, состоящая из богатых парижских торговцев, лионских негоциантов и владельцев металлургических заводов в провинции Дофине. Все эти славные люди чувствовали себя весьма несчастными, так как «Конституционалист» не поступает в Савойю.[38]38
В Савойе получают лишь две газеты – «Французскую газету» и «Ежедневную». (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Бонапартистская партия также имела нескольких представителей в этом сейме хронических больных. Бонапартистов сразу можно было распознать по недовольству, составляющему основу их характера, и звучащим как заклинание словам, которые они вставляют в любой разговор: «О, если бы изменники не предали Наполеона!» Это честные люди, которые ничего не видят дальше острия своей шпаги и мечтают о повторении триумфального возвращения с острова Эльбы для Жозефа или Люсьена, не понимая, что Наполеон принадлежит к тем историческим личностям, которые оставляют после себя семью, но не наследников.
Республиканская партия была явно наиболее слабой, и ее представлял, если не ошибаюсь, я один. К тому же, поскольку я не был вполне согласен ни с революционными взглядами «Трибуны», ни с американскими теориями «Национальной газеты», снимал шляпу, проходя мимо распятия, и заявлял, что Вольтер сочинял плохие трагедии, меня считали всего-навсего утопистом.
Разграничительная линия была особенно заметна среди женщин. Между собой уживались лишь Сен-Жермен-ское предместье и предместье Сент-Оноре, ведь потомственная и военная аристократия – сестры, тогда как аристократия финансовая – внебрачная дочь. Мужчин, однако, сближали азартные игры: за зеленым сукном не существует каст, и тот, кто делает наибольшие ставки, считается самым знатным. Ротшильд пришел на смену семейству Монморанси, и если бы завтра он отрекся от веры своих предков, то послезавтра никто не стал бы оспаривать у него звание славнейшего барона христианского мира.
Размышляя обо всех этих различиях, я успел подкатить к Шамбери, но, поскольку на голове у меня была вся та же серая шляпа, мне недостало смелости там остановиться. Однако, проезжая по городу, я заметил, что хозяин гостиницы, поместивший на вывеске своего заведения слова «У герба Франции», сохранил на ней три геральдические лилии старшей королевской ветви, которые народ столь решительно стер с герба младшей.
В трех льё от Шамбери мы проехали под сводами туннеля, проложенного в горе: он имеет в длину шагов сто пятьдесят. Строительство этого туннеля, начатое при Наполеоне, было завершено теперешним савойским правительством.
Сразу по другую сторону горы лежит деревня Лез-Эшель, а в четверти льё от нее – полуфранцузский, полу-савойский городок. Границей между двумя королевствами служит река; перекинутый через нее мост охраняется с одного конца савойским часовым, а с другого – французским. Поскольку ни тот, ни другой не имеет права вступать на территорию своего соседа, они важно приближаются к середине моста, а затем, дойдя до пограничной черты на мостовой, поворачиваются друг к другу спиной, расходятся в противоположные стороны и повторяют этот маневр в течение всего своего дежурства. Признаться, я с удовольствием увидел красные штаны и трехцветную кокарду одного из этих часовых, свидетельствующие о том, что передо мной находится соотечественник.
Вскоре мы прибыли в деревню Сен-Лоран; именно там приходится оставлять экипаж и пересаживаться на верховых животных, чтобы добраться до монастыря Ла-Гранд-Шартрёз, до которого остается проехать еще четыре льё. Но в деревне не оказалось ни одного мула: всех угнали на какую-то ярмарку. Это не имело большого значения для нас с Ламарком, так как мы достаточно хорошие ходоки, но было далеко не безразлично для дамы, которая нас сопровождала. Однако она смирилась с необходимостью идти пешком. Мы наняли проводника, взявшегося нести наши вещи, упакованные в три свертка, которые он соединил в один. Было около половины восьмого: до наступления темноты оставалось лишь два часа, а идти предстояло целых четыре.
Долина Дофине, в которую вклинивается картезианский монастырь, может выдержать сравнение с самыми мрачными швейцарскими ущельями; она не менее живописна и отличается такой же богатой растительностью и таким же величием окрестных вершин; однако дорога к монастырю, несмотря на свою крутизну, гораздо удобнее альпийских дорог, ибо она имеет в ширину не менее четырех футов. Так что идти по ней днем нисколько не опасно, и, пока было светло, все шло у нас прекрасно. Однако в конце концов темнота сгустилась, причем произошло это раньше времени из-за сильнейшей грозы. Мы поинтересовались у проводника, нельзя ли нам где-нибудь укрыться, но на дороге не было ни одного дома, и нам пришлось идти дальше: до монастыря оставалась еще половина пути.
Последняя часть подъема была ужасна. Вскоре полил дождь, а с ним наступила и непроглядная тьма. Наша спутница уцепилась за руку проводника, Ламарк взял под руку меня, и мы двинулись дальше парами, ибо дорога была недостаточно широка для того, чтобы идти вчетвером бок о бок; справа от нас тянулась пропасть, глубины которой мы не знали, а на дне этой пропасти ревел поток. Ночь была так темна, что не видно было дороги под ногами, а белое платье дамы, указывавшее нам путь, мелькало впереди лишь при свете молний, которые, к счастью, сверкали так часто, что в этой грозовой ночи было столько же света, сколько и тьмы. Прибавьте к этому аккомпанемент грома, раскаты которого множило эхо, удесятеряя его и без того оглушительные удары: казалось, что близится Страшный суд.
Послышавшийся звон монастырского колокола возвестил, что мы приближаемся к цели. Полчаса спустя мы различили при вспышке молнии огромное здание древнего монастыря, возвышавшегося всего лишь в двадцати шагах от нас; ни малейшего шума не доносилось оттуда, кроме ударов колокола, ни единого проблеска света не было видно в его пятидесяти окнах: казалось, что это заброшенная обитель, где разыгрались злые духи.
Мы позвонили. Дверь открыл монах. Мы уже собирались было войти, но тут он заметил нашу даму и тотчас захлопнул дверь, словно в монастырь явился сам Сатана. Картезианцам воспрещено принимать у себя женщин; один-единственный раз в их обитель проникла женщина, переодетая мужчиной; когда после ее ухода монахи узнали, что их устав был нарушен, они выполнили в залах и кельях, куда она заходила, обряд изгнания бесов. Только дозволение папы может открыть дверь монастыря женщине, этому врагу человеческого рода. Герцогине Беррийской и той в 1829 году пришлось прибегнуть к такому средству, чтобы осмотреть Ла-Гранд-Шартрёз.
Мы пребывали в большом затруднении, как вдруг дверь снова отворилась. Появился другой монах, с фонарем в руке, и отвел нас во флигель, находившийся в пятидесяти шагах от обители. Там ночуют все женщины, которые, как и наша спутница, стучатся в дверь монастыря Л а-Гранд – Шартрёз, не зная суровых правил последователей святого Бруно.
Монаха, сопровождавшего нас, звали Жан Мари; он показался мне самым кротким и услужливым созданием, какое я когда-либо видел. На его обязанности лежало встречать путников, прислуживать им и показывать монастырь тем из них, кто этого пожелает. Прежде всего он угостил нас ликером, приготовленным монахами и предназначенным для того, чтобы согреть путников, продрогших на морозе или вымокших под дождем; как раз в таком положении находились и мы, и, наверно, никогда еще не случалось с большей пользой применить святой эликсир. И правда, едва мы проглотили несколько его капель, как нам показалось, что в желудке у нас запылал огонь, и мы принялись бегать по комнате точно одержимые, требуя воды; если бы в эту минуту брату Жану Мари пришло в голову поднести зажженную свечу ко рту любого из нас, то мы, пожалуй, стали бы изрыгать пламя подобно Каку.
Между тем огромный камин озарился огнем, а на столе появились молоко, хлеб и сливочное масло: картезианские монахи не только сами постятся весь год, но и заставляют поститься своих гостей.
Когда наш более чем скромный ужин подходил к концу, монастырский колокол возвестил сбор к заутрене. Я спросил брата Жан Мари, можно ли мне присутствовать на богослужении. Он ответил, что хлеб и слово Божье принадлежат всем христианам. Итак, я отправился в монастырь.
Вероятно, я отношусь к числу тех людей, на кого облик предметов внешнего мира влияет особенно сильно, и среди них, пожалуй, наибольшее впечатление производят на меня церковные здания. Что же касается монастыря Ла-Гранд-Шартрёз, то он отличается таким мрачным величием, какое нигде больше не встречается. Его насельники составляют единственный монашеский орден, переживший все революции во Франции; этот орден – все, что уцелело от верований наших отцов, это последний оплот религии среди захлестнувшего нашу землю неверия. И все же день ото дня религиозное равнодушие подтачивает святую обитель изнутри, подобно тому, как время разрушает ее снаружи: вместо четырехсот монахов, обитавших в его стенах в XV веке, теперь в нем осталось всего двадцать семь. И поскольку за последние шесть лет монастырская община не пополнилась ни одним новым монахом, а два послушника, принятые за это время, не смогли вынести строгостей послушничества, то, вероятно, орден станет все больше угасать по мере того, как смерть будет стучаться в двери келий, ведь никто не придет на смену умершим, а самый молодой из монахов, переживший всех остальных, запрет изнутри дверь обители, почувствовав, что час его пробил, и живым ляжет в вырытую им самим могилу, ибо назавтра рядом не будет рук, чтобы положить его туда.
По тому, что написано мною выше, читатель должен был понять, что я не из тех путешественников, кто выказывает притворный восторг, любуется по совету проводника тем, чем положено любоваться, и лицемерно делает вид, будто он испытывает при виде людей и местностей, которыми принято восхищаться, чувства, каких нет в его душе; нет, я разобрался в своих впечатлениях и открыто вынес их на суд моих читателей; быть может, я плохо рассказал о своих переживаниях, но я рассказал лишь о том, что переживал на самом деле. И мне поверят, если я скажу, что раньше мне не доводилось испытать чувства, подобного тому, какое овладело моим сердцем, когда я увидел, как в конце огромного готического коридора, длиною в восемьсот футов, открылась дверь кельи и из-под аркад, потемневших от времени, вышел белобородый монах, одетый в рясу, какую носил еще святой Бруно: ни единая складка не изменилась за восемь веков, прошедших с тех пор. Святой муж, величественный и спокойный, шествовал среди светлого круга, отбрасываемого дрожащим огоньком лампы, которую он держал в руке, тогда как впереди и позади него все было погружено во мрак. Когда он направился ко мне, ноги у меня подкосились и я упал на колени; увидев меня в этой позе, он подошел ко мне и с выражением доброты на лице, воздев руки над моей склоненной головой, произнес:
– Благословляю вас, сын мой, если вы верите, благословляю и в том случае, если вы не верите.
Смейтесь, если хотите, но в эту минуту я не отдал бы его благословение и за королевский трон.
Когда монах двинулся дальше, я поднялся с колен. Он шел в церковь, и я последовал за ним. В церкви меня ждало еще одно незабываемое зрелище.
Вся маленькая община, состоявшая лишь из шестнадцати отцов и одиннадцати братьев, собралась в часовне, которую освещала лампа, прикрытая черной прозрачной тканью. Один монах служил, все остальные внимали ему, но не сидя и не стоя на коленях: они простерлись ниц и прижались лбом и ладонями к мраморному полу; откинутые назад капюшоны позволяли видеть их бритые головы. Здесь были и молодые люди, и старцы. Они пришли в монастырь, движимые разными побуждениями: одних привела сюда вера, других – горе, третьих – снедающие их страсти, четвертых – возможно, преступление. У некоторых в височных артериях так бурно пульсировала кровь, словно по жилам у них струился огонь: эти плакали; другие, видимо, едва ощущали движение своей охладевшей крови: эти молились. О, какая интересная книга получилась бы, если описать историю каждого из этих людей!
Когда заутреня кончилась, я попросил разрешения осмотреть монастырь ночью: у меня были опасения, что наступивший день изменит ход моих мыслей, а мне хотелось видеть святую обитель, пребывая в том же душевном настроении. Брат Жан Мари взял в руки лампу, дал мне другую, и мы начали наш обход с коридоров. Как я уже говорил, коридоры эти огромны: они такой же длины, как собор святого Петра в Риме, и ведут в четыреста келий; в прежнее время все эти кельи были заселены, а теперь триста семьдесят три из них пустуют. Каждый монах написал на двери своей кельи свое самое любимое изречение, либо придуманное им самим, либо взятое из какой-нибудь душеспасительной книги. Вот те из них, которые показались мне наиболее примечательными:
AMOR, QUI SEMPER ARDES ET NUMQUAM EXTINGUERIS,
ACCENDE ME TOTUMIGNE TUO.[39]39
Ты, любовь, что всегда пылаешь и никогда не гаснешь, зажги меня своим огнем (лат.). – Герман Гуго, «Благие пожелания», XXXIV.
[Закрыть]
В УЕДИНЕНИИ ГОСПОДЬ ОБРАЩАЕТСЯ К СЕРДЦУ ЧЕЛОВЕКА,
В ТИШИНЕ ЧЕЛОВЕК ОБРАЩАЕТСЯ К СЕРДЦУ ГОСПОДА.
FUGE, LATE, ТАСЕ.[40]40
Беги, таись, молчи (лат.).
[Закрыть]
ПОЗНАТЬ СОЗДАТЕЛЯ ТЕБЕ НЕ ПО УМУ:
ТЫ БОГОМ СОТВОРЕН, ЧТОБ ЖИТЬ В ЛЮБВИ К НЕМУ.[41]41
Вольтер, «Генриада», VII. – Перевод Ю. Денисова.
[Закрыть]
ЧАС ПРОБИЛ, ОН УЖЕ ПРОШЕЛ.
Мы вошли в одну из пустовавших келий: монах, живший в ней, умер пять дней тому назад. Все кельи похожи друг на друга, во всех имеются две лестницы – одна ведет наверх, другая – вниз. На верхнем этаже находится небольшое чердачное помещение, а в среднем этаже – комната с камином, возле которой расположен рабочий кабинет. В кабинете, на письменном столе, еще лежала книга, открытая на той странице, где остановились в последний раз глаза умирающего: это была «Исповедь святого Августина». К комнате с камином примыкает спальня; ее обстановку составляют лишь молитвенная скамейка и кровать с соломенным тюфяком и шерстяными простынями; кровать имеет две створки, которые можно закрыть, когда человек ложится спать. (И тут я понял, что имел в виду немец, уверяя меня, что картезианские монахи спят в шкафу.)
В нижнем этаже помещается мастерская с токарными и слесарными инструментами: монахам разрешается посвящать два часа в день какому-нибудь ремеслу и один час возделыванию небольшого сада, прилегающего к мастерской, – это единственное дозволенное им развлечение.
Мы осмотрели также зал главного капитула и увидели там портреты генералов ордена: от святого Бруно, его основателя[42]42
Основание ордена относится к 1084 году. (Примеч. автора.)
[Закрыть], скончавшегося в 1101 году, до Иннокентия Ле Массона, скончавшегося в 1703-м; затем, вплоть до отца Жана Батиста Мортеза, нынешнего генерала ордена, череда портретов прерывается. В 1792 году, когда монастыри подверглись разорению, картезианские монахи покинули Францию, и каждый унес с собой один из этих портретов. Но впоследствии монахи вернулись в монастырь, и портреты были водворены на место: ни один не пропал, так как те монахи, что умерли на чужбине, заранее позаботились о том, чтобы реликвии, которые они обязались хранить, не затерялись. В наше время коллекция снова полна.
Оттуда мы перешли в трапезную; она поделена на две части: первый зал отведен братьям, второй – отцам. Монахи пьют из глиняных чаш и едят из деревянных тарелок; у чаш две ручки, чтобы можно было брать их обеими руками по примеру первых христиан; тарелки напоминают по форме чернильницу: емкость, находящаяся посередине, содержит соус, а вокруг нее кладут овощи или рыбу – единственную пищу, которую дозволено вкушать монахам. При виде этих тарелок я снова вспомнил немца и понял, почему он говорил, что картезианские монахи едят из чернильниц.
Брат Жан Мари спросил меня, не угодно ли мне, несмотря на ночное время, посетить кладбище. Но то, что он считал помехой, было для меня лишь еще одной причиной решиться на этот осмотр, и я охотно принял его предложение. Открыв кладбищенскую калитку, он вдруг схватил меня за руку и указал на монаха, рывшего для себя могилу. При виде этого зрелища я на мгновение застыл на месте, а потом спросил своего проводника, могу ли я поговорить с этим человеком. Он ответил, что такое вполне допустимо; тогда я попросил его удалиться, если только это разрешается. Моя просьба не только не показалась ему бестактной, а напротив, явно очень обрадовала его: бедняга валился с ног от усталости. Я остался один.
Я не знал, как заговорить с могильщиком, но все же сделал несколько шагов по направлению к нему; он заметил меня и, повернувшись ко мне лицом, оперся на заступ, ожидая, что я ему скажу. Мое замешательство усилилось, однако молчать дольше было нелепо.
– Вы заняты этим прискорбным делом в такое позднее время, отец мой, – промолвил я. – Мне кажется, что поеле умерщвления плоти и дневных трудов вам следовало бы посвятить отдыху те немногие часы, какие оставляет вам молитва. Тем более, отец мой, – прибавил я с улыбкой, ибо мне было видно, что монах еще молод, – что работа, которой вы заняты, не кажется мне такой уж спешной.
– В этой обители, сын мой, – грустным, отеческим тоном произнес монах, – первыми умирают вовсе не самые старые и в могилу здесь сходят не в порядке старшинства по возрасту; к тому же, когда моя могила будет готова, Господь, возможно, смилуется надо мной и дозволит мне сойти в нее.
– Извините, отец мой, – продолжал я, – хотя сердце мое проникнуто верой в Господа, я плохо знаю религиозные правила и обряды, и потому, возможно, выскажу сейчас ошибочное мнение, но мне кажется, что предписываемое вашим орденом отречение от благ этого мира не доходит до стремления покинуть его.
– Человек властен над своими поступками, – ответил монах, – но не над своими желаниями.
– Какое же мрачное у вас желание, отец мой.
– Оно под стать моему сердцу.
– Так вы много страдали?
– Я и теперь страдаю.
– Мне казалось, что в этом жилище обитает лишь покой.
– Угрызения совести способны проникнуть куда угодно.
Вглядевшись в монаха, я узнал в нем того самого человека, который только что на глазах у меня рыдал в церкви, распростершись на полу. Он тоже узнал меня.
– Вы были этой ночью у заутрени? – спросил он.
– Да и, помнится, стоял рядом с вами, не так ли?
– И вы слышали, как я стонал?
– Я видел, как вы плакали.
– Что же вы подумали обо мне?
– Я подумал, что Бог сжалился над вами, раз он даровал вам слезы.
– Да-да, я надеюсь, что гнев Божий утих, коль скоро мне возвращена способность плакать.
– И вы не пытались смягчить свое горе, поверив его кому-нибудь из братьев?
– Здесь каждый несет бремя, соразмерное с его силами, и он не выдержит еще и тяжести чужого несчастья.
– И все же признание облегчило бы вашу душу.
– Да, вы правы.
– Не так уж плохо, – продолжал я, – когда есть сердце, готовое сострадать нам, и рука, готовая пожать нашу руку!
Я взял его руку и пожал. Он высвободил ее и, скрестив руки на груди, взглянул мне прямо в глаза, словно хотел прочитать, что таится в глубине моего сердца.








