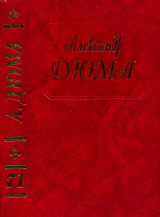
Текст книги "Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Александр Дюма
Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая
Предисловие
Нет на свете путешественника, который не счел бы своим долгом объяснить читателям, что именно заставило его отправиться в путь. Я испытываю слишком глубокое уважение к моим прославленным предшественникам – начиная с г-на де Бугенвиля, совершившего путешествие вокруг света, и заканчивая г-ном де Местром, обошедшим кругом свою комнату, – чтобы не последовать их примеру.
Впрочем, читатель сможет найти в этом предисловии, каким бы кратким оно ни было, две важнейшие новости, которые он напрасно пытался бы отыскать где-либо еще: первая касается средства от холеры, а вторая заключает в себе свидетельство непогрешимости наших газет.
15 апреля 1832 года, проводив до лестницы Листа и Буланже, моих добрых и прославленных друзей, которые вместе со мной весь вечер пили черный чай, чтобы уберечься от царившей повсеместно страшной болезни, и вернувшись к себе, я вдруг ощутил, что ноги меня больше не держат; в то же мгновение в глазах у меня потемнело, я почувствовал сильнейший озноб и ухватился за стол, чтобы не упасть: это начался приступ холеры.
Я не имею ни малейшего представления о том, была ли она азиатской или европейской, эпидемической или инфекционной, но прекрасно помню, что спустя несколько минут, чувствуя, как язык отказывается мне повиноваться, я не мешкая попросил подать мне сахару и эфиру.
Моя служанка, особа весьма сообразительная и к тому же не раз видевшая, как я после ужина обмакиваю кусочек сахара в ром, предположила, что я и на этот раз прошу о чем-то подобном. Она наполнила ликерную рюмку чистым эфиром, положила на нее самый большой кусок сахара, какой ей удалось найти, и принесла мне все это как раз в ту минуту, когда я уже собирался ложиться, испытывая дрожь во всем теле.
Поскольку сознание уже начало оставлять меня, я машинально протянул руку и почувствовал, как мне в нее что-то вложили; одновременно я услышал, как мне говорят:
– Выпейте, сударь, от этого вам станет легче.
Я поднес рюмку ко рту и проглотил все ее содержимое, то есть полфлакона эфира.
Не берусь описывать, какую бурю произвела во мне эта дьявольская жидкость, когда она прошла сквозь меня, ибо почти в то же мгновение я потерял сознание. Час спустя я пришел в себя: я лежал, завернутый в большое меховое покрывало, в ногах у меня был круглый сосуд с кипятком, а два человека, держа в руках грелки, наполненные горячими углями, старательно растирали мне все тело. На какое-то мгновение мне почудилось, что я умер и нахожусь в аду: эфир сжигал мои внутренности, а кожа пылала от растираний; наконец, через четверть часа холод признал свое поражение и отступил; я обливался потом, обращаясь в воду, как Библида г-на Дюпати, и врач объявил, что я спасен. Это произошло вовремя: еще два поворота вертела, и я зажарился бы окончательно.
Четыре дня спустя меня навестил директор театра Порт-Сен-Мартен; положение его театра было гораздо хуже моего, и умирающий, сидя в изножье моей постели, просил выздоравливающего о помощи. Господин Арель заявил мне, что не позднее чем через две недели, и это крайний срок, ему нужна пьеса, способная принести театру по меньшей мере пятьдесят тысяч экю дохода; желая склонить меня к согласию, он прибавил, что то лихорадочное состояние, в каком я пребывал, необычайно способствует игре воображения, ибо следствием его является умственное возбуждение.
Этот довод показался мне настолько убедительным, что я немедля сел за работу, и спустя неделю, вместо отпущенных мне двух, пьеса была готова; сборы театра составили сто тысяч экю вместо желанных пятидесяти; правда, я чуть было не лишился рассудка.
Этот каторжный труд мало способствовал моему выздоровлению, и, когда стало известно о смерти генерала Ламарка, я еще был так слаб, что с трудом мог держаться на ногах. На следующий день по просьбе семьи покойного я был назначен одним из распорядителей погребальной процессии. Мне было поручено проследить, чтобы артиллерия национальной гвардии, в которой я состоял, заняла в кортеже то место, какое ей полагается в соответствии с требованиями воинской иерархии.
Весь Париж видел, как двигалась эта величественная процессия, отличавшаяся строгостью, благоговейной отрешенностью и духом патриотизма. Кто превратил этот строгий порядок в беспорядок, эту благоговейную отрешенность в ярость, а дух патриотизма в дух мятежа? Я этого не знаю, да и не желаю этого знать вплоть до того дня, когда Июльская монархия даст свой отчет Богу, как Карл IX, или народу, как Людовик XVI.
Девятого июня я прочитал в одной легитимистской газете, что меня схватили с оружием в руках в бою на улице Клуатр-Сен-Мерри, ночью я предстал перед военным судом и был расстрелян в три часа утра.
Это известие носило вполне официальный характер, а поскольку рассказ о моей казни (впрочем, было отмечено, что я держался с редкостным мужеством) изобиловал таким множеством подробностей и сведения исходили от такого надежного источника, что на мгновение меня самого охватили сомнения; к тому же чувствовалось, что редактор совершенно убежден в достоверности этой новости – впервые он одобрительно отозвался обо мне в своем издании: было очевидно, что он считает меня умершим.
Отбросив одеяло, я вскочил с кровати и подбежал к зеркалу, желая лично удостовериться в том, что я жив. В тот же миг дверь комнаты открылась и вошел посыльный с письмом от Шарля Нодье. Оно было составлено в следующих выражениях:
Дорогой Александр!
Я только что прочел в газете, что Вас расстреляли вчера в три часа утра. Будьте добры, сообщите мне, не помешает ли Вам это обстоятельство отужинать завтра в Арсенале вместе с Тейлором.
Я велел передать Шарлю, что пока не могу ему ответить со всей определенностью, жив я или умер, поскольку еще не составил собственного мнения на этот счет; но, как бы там ни было, я в любом случае буду присутствовать завтра на этом ужине, так что ему, по примеру Дон Жуана, ничего не остается, как быть готовым принять у себя в гостях статую Командора.
На следующий день все же выяснилось, что я не умер; однако это известие ненамного улучшило мое положение, так как я по-прежнему был тяжело болен. Видя это, мой лечащий врач предписал мне то, что обычно советуют все врачи, когда они уже не знают, чем можно помочь больному, – путешествие по Швейцарии.
В итоге 21 июля 1832 года я покинул Париж.
I
МОНТРО
На следующий день, когда дилижанс сделал остановку в Монтро и пассажирам был предоставлен час на то, чтобы пообедать, я решил осмотреть здешний мост, историческую достопримечательность, являющуюся таковой вдвойне, ибо на протяжении четырех веков он был свидетелем угасания двух династий, одной из которых удалось уцелеть благодаря совершенному преступлению, а другую не могло спасти даже выигранное сражение.
Значение этих двух эпизодов нашей истории настолько велико, что невозможно не упомянуть о них в наших путевых заметках; так что, полагаю, читатели соблаговолят бросить вместе с нами беглый взгляд на географическое положение города Монтро, чтобы с нашей помощью стать непосредственными очевидцами произошедших здесь событий, главными героями которых были герцог Иоанн Бесстрашный и Наполеон.
Город Монтро расположен на расстоянии примерно двадцати льё от Парижа, у места слияния Йонны и Сены, там, где первая из этих двух рек утрачивает свое имя, впадая во вторую; если, оставив позади Париж, подняться вверх по реке, которая его пересекает, то в виду Монтро, слева, вы заметите гору Сюрвиль: ее вершину венчают развалины старого замка, а у ее подножия лежит нечто вроде предместья, отделенного от города рекой.
Прямо перед собой вы увидите полосу земли, очертаниями похожую на острый угол буквы «V», а положением напоминающую стрелку возле Нового моста в Париже; зажатая с двух сторон руслами Сены и Йонны, эта полоса земли, расширяясь все больше и больше, тянется до самых истоков обеих^ рек: Сены, начинающейся возле Беньё-ле-Жюифа, и Йонны, берущей начало неподалеку от того места, где находился древний город Бибракта, а в наши дни стоит город Отён.
Справа вашему взору откроется весь город Монтро, живописно раскинувший свои дома и виноградники, которые устилают бесконечным желто-зеленым ковром, похожим на одеяние шотландца, тучные равнины Гатине.
Что же касается моста, дважды сыгравшего столь важную роль в нашей отечественной истории, о чем мы постараемся вам рассказать дальше, то он соединяет, идя слева направо, предместье с городом и пересекает сначала Сену, а потом Йонну. Одна из его массивных опор стоит как раз на той самой косе, которую мы только что описали.
II
ИОАНН БЕССТРАШНЫЙ
Девятого сентября 1419 года на той части моста, которая пересекает Йонну, рабочие под защитой нескольких солдат, преграждавших доступ толпе, поспешно возводили нечто вроде крытой деревянной галереи, занимавшей всю ширину моста и имевшей в длину примерно двадцать футов. Два человека, сидевшие по обе стороны парапета, казалось, с одинаковым интересом пристально следили за этой работой. Старшему из этих двух людей, которые, судя по всему, руководили строительством, на вид было лет сорок восемь. На его и без того смуглое лицо падала тень от длинных черных волос, подстриженных в кружок; на голове у него был шаперон из темной материи, один из концов которого развевался на ветру наподобие края шарфа. Человек этот был одет в камзол из того же сукна, что и его головной убор, и с подкладкой из кусочков беличьего меха, видневшейся у воротника, на подоле и на рукавах; из этих рукавов, длинных и широких, высовывались две могучие руки, защищенные одним из тех прочных одеяний из железных колец, какие именуются кольчужными рубашками. На ногах у него были высокие ботфорты, верх которых скрывался под камзолом, а низ, забрызганный грязью, свидетельствовал о том, что поспешность, с какой этот человек явился руководить возведением галереи, не позволила ему переменить дорожное платье. На его кожаном поясе, на шелковых шнурах, висел длинный кошель из черного бархата, а рядом с ним, на месте меча или даги, на железной цепочке была подвешена небольшая секира с золотой насечкой; рукоять секиры украшала голова сокола со снятым клобучком, выполненная с достоверностью, которая делала честь мастеру, из чьих рук вышло это оружие.
Что же касается его товарища, то это был красивый молодой человек, на вид едва ли больше двадцати пяти-двадцати шести лет, одетый с изяществом, которое сразу же бросалось в глаза и казалось несовместимым с мрачным и озабоченным выражением его лица. Голову, низко склоненную на грудь, покрывал берет голубого бархата, подбитый горностаем; на тулье красовался рубиновый аграф, удерживавший пучок павлиньих перьев, концы которых колыхались на ветру, переливаясь и искрясь, словно золотой эгрет с сапфирами и изумрудами. Из широких свисающих рукавов красного бархатного камзола, отороченных, как и берет, мехом горностая, выступали скрещенные на груди руки, покрытые такой блестящей материей, что она казалась сотканной из золотых нитей. Его наряд довершали облегающие голубые панталоны с вышитыми на левом бедре буквами «П» и «Ж», которые были увенчаны рыцарским шлемом, и черные кожаные сапоги с подкладкой из красного плюша: их отогнутая верхняя часть образовывала отвороты, к которым золотой цепочкой крепились острые носки сапог, непомерно длинные и загнутые кверху по моде того времени.
Собравшийся народ с большим любопытством наблюдал за приготовлениями к встрече, которая должна была состояться на следующий день между дофином Карлом и герцогом Иоанном; и хотя стремление к миру было всеобщим, в толпе потихоньку поговаривали разное, ибо все испытывали больше опасений, чем надежд: последнее свидание предводителей бургундцев и сторонников дофина, несмотря на прозвучавшие с обеих сторон заверения, имело столь ужасные и губительные последствия, что теперь только чудо, по общему мнению, могло примирить этих двух принцев. Однако некоторые умы, настроенные менее скептически, верили в успех предстоящих переговоров или делали вид, что верят в них.
– Черт возьми! – воскликнул, заложив обе руки за ремень, который охватывал округлость его живота, вместо того чтобы стягивать талию, толстяк с радостно сияющим лицом, усыпанным пунцовыми прыщами и потому напоминавшим розовый куст в мае. – Черт возьми! Какая удача, что монсеньор дофин, храни его Господь, и монсеньор герцог Бургундский, храни его все святые, выбрали Мон-тро местом своего примирения.
– Еще бы не так, трактирщик! – откликнулся, похлопав ладонью по выпирающему животу толстяка, его сосед, настроенный менее восторженно. – Да, это большая удача, ведь по этой причине в твой кошелек упадет несколько лишних экю, а на город обрушится град.
– Почему это, Пьер? – послышалось несколько голосов.
– А почему так случилось в Понсо? Почему, едва встреча закончилась, разразился ураган такой страшной силы, хотя перед этим на небе не было видно ни облачка? Почему молния ударила в одно из двух деревьев, у подножия которых дофин и герцог заключили друг друга в объятия в знак примирения? Почему она разбила лишь одно дерево, не причинив ни малейшего вреда другому, и почему, хотя они росли от одного ствола, это дерево, сраженное молнией, упало возле второго, оставшегося стоять целым и невредимым? И посмотрите-ка, – добавил Пьер, указывая рукой на небо, – почему сейчас идет снег, хотя на дворе лишь девятое сентября?
При этих словах все подняли головы и, в самом деле, увидели, как на фоне серого неба, медленно кружась, падают первые хлопья преждевременно выпавшего снега, которому предстояло следующей ночью укрыть, словно саваном, земли Бургундии.
– Ты прав, Пьер, – произнес кто-то. – Это дурной знак, и он предвещает ужасные события.
– Знаете ли вы, что он предвещает? – продолжал Пьер. – Это свидетельство того, что Господь больше не в силах терпеть лживые клятвы, которые приносят люди.
– Да-да. Это правда, – послышался тот же самый голос. – Но почему гнев Господень не падет на головы клятвопреступников и удар молнии, вместо того чтобы обрушиваться на бедное дерево, которое здесь совсем ни при чем, не поразит виновных?
Этот возглас заставил молодого сеньора поднять голову, и его взгляд обратился в сторону возводимой постройки. В это время один из рабочих сооружал в самом центре галереи барьер, который должен был в целях безопасности разъединить сторонников двух партий. По-видимому, такая мера предосторожности пришлась не по душе благородному вельможе. Его бледное лицо внезапно побагровело, и, выйдя из состояния кажущегося безразличия, в котором он до этого пребывал, молодой человек рывком устремился к галерее, ворвался в толпу рабочих и стал осыпать их такой богохульной и кощунственной бранью, что плотник, уже собиравшийся установить барьер, выпустил его из рук и перекрестился.
– Кто приказал тебе, негодяй, установить здесь этот барьер? – спросил у него вельможа.
– Никто, монсеньор, – низко кланяясь, ответил с дрожью в голосе плотник. – Никто, но ведь таков обычай.
– Это глупый обычай, ясно тебе? Брось это бревно в реку, – и, повернувшись к своему старшему товарищу, молодой человек добавил: – О чем вы думаете, мессир Танги? Почему вы позволили это сделать?
– Похоже, мессир де Жиак, – ответил Дюшатель, – я, как и вы, настолько всецело озабочен предстоящим событием, что упустил из виду приготовления к нему.
В это время плотник, повинуясь приказу сира де Жиака, прислонил бревно к ограждению и уже собирался скинуть его в воду, как вдруг из толпы, наблюдавшей за этой сценой, раздался голос (то был голос Пьера).
– И все-таки, – проговорил он, обращаясь к плотнику, – прав ты, Андре, а этот сеньор ошибается.
– Что такое? – спросил де Жиак, обернувшись к толпе.
– Да, монсеньор, – спокойно продолжал Пьер, скрестив руки на груди. – Что бы вы там ни говорили, а барьер служит для безопасности обеих сторон. Это разумная предосторожность, когда встреча должна состояться между двумя недругами, и так принято поступать всегда.
– Да-да, всегда! – шумно поддержали его окружающие.
– Но кто ты такой, – промолвил де Жиак, – что осмеливаешься иметь собственное мнение, отличное от моего?
– Я, – холодно ответил Пьер, – гражданин Монтро, свободный и независимый, и еще в молодости взял себе за правило открыто высказывать свое мнение по каждому вопросу, ничуть не заботясь о том, что оно может задеть кого-то, кто могущественнее меня.
Де Жиак схватился за эфес меча, но Танги удержал его.
– Вы безрассудны, мессир, – заметил он, пожимая плечами. – Лучники! Разгоните толпу и очистите мост, – продолжил Танги. – А если эти бездельники окажут сопротивление, я разрешаю вам вспомнить, что в руках у вас арбалет, а ваша сумка полна стрел.
– Ну что ж, господа, – сказал Пьер, стоявший одним из первых и явно готовый прикрывать отступление. – Мы уйдем, но, раз уж я высказал вам одно свое суждение, мне придется высказать вам и другое: здесь готовится какое-то чудовищное предательство. Да будет Господь милостив к жертве и да простит он ее убийцам!
В то время как лучники исполняли приказания, отданные мессиром Танги, рабочие покинули достроенную галерею и приступили к возведению деревянных заграждений на обоих концах моста; в этих заграждениях были поставлены прочные двери, чтобы никто, кроме людей из свиты дофина и герцога, по десять человек с каждой стороны, не мог проникнуть внутрь. Ради личной безопасности каждого из предводителей все остальные люди, сопровождавшие герцога, должны были расположиться на левом берегу Сены и занять замок Сюрвиль, а сторонникам дофина отводился правый берег Йонны и город Монтро. Что же касается косы, о которой шла речь выше, то эта полоса земли, омываемая с одной стороны Сеной, а с другой Йонной, объявлялась нейтральной территорией и не принадлежащей никому, а так как в те времена этот полуостров был совершенно необитаем, если не считать одинокой мельницы, стоявшей на берегу Йонны, то легко было убедиться, что никаких ловушек там не готовится.
Едва рабочие закончили строительство заграждений, как одновременно, словно они только и ждали этой минуты, к мосту подошли два отряда вооруженных людей, чтобы занять отведенные им позиции: один из этих отрядов, который состоял из арбалетчиков, носивших на плече красный крест, отличительный знак Бургундии, и находился под командованием своего предводителя Жака де Ла Лима, завладел предместьем Монтро и выставил часовых с той стороны моста, откуда предстояло появиться герцогу Иоанну; другой, состоявший из солдат дофина, расположился в городе и выставил пост у того заграждения, через которое на мост должен был вступить дофин.
Тем временем Танги и де Жиак продолжали беседовать; но, увидев, что все приготовления закончены, они расстались: де Жиак отправился в Бресюр-Сен, где его ждал герцог Бургундский, а Танги-Дюшатель вернулся к дофину Франции.
Ночью творилось что-то ужасное: несмотря на то, что было лишь начало сентября, к утру высота снежного покрова достигла шести дюймов. Весь урожай погиб на корню.
На следующий день, 10 сентября, в час пополудни, герцог сел верхом на лошадь во дворе дома, где он остановился. По правую руку от него был сир де Жиак, а по левую – сеньор де Ноай. Любимая собака герцога всю ночь жалобно выла, и теперь, видя, что хозяин собирается уезжать, она, с горящими глазами и вздыбившейся шерстью, рвалась прочь из конуры, где ее держали на привязи; наконец, когда герцог уже тронулся в путь, пес последним неимоверным усилием разорвал двойную железную цепь и в ту минуту, когда лощадь готова была выйти за ворота, бросился к ней и с такой силой вцепился ей в грудь, что она взвилась на дыбы и всадник чуть было не вылетел из седла. Де Жиак в нетерпении хотел отогнать собаку ударами хлыста, который он носил при себе, но та, словно не замечая наносимых ей побоев, вновь вцепилась в шею коня герцога Иоанна; и тогда герцог, решив, что пес взбесился, снял с луки седла небольшую секиру и раскроил ему голову. Собака взвизгнула, кое-как доползла до ворот и там издохла, словно по-прежнему пытаясь преградить дорогу хозяину; герцог, издав вздох сожаления, заставил коня перескочить через тело преданного животного.
Всадники не проехали и двадцати шагов, как внезапно откуда-то из-за стены появился старый еврей, принадлежавший к окружению герцога и занимавшийся гаданием и предсказаниями; ухватившись за поводья, он остановил лошадь герцога и сказал:
– Ваша светлость, ради Бога, ни шагу дальше!
– Чего ты хочешь от меня, еврей? – остановившись, спросил герцог.
– Ваша светлость, – продолжал еврей, – всю эту ночь я провел, наблюдая звезды, и наука говорит, что если вы поедете в Монтро, то назад не вернетесь.
Старик крепко держал лошадь за удила, не давая ей двинуться с места.
– Что ты на это скажешь, де Жиак? – обратился герцог к своему молодому фавориту.
– Я скажу, – вскричал тот, побагровев от досады, – я скажу, что этот еврей – сумасшедший и с ним следует обойтись так же, как с вашей собакой, если вы не хотите, чтобы из-за его нечистого прикосновения вам пришлось целую неделю провести в покаянной молитве.
– Пропусти меня, еврей, – в задумчивости сказал герцог, делая старику знак отпустить поводья и не выказывая при этом раздражения.
– Прочь, старый еврей! – закричал де Жиак, пришпорив своего коня так, что тот грудью налетел на старика, сбил его с ног и заставил откатиться шагов на десять. – Прочь! Разве ты не слышишь, что его светлость приказывает тебе отпустить поводья?
Герцог провел ладонью по лбу, словно пытаясь отогнать какое-то смутное видение, и, в последний раз взглянув на старика, без памяти лежавшего у обочины дороги, поехал дальше.
Спустя три четверти часа герцог прибыл в замок Монтро. Прежде чем спешиться, он приказал двумстам воинам и сотне лучников расположиться в предместье, а также велел сменить стражу, стоявшую со вчерашнего дня в карауле у предмостных укреплений.
В эту минуту к герцогу Иоанну подошел Танги и сообщил, что дофин уже около часа ожидает его на мосту. Герцог ответил, что он точас придет, но в эту самую минуту к нему подбежал перепуганный насмерть слуга и что-то сказал ему вполголоса. Герцог повернулся к Дюшателю.
– Боже правый! – вскричал он. – Все сегодня, словно сговорившись, в один голос твердят мне об измене. Дю-шатель, вы твердо уверены, что мне ничто не угрожает? Обманув нас, вы поступили бы весьма коварно!
– Всемогущий сеньор, – ответил Танги, – пусть скорее я умру и буду проклят, нежели предам вас или кого-то другого; отбросьте прочь все опасения, ибо его светлость дофин не желает вам ни малейшего зла.
– Ну что ж, – сказал герцог, – стало быть, мы пойдем, полагаясь на Господа, – он поднял глаза к небу, а затем добавил, устремив на Танги один из тех пронизывающих взглядов, что были свойственны лишь ему одному, – и на вас.
Танги выдержал этот взгляд, не опустив глаз.
Затем он вручил герцогу лист пергамента, где перечислялись имена десяти рыцарей, которые должны были сопровождать дофина. Они были указаны в следующем порядке: виконт де Нарбонн, Пьер де Бово, Робер де Луар, Танги-Дюшатель, Барбазан, Гийом Ле Бутейе, Ги д’Авогур, Оливье Лайе, Варенн и Фротье.
В обмен Танги получил от герцога список тех, кто удостоился чести сопровождать его. Это были: его светлость Карл де Бурбон, сеньор де Ноай, Жан де Фрибур, сеньор де Сен-Жорж, сеньор де Монтагю, мессир Антуан де Вер-жи, сеньор д’Анкр, мессир Ги де Понтайер, мессир Шарль де Ланс и мессир Пьер де Жиак. К тому же каждый из них должен был взять с собой личного секретаря.[1]1
Ангерран де Монстреле, Сен-Фуа, Барант. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Танги удалился, взяв список с собой. Следом за ним тронулся в путь герцог: ему предстояло спуститься по дороге, ведущей от замка к мосту. Он шел пешком, на голове у него был черный бархатный берет, грудь его защищала лишь простая кольчужная рубашка, а из оружия при нем был всего лишь небольшой меч дорогой чеканки и с золоченой рукоятью.
Когда герцог Иоанн приблизился к заставе, Жак де Ла Лим сообщил ему, что видел, как много вооруженных людей вошли в один из городских домов, стоявших возле другого конца моста, и, заметив его, когда он со своим отрядом занимал подходы к мосту, поспешили закрыть в этом доме окна.
– Де Жиак, проверьте, так ли это, – распорядился герцог. – Я подожду вас здесь.[2]2
Ангерран де Монстреле, Сен-Фуа, Барант. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Де Жиак направился к мосту, миновал заставу, прошел через деревянную галерею, подошел к указанному дому и отворил дверь. Танги давал там указания двум десяткам солдат, вооруженных с ног до головы.
– Ну что? – спросил Танги, заметив вошедшего.
– Вы готовы? – в свою очередь справился де Жиак.
– Да, теперь можно идти.
Де Жиак вернулся к герцогу.
– Начальнику отряда просто показалось, ваша светлость, – доложил он, – в этом доме никого нет.
Герцог направился к месту встречи. Он миновал первую заставу, и она тотчас закрылась за ним. Это заставило его насторожиться, но, увидев Танги и сира де Бово, шедших ему навстречу, он не пожелал повернуть назад. Твердым голосом он произнес слова клятвы и, указав сиру де Бово на свою легкую кольчужную рубашку и короткий меч, сказал:
– Вы видите, сударь, с чем я пришел. Впрочем, – продолжил он, обратившись уже к Дюшателю и похлопав его по плечу, – вот кому я себя вверяю.[3]3
Ангерран де Монстреле, Сен-Фуа, Барант. (Примеч. автора.)
[Закрыть]
Юный дофин уже ждал его, находясь внутри деревянной галереи на середине моста; на нем был камзол из светло-голубого бархата, подбитый куньим мехом, и шапка, верх которой охватывала небольшая корона из золотых лилий, а козырек и отвороты были отделаны тем же мехом, что и камзол.
Едва только герцог Бургундский увидел принца, все опасения его тотчас рассеялись; он направился прямо к дофину, но, войдя в галерею, заметил, что, вопреки принятым обычаям, там нет посередине барьера, который разделял бы стороны, участвующие во встрече; однако, без сомнения, он счел это следствием простой забывчивости, ибо не сделал никакого замечания на этот счет. Когда вслед за герцогом вошли десять человек его свиты, засовы на дверях с обеих сторон галереи были тут же задвинуты.
В этом тесном помещении едва хватило места для того, чтобы запертые в нем двадцать четыре человека могли расположиться там даже стоя; бургундцы и французы стояли так плотно, что почти касались друг друга. Герцог снял берет и опустился перед дофином, встав на левое колено.
– Я явился по вашему приказанию, ваше высочество, – начал он, – хотя иные и уверяли меня, что вы желали нашей встречи лишь для того, чтобы высказать мне ваше недовольство; надеюсь, это не так, ваше высочество, ибо я не заслужил ваших упреков.
Дофин стоял, скрестив руки; он не поцеловал герцога и не поднял его с колен, как это было при их первой встрече.
– Вы ошибаетесь, господин герцог, – сурово возразил он. – Да, я собираюсь предъявить вам серьезные обвинения, ибо вы нарушили обещание, данное нам. Вы позволили англичанам захватить мой город Понтуаз, который является ключом к Парижу, и, вместо того, чтобы броситься в столицу и отстоять ее или умереть там, к чему вас обязывал долг верноподданного, вы бежали в Труа.
– Бежал, ваше высочество?! – воскликнул герцог, содрогнувшись от нанесенного ему оскорбления.
– Да, бежали, – повторил дофин, упирая на это слово. – Вы…
Герцог поднялся, считая, без сомнения, что он не обязан долее слушать; но пока, коленопреклоненный, он стоял перед дофином, одно из украшений его меча зацепилось за кольчугу, и, чтобы освободить меч, он взялся за его рукоять. Не поняв намерений герцога, дофин отпрянул назад.
– Ах, вот как! Вы хватаетесь за меч в присутствии своего государя?! – воскликнул Робер де Луар, бросившись между дофином и герцогом.
Герцог хотел было что-то сказать, но в это время Танги нагнулся, схватил спрятанную под обивкой секиру, накануне висевшую у него на поясе, выпрямился и, занеся оружие над головой герцога, произнес:
– Пора!
Видя, что ему грозит удар, герцог хотел отвести его левой рукой, а правой взялся за рукоять своего меча, но он не успел даже его обнажить: секира Танги обрушилась на него, одним ударом перерубив ему левую руку и раскроив его голову от скулы до самого подбородка.
Какое-то мгновение герцог еще продолжал стоять на ногах, словно могучий дуб, который никак не может рухнуть; тогда Робер де Луар вонзил ему в горло кинжал и так и оставил его там, не вынимая.
Герцог вскрикнул, взмахнул руками и упал, распростершись у ног де Жиака.
Тотчас же поднялся невероятный шум и завязалась жестокая схватка, ибо в этом тесном помещении, где и двоим едва хватило бы места для поединка, друг на друга ринулись два десятка человек. Какое-то время только руки, секиры и мечи мелькали над головами. Французы кричали: «Бей! Бей! Смерть им!» Бургундцы вопили: «Измена! Измена! Помогите!» Оружие, ударяя одно о другое, высекало искры, кровь струилась из ран. Дофин в страхе перегнулся через заграждение. На крики примчался президент Луве, подхватил дофина за плечи, вытащил его наружу и почти бесчувственного увел в город; светло-голубое платье принца было с головы до пят забрызгано кровью герцога Бургундского.
Между тем сир де Монтагю, входивший в свиту герцога, перелез через заграждение и стал звать на помощь. Де Ноай тоже хотел было выбраться наружу, но Нарбонн раскроил ему затылок; де Ноай вывалился из галереи и почти тотчас испустил дух. Сеньор де Сен-Жорж получил глубокую рану в правый бок от удара секирой, а сеньору д’Анк-ру отсекли руку.
Тем временем в галерее битва не стихала и крики не умолкали; тело умирающего герцога, которому никто и не помыслил прийти на помощь, топтали ногами. Вначале удача была на стороне приверженцев дофина, которые были лучше вооружены, но на крики сеньора де Монтагю к галерее прибежали Антуан де Тулонжон, Симон Отели-мер, Собретье и Жан д’Эрме, и, пока трое из них кололи мечами тех, кто находился внутри галереи, четвертый пытался сломать заграждение. Однако и к сторонникам дофина пришла помощь: это были люди, прятавшиеся в доме. Видя, что всякое сопротивление бесполезно, бургундцы обратились в бегство, воспользовавшись тем, что заграждение к этому времени было сломано. Сторонники дофина бросились их преследовать, и в опустевшей, залитой кровью галерее остались только три человека.
Это были: герцог Бургундский, распластанный на полу и умирающий; Пьер де Жиак, стоявший со скрещенными руками и наблюдавший за его агонией; и наконец, Оливье Лайе, который, тронутый страданиями несчастного герцога, приподнял его кольчужную рубашку и хотел прикончить его ударом меча. Но де Жиак не желал прекращать эту агонию, каждая конвульсия которой, казалось, доставляла ему наслаждение; поняв намерение Оливье, он сильным ударом ноги выбил меч у него из рук. Оливье удивленно поднял голову.








