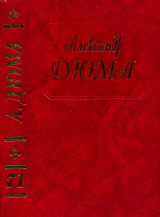
Текст книги "Путевые впечатления. В Швейцарии. Часть первая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Что вами движет – участие или любопытство? – спросил он. – Добры вы, или вам просто недостает скромности?
От этих слов у меня стеснило грудь:
– Дайте напоследок вашу руку, отец мой… и прощайте!..
И с этими словами я удалился.
– Послушайте! – крикнул он.
Я остановился. Он подошел ко мне:
– Никто не должен сказать, что мне была предложена возможность обрести утешение, а я отверг ее; что вы были приведены ко мне Богом, а я оттолкнул вас. Вы сделали для несчастного то, что никто не сделал для него в продолжение шести лет: вы подали ему руку. Благодарю вас!.. Вы сказали ему, что поверить свои горести – значит, смягчить их, и этим обязались выслушать его. Но теперь не вздумайте прерывать мой рассказ, не просите меня замолчать. Выслушайте до конца мое повествование, ибо тому, что уже так давно лежит у меня на сердце, нужен исход. А когда я умолкну, тут же уходите, не спросив моего имени и не сказав мне, кто вы такой, – это единственное, о чем я прошу вас.
Я дал ему требуемое обещание. Мы сели на разбитую могильную плиту одного из генералов ордена. Мой собеседник на мгновение опустил голову на руки, от этого движения его капюшон упал ему на спину, и, когда он распрямился, я смог свободно рассмотреть его. Передо мной был бородатый черноглазый молодой человек, ставший бледным и худым из-за своей аскетической жизни; однако, отняв у его лица юношескую красоту, такая жизнь придала ему особую значительность: это было лицо Гяура, каким я представлял его себе, читая поэму Байрона.
– Вам нет нужды знать, – начал он свой рассказ, – где я родился и где жил. Прошло семь лет после тех событий, о которых я собираюсь поведать вам; мне было тогда двадцать четыре года.
Я был богат, происходил из хорошей семьи и по окончании коллежа окунулся в водоворот света; я вступил в него с решимостью молодости, с горячей головой, с сердцем, обуреваемым страстями, и с уверенностью, что никто и ничто не устоит перед тем, кто обладает настойчивостью и золотом. Мои первые любовные похождения лишь укрепили меня в этом убеждении.
Ранней весной 1825 года поступило в продажу имение по соседству с имением моей матери; купил его генерал М…
Я встречался с генералом в обществе, когда он еще был холост. Он слыл серьезным, суровым человеком, которого увиденное им на полях сражений приучило с уважением относиться к мужчинам и ни во что не ставить женщин. Я подумал, что он женился на вдове какого-нибудь маршала, с которой можно будет вести беседы о битвах при Маренго или Аустерлице, и мысль о таком соседстве заранее забавляла меня.
Переехав в свое новое поместье, генерал нанес визит вежливости моей матери и представил ей свою жену: это было самое дивное создание, когда-либо жившее на свете.
Вы знаете общество, сударь, знаете его странную мораль, его правила чести, которые предписывают уважать имущество ближнего, доставляющее ему лишь удовольствие, и разрешают похитить у него жену, составляющую его счастье. Стоило мне увидеть госпожу М., как я тотчас забыл о мужественном характере ее мужа, о его пятидесяти годах, о воинской славе, которой он покрыл себя в те годы, когда мы все еще лежали в колыбелях, о двадцати ранах, которые он получил, когда мы еще сосали грудь своих кормилиц; я не подумал об отчаянии, ожидавшем его на старости лет, о позоре, которым я покрою остаток его дней, некогда столь блистательных. Я обо всем забыл, поглощенный одной-единственной мыслью – овладеть Каролиной.
Как я уже говорил, поместье моей матери и поместье генерала находились по соседству, что послужило предлогом для наших частых визитов; генерал выказывал мне дружеское расположение, а я, неблагодарный, видел в приязни этого старика лишь средство похитить у него сердце его жены.
Каролина была беременна, и генерал, казалось, больше гордился своим будущим наследником, чем всеми своими военными победами. Его любовь к жене приобрела нечто отеческое и особенно теплое. Что же касается Каролины, то она держалась с мужем так, как держится женщина, которую, хотя она и не дает счастья своему супругу, не в чем упрекнуть. Я подметил это душевное состояние госпожи М… с зоркостью человека, заинтересованного в том, чтобы уловить малейшие его оттенки, и уверился, что она не любит генерала. Между тем она принимала мои ухаживания учтиво, но холодно, что немало меня удивляло. Она не искала моего общества – следовательно, оно не доставляло ей никакого удовольствия, но и не избегала встреч со мной – следовательно, я не внушал ей опасения. Мои глаза, постоянно устремленные на нее, встречались с ее глазами лишь случайно, когда она отрывала взгляд от вышивания или от клавиатуры пианино; казалось, мой взор потерял ту чарующую силу, какую признавали за ним несколько дам, встреченных мною до знакомства с Каролиной.
Так прошло лето. Моя страсть переросла в подлинную любовь. Холодность Каролины я расценил как вызов и принял его со всей необузданностью своей натуры. Не отваживаясь признаться ей в любви, ибо она с недоверчивой улыбкой встречала все мои попытки заговорить с ней о своих чувствах, я решил написать ей. Однажды вечером я завернул свое письмо в вышивание Каролины, а когда она развернула его на следующее утро, чтобы вновь приняться за работу, стал наблюдать за ней, одновременно беседуя с генералом. Мне было видно, что она, не краснея, прочитала адрес на конверте и без видимого волнения положила записку к себе в карман. Лишь едва заметная улыбка промелькнула на ее губах.
Весь этот день Каролина явно выказывала намерение поговорить со мной, но я избегал оставаться с ней наедине. Вечером она вышивала в обществе нескольких дам, сидевших возле нее за рабочим столиком. Генерал читал газету, а я устроился в самом темном углу гостиной, откуда мог незаметно наблюдать за Каролиной. Она обвела гостиную взглядом и, найдя меня, окликнула:
«Не будете ли вы любезны, сударь, – обратилась она ко мне, – начертить для моего носового платка две готические буквы: К и М?»
«С удовольствием, сударыня».
«Но я хочу, чтобы вы сделали это сегодня же, не откладывая. Сядьте вот тут, рядом».
Она попросила отодвинуться одну из своих приятельниц и указала мне на освободившееся место. Я взял стул и сел подле нее.
Она протянула мне перо.
«Но у меня нет бумаги, сударыня».
«Вот, возьмите», – сказала она.
И она подала мне письмо в конверте. Я подумал, что это ответ на мое признание, как можно спокойнее вскрыл конверт и увидел в нем свою записку. Между тем Каролина встала и хотела выйти. Я окликнул ее.
«Сударыня, – сказал я, на виду у всех протягивая ей записку, – вы, не обратив на это внимание, дали мне письмо, адресованное вам. Мне не надо другой бумаги, кроме этого конверта, чтобы начертить вашу монограмму».
Госпожа М… увидела, что ее супруг оторвал взгляд от газеты; она поспешно подошла ко мне, взяла из моих рук записку, взглянула на нее и сказала равнодушно:
«Ах да, это письмо матушки».
Генерал снова углубился в газету «Французский курьер», а я принялся чертить требуемую монограмму Госпожа М… вышла.
Быть может, все эти подробности наскучили вам, сударь? – обратился ко мне монах, прерывая свое повествование. – Вы, верно, удивлены, слыша их из уст человека, который носит это одеяние и роет могилу; но, видите ли, сердце последним отрешается от земной жизни, а память последней покидает сердце.
– Все эти подробности правдивы, – ответил я, – а потому интересны. Продолжайте.
– На следующий день, в шесть часов утра, меня разбудил генерал; он был в охотничьем костюме и пришел предложить мне побродить вместе с ним по окрестности.
Вначале неожиданное появление генерала смутило меня, но он казался таким спокойным, а голос его настолько сохранил присущую ему доброжелательность и сердечность, что я вскоре успокоился. Я принял его предложение, и мы вышли из дому.
Беседа наша шла о том, о сем вплоть до той минуты, когда, готовясь начать охоту, мы остановились, чтобы зарядить ружья.
Пока мы занимались этим делом, он внимательно посматривал на меня. Его взгляд привел меня в смущение.
«О чем вы думаете, генерал?» – спросил я.
«Клянусь честью, – ответил он, – я думаю о том, что вы не в своем уме, если вздумали влюбиться в мою жену».
Нетрудно себе представить, какое впечатление произвели на меня эти слова.
«Я, генерал?!» – воскликнул я, окончательно растерявшись.
«Да, вы. Не станете же вы отрицать это?»
«Генерал, клянусь вам…»
«Не лгите, сударь; ложь недостойна порядочного человека, а вы, надеюсь, порядочный человек».
«Но кто вам сказал такое?..»
«Кто, черт возьми?! Вы спрашиваете, кто?.. Моя жена».
«Госпожа М…?»
«Уж не станете ли вы утверждать, будто она ошибается? Взгляните, вот письмо, которое вы написали ей не далее как вчера».
И он протянул мне листок бумаги, который я без труда узнал. Лоб мой покрылся испариной. Видя, что я не решаюсь взять письмо, он скатал его и вместо пыжа забил в ружье.
Покончив с этим делом, он положил руку мне на плечо.
«Скажите, правда ли все то, что вы здесь пишете? – спросил он. – Неужели ваши страдания так велики, как вы это изображаете? Неужели ваши дни и ночи стали настоящим адом? Скажите мне правду, на этот раз…»
«Я не имел бы ни малейшего оправдания, будь это иначе, генерал».
«В таком случае, мой мальчик, – продолжал он своим обычным тоном, – вам надо уехать, покинуть нас, отправиться в Италию или Германию и вернуться обратно, лишь когда вы совсем излечитесь».
Я протянул ему руку, и он дружески пожал ее.
«Итак, условились?» – спросил он.
«Да, генерал, завтра же я уеду».
«Мне нет нужды говорить, что если вам требуются деньги, рекомендательные письма…»
«Нет, благодарю».
«Послушайте, я предлагаю вам это по-отечески, не обижайтесь. Решительно не хотите? Ну что ж, тогда давайте охотиться и больше ни слова об этом».
Не успели мы сделать и десяти шагов, как перед нами взлетела куропатка; генерал выстрелил, и я увидел, как мое письмо дымит в люцерне.
Мы вернулись в замок к пяти часам; я хотел было расстаться с генералом прямо у дверей дома, но он настоял на том, чтобы я сопровождал его и дальше.
«Милые дамы, – сказал он, переступив порог гостиной, – этот юный красавец пришел проститься с вами: завтра он уезжает в Италию».
«Вы в самом деле покидаете нас?» – спросила Каролина, взглянув на меня поверх вышивания.
Ее глаза встретились с моими, она две-три секунды спокойно выдерживала мой взгляд, а затем снова принялась за работу.
Гости поговорили об этом столь неожиданном путешествии, о котором в предыдущие дни я не сказал ни слова, но никто не отгадал истинной причины моего внезапного отъезда.
За ужином госпожа М… потчевала меня с отменной любезностью.
Вечером я простился со всеми; генерал проводил меня до калитки парка. Не знаю, чего больше было в моем чувстве к этой женщине – ненависти или любви, когда я расстался с генералом.
Я пропутешествовал целый год, побывал в Неаполе, в Риме, Венеции и с удивлением начал замечать, что страсть, которую я полагал вечной, понемногу уходит из моего сердца. В конце концов, я стал расценивать ее как одну из интрижек, какими изобилует жизнь молодого человека: сначала о ней время от времени вспоминаешь, а затем она полностью изглаживается из памяти.
Я возвратился во Францию через перевал Мон-Сени. В Гренобле мы надумали вместе с одним молодым человеком, с которым я познакомился во Флоренции, осмотреть монастырь Ла-Гранд-Шартрёз. Посетив тогда впервые обитель, где я живу уже шесть лет, я сказал шутки ради Эмманюэлю (так звали моего нового приятеля), что непременно постригся бы, если бы знал об этом монастыре в ту пору, когда был безнадежно влюблен.
Приехав в Париж, я вновь обрел там свои старые знакомства. Моя жизнь как бы возобновилась с того места, где ее привычный ход был прерван моим знакомством с госпожой М… Мне даже стало казаться, что страсть, о которой я только что рассказал вам, была лишь сном. Произошла лишь одна перемена: моя мать, скучавшая без меня в деревне, продала наше поместье и купила особняк в Париже.
Там я и увиделся с генералом. Он сказал, что доволен мною, и предложил мне засвидетельствовать почтение госпоже М…; я охотно согласился, уверенный в своем равнодушии к ней. Тем не менее, войдя к ним в гостиную, я все же почувствовал легкое стеснение в груди. Однако госпожи М… не было дома. Волнение, испытанное мною, показалось мне таким пустяком, что я ничуть не встревожился.
Несколько дней спустя я отправился верхом в Булонский лес и за поворотом аллеи встретил генерала с женой. Попытка избежать их выглядела бы неестественной, да и, кроме того, почему я должен был опасаться встречи с госпожой М…?
Я подъехал к ним. Мне показалось, что Каролина стала еще красивее с тех пор, как мы расстались; в дни нашего знакомства только что наступившая беременность изнуряла ее, зато теперь она вновь обрела здоровый и цветущий вид.
Она заговорила со мной ласковее, чем прежде, и я почувствовал, когда она протянула мне руку, что ее пальчики дрогнули в моей руке; я затрепетал. Под моим взглядом она опустила глаза. Я придержал лошадь и поехал рядом с госпожой М…
Генерал пригласил меня в свое поместье, куда они с женой собирались поехать через несколько дней; он был особенно настойчив, зная, что у нас с матушкой теперь не было загородного дома. Я отказался. Каролина обернулась ко мне:
«Прошу вас, приезжайте!» – проговорила она.
Я никогда не слышал таких ноток у нее в голосе. Ничего не ответив, я погрузился в глубокую задумчивость: передо мной была другая женщина, не та, которую я видел год тому назад.
Затем она обратилась к мужу:
«Наш друг боится соскучиться в деревне, – сказала она, – предложите ему взять с собой одного или двух приятелей: быть может, это побудит его приехать к нам».
«Разумеется! – воскликнул генерал. – Он волен позвать с собой кого захочет. Вы слышали?» – спросил он меня.
«Благодарю вас, генерал, – ответил я, сам не очень хорошо понимая, что говорю, – но я обещал побывать у знакомых…»
«… которых вы предпочитаете нам, – промолвила Каролина. – Нельзя сказать, что это любезно с вашей стороны».
Она сопровождала эти слова одним из тех взглядов, ради которых год назад я отдал бы свою жизнь.
Я согласился.
В Париже я продолжал видеться с молодым человеком, с которым мы познакомились во Флоренции. Он как раз навестил меня накануне моего отъезда и спросил, к кому я собрался. У меня не было причины скрывать это от него.
«Как странно! – воскликнул он. – Мы чуть было не встретились там с вами!»
«Так вы знакомы с генералом?»
«Нет, но меня обещал представить ему один из моих друзей. К сожалению, он уехал в Нормандию получать наследство, оставшееся после смерти какого-то из его дядюшек. Это тем досаднее, что, раз вы едете в деревню, для меня было бы большим удовольствием провести там время вместе с вами».
Тут я вспомнил, что генерал предложил мне пригласить с собой кого-нибудь из друзей.
«Хотите, я введу вас в этот дом?» – спросил я Эмманюэля.
«Вы достаточно свободно там себя чувствуете для этого?»
«О да».
«В таком случае я согласен».
«Хорошо! Ждите меня завтра в восемь утра, я заеду за вами».
Мы приехали в замок генерала около часа дня. Дамы были в парке. Нам показали, в какую сторону они пошли, и вскоре мы присоединились к ним.
Мне показалось, что, заметив нас, госпожа М… побледнела. Она обратилась ко мне с волнением, в природе которого я не мог усомниться. Генерал встретил Эмманюэля весьма радушно, но его супруга отнеслась к новоприбывшему с явной холодностью.
«Вот видите, – сказала она мужу и чуть заметным движением бровей указала на Эмманюэля, стоявшего к нам спиной, – наш друг воспользовался вашим разрешением: без этого он так бы и не собрался к нам. Впрочем, я благодарна ему вдвойне».
И прежде, чем я нашел подходящий ответ, она повернулась ко мне спиной и заговорила с какой-то дамой.
Однако дурное настроение Каролины продлилось ровно столько, чтобы польстить мне, не успев меня опечалить; за столом я сидел рядом с хозяйкой дома и не заметил у нее ни малейших признаков прежнего недовольства. Она была обворожительна!
После кофе генерал пригласил всех погулять по парку; я подал руку Каролине, и она оперлась на нее. Во всем ее существе чувствовалась та томность, та нега, которую итальянцы называют morbidezza, но на нашем языке нет слова, способного выразить это понятие.
Что же касается меня, то я просто обезумел от счастья. Этой страсти, от которой мне пришлось излечиваться целый год, оказалось достаточно одного дня, чтобы вновь овладеть всей моей душой; никогда прежде я так сильно не любил Каролину.
Последующие дни не внесли никаких перемен в отношение ко мне госпожи М…; я заметил только, что она избегает оставаться со мной наедине, и увидел в этой осмотрительности доказательство ее слабости. Моя любовь еще больше усилилась, если только это было возможно.
Между тем какое-то дело потребовало отъезда генерала в Париж. Мне показалось, что, когда он сообщил это известие своей жене, в ее глазах блеснула радость, и я мысленно произнес:
«О, благодарю, благодарю тебя, Каролина! Отъезд мужа, верно, радует тебя потому, что дает тебе свободу! Да, в его отсутствие все часы, все минуты, все мгновения будут принадлежать лишь нам двоим».
Генерал уехал после ужина. Мы проводили его до конца аллеи. На обратном пути Каролина, по обыкновению, опиралась на мою руку; она едва держалась на ногах, дыхание ее было прерывистым, грудь вздымалась. Я заговорил с ней о моей любви, и она не оскорбилась; когда же ее губы запретили мне продолжать эти речи, глаза ее выражали истому, которая отнюдь не вязалась с только что произнесенными ею словами.
Вечер прошел для меня как во сне. Не знаю, какая игра шла за столом, знаю только, что я сидел рядом с Каролиной, что ее волосы то и дело касались моего лица, что моя рука раз двадцать встречала ее руку. Я горел, словно в лихорадке: по моим жилам, казалось, струился огонь.
Пора было расходиться; счастью моему недоставало лишь одного – услышать из уст Каролины слова, которые я много раз говорил ей мысленно: «Люблю, люблю тебя!..» Я вошел в свою спальню такой радостный, такой гордый, словно я король вселенной, ибо завтра, завтра, может быть, прекраснейший цветок творения, лучший алмаз человеческих россыпей будет принадлежать мне, мне!.. Все небесное блаженство, все земные радости заключались в этих словах.
Как безумный я повторял их, меряя шагами комнату. Мне недоставало воздуха.
Я лег, но заснуть не мог. Я вскочил, подошел к окну и распахнул его. Погода стояла чудесная, небо искрилось звездами, воздух был напоен ароматами, все вокруг было прекрасно и радостно, как у меня на душе, ибо все прекрасно в глазах человека, когда он счастлив.
Я подумал, что мирная природа, ночь, безмолвие успокоят меня; парк, в котором мы провели весь день, был тут, рядом… Можно было отыскать в аллеях следы ее маленьких ножек, ступавших возле моих; можно было поцеловать место на скамейке, где она сидела; я выбежал из дома.
Только два окна светились на широком фасаде замка – это были окна ее спальни. Я прислонился к дереву и устремил взгляд на освещенные изнутри занавески.
Я увидел ее тень: Каролина еще не ложилась, она бодрствовала, воспламененная, вероятно, как и я, любовными мечтами и желаниями… Каролина! Каролина!..
Она стояла неподвижно и, казалось, прислушивалась. Вдруг она метнулась к двери рядом с окном. Возле ее тени возникла другая тень, их головы сблизились, и свет погас; я вскрикнул и застыл на месте, с трудом переводя дух.
Я подумал, что мне это привиделось, что это был сон… Я не сводил глаз с темных занавесок, но мой взор не мог проникнуть сквозь них!..
Монах схватил меня за руку и до боли сжал ее.
– Ах, сударь, сударь, – проговорил он, – случалось ли вам ревновать?
– Вы убили их? – спросил я.
Он судорожно расхохотался, но смех этот прерывался рыданиями; вдруг он вскочил на ноги, заломил над головой руки и откинулся назад, испуская нечленораздельные крики.
Я поднялся с места и, обхватив монаха руками, воскликнул:
– Полно, полно, мужайтесь!..
– Я так любил эту женщину! Я готов был отдать ей мою жизнь до последнего вздоха, мою кровь до последней капли, мою душу до последней мысли! Она погубила меня и на этом свете, и на том, ведь, умирая, я буду думать о ней, вместо того чтобы думать о Боге.
– Отец мой!
– Да разве вы не понимаете, что я ничуть не изменился? Что прошло шесть лет с тех пор, как я заживо похоронил себя в этом склепе, надеясь, что обитающая здесь смерть убьет мою любовь, но не проходит и дня, чтобы я не катался по полу моей кельи, не проходит ночи, чтобы эта обитель не оглашалась моими воплями, и что сколько бы я ни умерщвлял плоть, телесные страдания не утишили этого неистовства моей души?!
Он распахнул рясу и показал мне свою грудь, израненную власяницей, которую он носил на голом теле.
– Взгляните сами, – добавил он.
– Так, значит, вы их убили? – повторил я свой вопрос.
– Я поступил много хуже… – ответил он. – Имелось лишь одно средство рассеять мои сомнения: хоть до рассвета, если понадобилось бы, простоять в коридоре, куда выходила дверь ее спальни, и посмотреть, кто выйдет оттуда.
Не помню, сколько времени я провел там: отчаяние и радость не знают счета времени. Небо на горизонте уже начало светлеть, когда дверь приотворилась и я услышал голос Каролины. Как бы тихо она ни говорила, я прекрасно разобрал ее слова:
«Прощай, Эмманюэль, прощай, любимый! До завтра!»
Дверь тут же захлопнулась, и Эмманюэль прошел мимо меня; не знаю, как он не услышал биения моего сердца… Эмманюэль!..
Я вошел в свою спальню и рухнул на пол, мысленно перебирая всевозможные средства мести и призывая для этого на помощь Сатану; уверен, что он внял моим мольбам. Я составил план действий и после этого немного успокоился. Наутро я спустился к завтраку. Каролина стояла в коридоре перед зеркалом и вплетала в прическу веточку жимолости; я подошел к ней сзади, и она внезапно увидела мое отражение над своей головой; очевидно, я был очень бледен, ибо она вздрогнула и обернулась.
«Что с вами?» – спросила она.
«Ничего, сударыня, просто я плохо спал».
«И какова же причина вашей бессонницы?» – с улыбкой осведомилась она.
«Письмо, которое я получил вчера вечером, после того как расстался с вами. Мне придется срочно ехать в Париж».
«Надолго?»
«На один день».
«Один день быстро пройдет».
«Бывает, что день тянется как год, а иной раз пролетает, словно час».
«К которой же из этих двух категорий следует, по-вашему, отнести вчерашний день?»
«К категории счастливых дней. Такие дни бывают лишь раз в жизни, сударыня, ибо счастье, достигнув своего предела и не имея возможности увеличиваться, идет лишь на убыль. Когда в древности люди доходили до этого состояния, они бросали в море какую-нибудь драгоценность, чтобы заклясть злых духов. Пожалуй, вчера вечером мне следовало поступить точно так же».
«Какой же вы еще ребенок», – произнесла она и оперлась на мою руку, чтобы войти в обеденный зал.
Напрасно я искал глазами Эмманюэля – его нигде не было. Как оказалось, он уехал с раннего утра на охоту. О! Они приняли все меры, чтобы никто не перехватил даже их нежных взглядов.
После завтрака я попросил у Каролины адрес ее нотного магазина, сказав, что мне необходимо купить несколько романсов. Она написала его на клочке бумаги и подала мне. Ничего другого мне не требовалось.
Я велел оседлать свою лошадь, а не запрягать тильбюри: мне надо было торопиться.
Каролина вышла на крыльцо, чтобы посмотреть, как я буду уезжать; пока она могла меня видеть, я ехал шагом, но за первым же поворотом пустил коня во весь опор и проделал десять льё за два часа.
В Париже я побывал у банкира моей матери и взял у него тридцать тысяч франков, после чего отправился к Эмманюэлю. Я вызвал его камердинера и, затворив дверь комнаты, где мы были одни, сказал ему:
«Том, хочешь получить двадцать тысяч франков?»
Том выпучил глаза.
«Двадцать тысяч франков?» – переспросил он.
«Да, двадцать тысяч франков».
«Хочу ли я получить их?.. Понятно, хочу!..»
«Быть может, я ошибаюсь, – продолжал я, – но мне кажется, что даже за половину этой суммы ты согласишься на поступок много хуже того, о котором я хочу тебя попросить».
Том улыбнулся.
«Вы не слишком лестного мнения обо мне, сударь», – сказал он.
«Да, ибо я знаю тебя».
«Если так, говорите».
«Слушай».
Я вынул из кармана клочок бумаги с адресом, данным мне Каролиной, и показал ему:
«Скажи, твой господин получает письма, написанные этим почерком?»
«Да, сударь».
«Где он их хранит?»
«В своем секретере».
«Мне нужны все эти письма. Вот тебе аванс – пять тысяч франков. Я дам тебе остальные пятнадцать тысяч, когда ты принесешь мне все письма до единого».
«Где вы будете ждать меня, сударь?»
«У себя дома».
Час спустя Том явился ко мне.
«Вот, возьмите, сударь», – сказал он, протягивая мне связку писем.
Я взглянул на почерк – все письма были написаны одной и той же рукой… Я вручил ему пятнадцать тысяч франков. Он ушел, и я заперся у себя в комнате. За эти письма я только что отдал золото, однако теперь готов был отдать свою кровь, чтобы они были адресованы мне.
Эмманюэль уже два года был любовником Каролины. Он знал ее еще девушкой; когда она вышла замуж, он уехал, но ребенка, которым господин М… так гордился, он называл своим. С тех пор ему не удавалось видеться с ней, так как некому было представить его генералу. Но однажды – об этом уже шла речь – я встретил генерала с женой в Булонском лесу, и выбор госпожи М… и ее любовника пал на меня: я должен был служить им ширмой. Мне вменялось в обязанность ввести Эмманюэля в дом генерала, а внимание, любезность и даже нежность, проявленные Каролиной по отношению ко мне, служили для того, чтобы отвести глаза ее мужа: после признания, некогда сделанного ему женой, генерал не должен был, да и не мог меня опасаться. Как видите, они ловко повели свою игру, а я попался на удочку и оказался круглым дураком!.. Но теперь настал мой черед!
Я написал следующие строки Каролине:
«Сударыня, вчера, в одиннадцать часов вечера, я был в саду, когда Эмманюэлъ входил к Вам в спальню, и видел, как он туда вошел. Сегодня утром, в четыре часа, я был в коридоре, когда он выходил из Вашей спальни, и видел, как он оттуда вышел. Час назад я купил у Тома за двадцать тысяч франков всю Вашу переписку с его господином».
Генерал должен был вернуться в замок лишь дня через два-три, и, следовательно, я мог быть спокоен, что эта записка не попадет в его руки.
На следующий день, в одиннадцать часов, ко мне в спальню вошел Эмманюэль; он был бледен, а одежда его была покрыта пылью. Он застал меня в постели, в которую я бросился накануне, не раздеваясь. За всю ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. Он подошел ко мне.
«Вы, без сомнения, знаете, что привело меня к вам?» – спросил он.
«Догадываюсь, сударь».
«У вас находятся адресованные мне письма?»
«Да, сударь».
«Вы мне их вернете?!»
«Нет, сударь».
«Что вы намерены делать с ними?»
«Это моя тайна».
«Вы отказываетесь их отдать?»
«Отказываюсь».
«Не заставляйте меня сказать вам, кто вы такой!» «Вчера я был шпионом, сегодня стал вором. Я сказал себе это сам, еще до вас».
«А что, если я повторю ваши слова?»
«Вы слишком тактичны, чтобы сделать это».
«Значит, вы и без этого дадите мне удовлетворение?» «Разумеется».
«Сию минуту?»
«Да, сию минуту».
«Но предупреждаю, это будет беспощадная дуэль, дуэль не на жизнь, а на смерть».
«В таком случае разрешите мне сделать последние распоряжения. Это не займет много времени».
Я позвонил. Вошел мой камердинер; он был человек испытанный, и я мог на него положиться.
«Жозеф, – сказал я ему, – я намереваюсь драться на дуэли вот с этим господином, и, возможно, он убьет меня».
Я подошел к секретеру и открыл его.
«Как только вы узнаете, что я убит, – продолжал я, – вы тотчас возьмете эти письма и отнесете их генералу М…
А десять тысяч франков, которые лежат в том же ящике, возьмете себе. Вот ключ».
Я запер секретер и передал ключ Жозефу. Он поклонился и вышел. Я повернулся к Эмманюэлю и промолвил:
«Теперь я в вашем распоряжении».
Эмманюэль побледнел как мертвец, а волосы его стали мокры от пота.
«Вы поступаете бесчестно!» – воскликнул он.
«Знаю».
Он подошел ко мне.
«Ну, а если я буду убит, вы отдадите эти письма Каролине?»
«Это будет зависеть от нее».
«Что же она должна сделать, чтобы получить их обратно? Говорите…»
«Она должна прийти за ними».
«К вам, сюда?»
«Да, сюда».
«Со мной?»
«Нет, одна».
«Этого никогда не будет».
«Не ручайтесь за нее».
«Она не согласится».
«Вполне возможно. Возвращайтесь в замок и посоветуйтесь с ней. Я даю вам три дня сроку».
Он на мгновение задумался и бросился вон из комнаты.
На третий день Жозеф доложил мне, что женщина, лицо которой закрыто вуалью, хочет поговорить со мной с глазу на глаз. Я велел впустить ее: это была Каролина. Я указал ей на кресло, она села, а сам я остался стоять перед ней.
«Как видите, сударь, – сказала она, – я пришла».
«С вашей стороны было бы весьма неблагоразумно поступить иначе».
«Я пришла, полагаясь на вашу деликатность».
«В этом отношении вы ошибаетесь, сударыня».
«Так вы не вернете мне эти злосчастные письма?»
«Верну, но при одном условии…»
«Каком?»
«О, вы прекрасно это понимаете».
Откинувшись назад в порыве отчаяния, она спрятала голову в складках занавески на моем окне: по моему тону ей стало понятно, что я буду неумолим.
«Послушайте, сударыня, – продолжал я, – мы вели с вами странную игру: кто кого перехитрит, кто кого проведет; я эту партию выиграл, сумейте же примириться с проигрышем».
Она зарыдала, ломая руки.
«Ваше отчаяние и ваши слезы ни к чему, сударыня; вы взялись иссушить мое сердце и преуспели в этом».
«А если я поклянусь перед алтарем, – спросила она, – что никогда больше не увижу Эмманюэля?»
«Разве вы не клялись перед алтарем хранить верность генералу?»
«Неужели вы не хотите ничего, ничего другого за эти письма?.. И вас ничто не удовлетворит, ни золото, ни кровь?!.. Скажите…»
«Ничто!»
Она отбросила занавеску, скрывавшую ее лицо, и взглянула на меня. Это бледное лицо с блестящими от гнева глазами под короной растрепанных волос было прекрасно на фоне красной драпировки.
«О, – процедила она сквозь стиснутые зубы. – О сударь, ваше поведение ужасно!»
«А что вы скажете о своем поведении, сударыня?.. Я потратил год на то, чтобы побороть свою любовь, и добился этого. Я вернулся во Францию, преисполненный чувством глубокого уважения к вам. Я больше не вспоминал о своих прошлых муках и ничего иного не хотел, как обрести другую любовь. Но тут я встречаю вас: теперь уже не я, а вы идете мне навстречу! Вы ворошите пепел моего сердца, вы раздуваете погасший было костер. А когда он снова разгорается, когда вы убеждаетесь в этом по звуку моего голоса, по моим глазам, по всему… вы решаете воспользоваться моей любовью и заставить ее служить вам… Как? А очень просто – я должен привести в ваши объятия человека, которого вы любите, и спрятать за моей спиной ваши преступные поцелуи. И я в своей слепоте сделал все это! Но и вы были слепы, вы не подумали, что стоит мне сорвать с вас маску, и весь свет увидит вас!.. А теперь вам решать, сударыня, поступлю ли я так».








