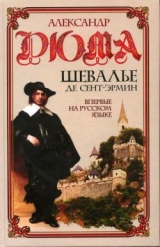
Текст книги "Шевалье де Сент-Эрмин. Том 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
– Пусть будет так! – ответил Жорж, поклонившись. – По крайней мере, я буду раздавлен, не отступив от веры моих предков, и, может быть, Господь простит мне мои заблуждения, ошибки, совершенные ревностным христианином и набожным чадом.
Бонапарт положил руку на плечо молодого вождя шуанов.
– Хорошо, – сказал он ему, – но, по крайней мере, сохраняйте нейтралитет. Не вмешивайтесь в ход событий, пусть троны колеблются, короны падают. Как правило, представление оплачивают зрители, но вам заплачу я, чтобы вы смотрели на меня.
– И сколько же вы дадите мне за это, гражданин первый консул? – поинтересовался Кадудаль.
– Сто тысяч франков, сударь, – отвечал Бонапарт.
– Если вы предлагаете сто тысяч в год простому командиру партизан, сколько же вы предложили принцу, за которого он сражался?
– Ничего, сударь, – свысока ответил Бонапарт. – Вам я плачу за храбрость, а не за принципы, которыми вы руководствуетесь. Я хочу доказать вам, что для меня, который сам себя сделал, существуют только те люди, которые сами чего-то добились. Соглашайтесь, Жорж, прошу вас.
– А если я откажусь? – спросил Жорж.
– Вы будете не правы.
– Буду ли я по-прежнему свободен уехать отсюда, куда захочу?
Бонапарт подошел к двери и позвал:
– Дюрок!
Дюрок появился на пороге.
– Проследите, – сказал Бонапарт, – чтобы господин Кадудаль и два сопровождающих его офицера могли беспрепятственно перемещаться в Париже и чтобы им причиняли беспокойства не больше, чем если бы они находились в своем лагере в Музийаке. Фуше получил приказ выдать им, если они пожелают, паспорта в любую другую страну.
– Вашего слова мне достаточно, гражданин первый консул, – сказал Кадудаль с поклоном. – Сегодня вечером я уезжаю.
– Могу я узнать, куда?
– В Лондон, генерал.
– Тем лучше.
– Тем лучше?
– Да, потому что вы вблизи увидите людей, за которых сражались…
– И?..
– И вы сможете сравнить их с теми, против кого вы сражались. Но предупреждаю вас, полковник, покинув Францию…
Бонапарт замолчал.
– Я жду продолжения! – напомнил Кадудаль.
– Не возвращайтесь, не предупредив меня, в противном случае к вам будут относиться как к врагу.
– Это будет честь для меня, генерал, потому что этим вы подтвердите, что меня стоит бояться.
Жорж поклонился первому консулу и вышел. На следующий день в газетах можно было прочесть:
«После аудиенции, которую Жорж Кадудаль получил у первого консула, он попросил разрешения беспрепятственно выехать в Англию.
Такое разрешение было ему дано при условии, что он вернется во Францию лишь с разрешения правительства.
Жорж Кадудаль пообещал освободить от данного ему слова всех офицеров-мятежников, которые считали себя на его службе и которых он освобождает от нее фактом своей капитуляции [39]39
Эта газетная заметка, скорее всего, выдумана А. Дюма.
[Закрыть] ».
В самом деле, вечером того же дня, когда состоялась аудиенция у первого консула, Жорж написал письма бывшим соратникам во все концы страны:
«Я считаю, что продолжение войны принесет Франции новые несчастья и разруху. Поэтому я освобождаю вас от данной мне клятвы, которой я вновь потребую лишь в том случае, если французское правительство нарушит обязательства, данные мне и касающиеся как меня, так и вас.
Если под видом мирного договора скрывалось предательство, я вновь буду должен положиться на вашу верность, и я уверен, что смогу это сделать.
Жорж Кадудаль».
Имя каждого офицера шуанов было написано рукой Кадудаля, так же как и само письмо.
IX
ДВА БОЕВЫХ ТОВАРИЩА
В то время как в салоне Людовика XIV проходила эта знаменательная встреча, Жозефина, уверенная в том, что Бурьен один, накинула пеньюар, вытерла покрасневшие глаза, припудрилась, сунула изящные креольские ножки в расшитые золотом турецкие шлепанцы из небесно-голубого бархата и быстро поднялась по небольшой лестнице, которая вела из ее спальни в молельню Марии Медичи.
Подойдя к двери кабинета, она остановилась, прижав руки к груди и сдерживая биение сердца. Осмотревшись вокруг и убедившись, что Бурьен в самом деле один, пишет, сидя спиной к двери, она неслышно подошла и дотронулась до его плеча. Бурьен обернулся, улыбаясь, по легкости прикосновения узнав ту, что стояла у него за спиной.
– Скажите же мне, сильно ли он рассердился? – спросила Жозефина.
– Должен признаться, – отвечал Бурьен, – что едва не разразилась настоящая гроза. Гром гремел, молнии сверкали, только дождя не было.
– Ну так он будет платить? – осведомилась она о том, что интересовало ее больше всего.
– Да.
– И вы получили шестьсот тысяч франков?
– Получил, – сказал Бурьен.
Жозефина захлопала в ладоши, словно ребенок, избавленный от наказания.
– Но, – добавил Бурьен, – ради всего святого, не делайте больше долгов или, уж если делаете, пусть это будет в разумных границах.
– Что вы имеете в виду, Бурьен? – спросила Жозефина.
– Только то, что лучше было бы вовсе не делать долгов.
– Но вы же знаете, что это совершенно невозможно, – убежденно отвечала Жозефина.
– Делайте долгов на пятьдесят, на сто тысяч франков.
– Но, Бурьен, ведь у вас теперь есть шестьсот тысяч, и когда теперешние долги будут оплачены…
– Что же тогда?
– О, тогда поставщики вновь откроют мне кредит!
– А как же он?
– Кто?
– Первый консул! Он поклялся, что оплачивает ваши долги в последний раз.
– Бурьен, в прошлом году он говорил то же самое, – заметила Жозефина с прелестной улыбкой.
Бурьен ошеломленно уставился на нее.
– Сударыня, – сказал он, – вы меня пугаете. Еще два или три года мирной жизни, и те несколько жалких миллионов, которые мы привезли из Италии, исчезнут. Сейчас же я бы хотел дать вам один совет. Если возможно, не встречайтесь с консулом, пока его плохое настроение хоть немного не улучшится.
– Ах, Боже мой! – воскликнула Жозефина. – Нужно, чтобы оно улучшилось как можно скорее! Сегодня утром ко мне приглашена моя соотечественница из колоний, подруга нашей семьи графиня де Сурди с дочерью. Ни за что на свете я бы не хотела, чтобы у него случился припадок ярости в присутствии этих дам. Я уже встречалась с ними в свете, но в Тюильри они приглашены впервые.
– Что я получу, если сумею удержать его здесь, если он позавтракает в кабинете и спустится к вам не раньше обеда?
– Все, что хотите, Бурьен!
– Тогда возьмите перо, бумагу и напишите вашим прелестным почерком…
– Что именно?
– Итак, пишите!
Жозефина ожидала с пером в руке.
– Я поручаю Бурьену оплатить все мои счета за 1800 год, внеся половину или три четверти задатка, когда он сочтет нужным.
– Готово.
– Поставьте число.
– Девятнадцатое февраля 1801 года.
– Подпишите.
– Жозефина Бонапарт… Теперь все в порядке?
– В совершенном. А теперь спускайтесь к себе, одевайтесь и принимайте подругу. Первый консул вас не побеспокоит.
– Бурьен, вы очаровательны.
И она подала ему кончик пальца для поцелуя.
Бурьен почтительно поцеловал ноготок, похожий на коготь, и позвонил дежурному офицеру, который тут же появился на пороге кабинета.
– Ландуар, – обратился к нему Бурьен, – скажите дворецкому, что первый консул будет завтракать в своем кабинете. Пусть принесут столик с двумя приборами. Я скажу, когда подавать.
– Бурьен, скажите мне, кто завтракает с первым консулом? – спросила Жозефина.
– Не все ли вам равно, лишь бы этот человек был способен поднять ему настроение?
– Но кто же это?
– Сударыня, вы предпочитаете, чтобы первый консул позавтракал в вашем обществе?
– Нет, нет, Бурьен! – вскричала Жозефина. – Пусть завтракает с кем хочет и спускается ко мне не раньше обеда!
И она убежала, словно промелькнуло облачко. Бурьен остался один.
Через десять минут дверь парадной спальни отворилась, первый консул вернулся в кабинет. Он подошел к Бурьену и сжатыми в кулаки руками оперся о письменный стол своего секретаря.
– Итак, Бурьен, я только что разговаривал с этим знаменитым Жоржем.
– И какое он на вас произвел впечатление?
– Бретонец из бретонцев, из того же гранита, что их долмены и менгиры. Или я сильно ошибаюсь, или мы с ним еще встретимся. Это человек, который ничего не боится и ничего не желает. Такие люди ужасны, Бурьен.
– К счастью, они встречаются редко, – рассмеялся Бурьен. – Вы знаете это лучше других, ведь вы видали немало тростинок покрепче железа.
– Кстати, о тростинках, о тех, что колеблются от каждого дуновения, ты говорил с Жозефиной?
– Она только что вышла отсюда.
– Она довольна?
– У нее Монмартр с плеч свалился.
– Почему же она меня не дождалась?
– Она боялась, что вы будете ее бранить.
– Разумеется, и она прекрасно знает, что этого ей не избежать.
– Да, но с вами выиграть время – значит переждать грозу. Кроме того, сегодня утром в одиннадцать часов она принимает у себя подругу.
– Кого именно?
– Какую-то креолку с Мартиники.
– Как ее зовут?
– Графиня де Сурди.
– Кто эти Сурди? Известное имя?
– Вы меня об этом спрашиваете?
– Конечно, разве ты не знаешь назубок всю французскую аристократию?
– Я могу сказать, что это семья, послужившая стране и крестом, и шпагой, корни ее восходят к XIV веку. Если я не ошибаюсь, в походе французов против Неаполя принимал участие граф де Сурди, проявивший чудеса доблести в битве при Гарильяно.
– Так удачно проигранной рыцарем Баярдом.
– А что вы думаете об этом рыцаре без страха и упрека?
– Он заслужил свое прозвище и умер так, как должен мечтать умереть любой солдат. Но я не высоко ценю этих рубак, они были никудышными полководцами. Франциск I в Павии поступил как идиот, а при Мариньяно ему не хватило решительности. Но вернемся к твоим Сурди.
– Далее… При Генрихе IV была аббатисса де Сурди, на ее руках умерла Габриель. Она была связана с семьей д'Эстре. Есть еще граф де Сурди, он командовал кавалерийским полком при Людовике XV и отличился при Фонтенуа. С того времени их след во Франции затерялся. Скорее всего, они уехали в Америку. В Париже на площади Сен-Жермен-л'Оксерруа остался старый особняк Сурди. Есть еще улочка Сурди, соединяющая улицу д'Анжу в Марэ, и тупик Сурди на улице Фоссе-Сен-Жермен-л'Оксерруа. Если не ошибаюсь, эта графиня де Сурди, которая, кстати, говорят, очень богата, купила на набережной Вольтера прекрасный особняк, который выходит на улицу де Бурбон [40]40
Улица де Бурбон – старое название Лилльской улицы (1792 г.), идущей параллельно набережной Вольтера. Особняк г-жи де Пермон, таким образом, соответствует дому № 1 по набережной Вольтера, то есть бывшему особняку Тессе, а дом, в котором жила мать будущей г-жи д'Абрантес, находился на улице Сент-Круа.
[Закрыть]. Его видно из окон Марсанского павильона.
– Отлично. Я люблю, когда на свой вопрос получаю такой ответ. Мне кажется, что вся история Сурди попахивает Сен-Жерменским предместьем.
– Не очень. Они близкие родственники доктора Кабаниса, который, как вам известно, в политике придерживается наших убеждений. Кроме того, он крестный дочери де Сурди.
– А, ну, это не многим меняет дело. Все эти сен-жерменские вдовушки – неподходящее общество для Жозефины.
Он обернулся и увидел столик.
– Разве я собирался завтракать тут? – спросил он.
– Нет, – отвечал Бурьен, – но я подумал, что сегодня будет лучше, если вы позавтракаете в кабинете.
– А кто оказывает честь разделить со мной завтрак?
– Тот, кого я пригласил.
– Учитывая мое теперешнее настроение, вы должны быть совершенно уверены, что гость будет мне приятен.
– Я совершенно в этом уверен.
– И кто же это?
– Человек, который прибыл издалека и явился, когда вы принимали Жоржа.
– У меня сегодня больше нет аудиенций.
– Этому человеку аудиенция не назначена.
– Но вам прекрасно известно, что я никого не принимаю без письма.
– Этого человека вы примете.
Бурьен встал, прошел в комнату дежурных офицеров и сказал:
– Первый консул вернулся.
При этих словах в кабинет ринулся молодой человек, которому на вид можно было дать лет двадцать пять – двадцать шесть. Несмотря на свою молодость, он был в генеральском мундире.
– Жюно! – радостно воскликнул Бонапарт. – Ах, черт возьми, Бурьен, ты был прав, когда сказал, что этому человеку не нужно рекомендательного письма! Подойди же, Жюно, подойди!
Молодой генерал хотел поцеловать руку первому консулу, но тот обнял его и прижал к груди. Из молодых офицеров, обязанных ему своей карьерой, Бонапарт больше всех любил Жюно. Они познакомились при осаде Тулона.
Бонапарт командовал батареей санкюлотов. Ему понадобился писарь с хорошим почерком, и Жюно вышел из строя и назвал себя.
– Сядь там, – приказал Бонапарт, указывая на левый бруствер, – и пиши под мою диктовку.
Жюно повиновался. В ту минуту, когда письмо было написано, в десяти шагах разорвалась английская бомба, с ног до головы засыпав их землей.
– Отлично! – со смехом воскликнул Жюно. – Как раз вовремя, у нас ведь нет песка, чтобы присыпать бумагу.
Эти слова решили его дальнейшую судьбу.
– Хочешь остаться при мне? – спросил Бонапарт.
– С удовольствием, – ответил Жюно.
Эти два человека сразу разгадали друг друга.
Когда Бонапарт был назначен генералом, Жюно стал его адъютантом.
Когда Бонапарт ушел в отставку, молодые люди делили нищету и жили вдвоем на те двести-триста франков в месяц, что Жюно получал из дома.
После 13 вандемьера у Бонапарта появились еще два адъютанта, Мюирон и Мармон, но Жюно по-прежнему был его любимцем. Во время египетского похода Жюно уже был генералом. К его великому сожалению, ему пришлось расстаться с Бонапартом. В битве при Фули он проявил чудеса храбрости и выстрелом из пистолета убил командующего неприятельской армией. Покидая Египет, Бонапарт написал ему:
«Мой дорогой Жюно, я покидаю Египет. Ты сейчас слишком далеко от того места, где мы садимся на корабль, и я не могу взять тебя с собой. Но я оставил Клеберу приказ отправить тебя с октябрьским рейсом. И где бы и в каком положении я ни находился, будь уверен, что я предоставлю тебе убедительные доказательства моих дружеских чувств к тебе. Будь здоров.
С самыми дружескими чувствами,
Бонапарт» [41]41
Письмо приводится в «Мемуарах герцогини д'Абрантес, или Исторических воспоминаниях о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и Реставрации», Париж, L Маше, 1835. T. II, гл. I, с. 9.
[Закрыть].
Скверное пассажирское судно, на котором Жюно возвращался во Францию, попало в руки англичан, и с тех пор Бонапарт не имел никаких известий о своем адъютанте. Неудивительно поэтому, что его внезапное появление доставило первому консулу столько радости.
– А, вот наконец и ты! – воскликнул консул, увидев Жюно. – Стало быть, ты оказался так глуп, что позволил англичанам взять тебя в плен?.. Но почему же ты на пять месяцев задержался с выездом? Ведь я тебе говорил, чтобы ты уезжал как можно быстрее!
– Черт возьми, да потому что меня задержал Клебер! Вы даже представить себе не можете, сколько он мне причинил неудобств.
– Вероятно, он опасался, как бы возле меня не собралось слишком много друзей. Я знал, что он не любит меня, но даже не предполагал, что он пустится на такие низости, выказывая свою неприязнь. А ты знаешь о его письме правительству Директории [42]42
Письмо приводится в: Бурьен.Указ. соч. T. IV. С. 401–406.
[Закрыть]? Впрочем, – добавил Бонапарт, возводя глаза к небу, – его трагический конец закрыл все наши счеты. Мы, и я, и Франция, понесли огромную потерю. Но поистине невосполнимая потеря – это Дезе. Ах, Дезе! Это еще одно из тех несчастий, что обрушились на мою родину.
Некоторое время Бонапарт прохаживался молча, совершенно погрузившись в печальные мысли. Вдруг, остановившись перед Жюно, он спросил его:
– Ну, и что ты теперь собираешься делать? Я всегда говорил, что докажу тебе свою дружбу, когда буду в состоянии сделать это. Каковы твои планы? Ты хочешь служить?
И, благодушно взглянув на него снизу вверх, продолжал:
– Хочешь, я оправлю тебя в Рейнскую армию?
Щеки Жюно залились краской.
– Вы уже хотите избавиться от меня? – спросил он и, помолчав, добавил: – Впрочем, если вы прикажете, я докажу генералу Моро, что в Египте офицеры Итальянской армии не разучились воевать.
– Ладно, ладно, – рассмеялся первый консул. – Вижу, что ты и разозлился. Нет, господин Жюно, нет, вы меня не покидаете. Я очень люблю генерала Моро, но не настолько, чтобы дарить ему моих лучших друзей.
Посерьезнев и нахмурившись, он продолжал:
– Жюно, я назначу тебя командующим парижским гарнизоном. Это место для человека, которому я могу полностью доверять, особенно сейчас, и я не мог бы сделать лучший выбор. Но, – он оглянулся, словно опасался быть услышанным, – ты должен хорошенько подумать, прежде чем согласиться. Ты должен постареть на десять лет, потому что командующий парижским гарнизоном – это особо приближенный ко мне человек. Кроме того, этот человек должен быть необыкновенно осторожен и особо заботиться о моей безопасности.
– О, генерал, – воскликнул Жюно, – что касается этого…
– Замолчи или говори тише, – сказал ему Бонапарт. – Да, о моей безопасности нужно заботиться. Я окружен опасностями. Если бы я по-прежнему был генералом Бонапартом, прозябающим в Париже, до и даже после 13 вандемьера, я бы и пальцем не пошевельнул, чтобы избежать их. Тогда моя жизнь принадлежала только мне, и я ценил ее не больше того, что она стоила, то есть невысоко. Теперь я уже не принадлежу себе. Жюно, только другу я могу сказать – мне открылось мое предназначение, моя судьба связана с судьбой великой нации. Именно поэтому моя жизнь под угрозой. Силы, которые хотят захватить и поделить между собой Францию, не желают, чтобы я стоял у них на пути.
Он задумался и провел рукой по лицу, словно отгоняя какую-то неотвязную мысль. Затем, по обыкновению стремительно переходя от одного предмета к другому, что позволяло ему за несколько минут обсудить двадцать различных вопросов, продолжал:
– Итак, я назначаю тебя командующим парижским гарнизоном. Но ты должен жениться. Этого требует не только тот высокий пост, который ты теперь будешь занимать, но это и в твоих интересах. Кстати, будь осторожен, женись только на богатой.
– Да, но она должна мнё нравиться. Что же делать? Все богатые наследницы уродливы, как гусеницы.
– Ну, так принимайся за дело сегодня же, потому что с сегодняшнего дня ты – комендант Парижа. Найди подходящий дом, недалеко от Тюильри, чтобы я мог за тобой послать, когда ты понадобишься. Присмотрись к окружению Жозефины и Гортензии. Я бы предложил тебе Гортензию, но она, кажется, влюблена в Дюрока, а я бы не хотел принуждать ее к другому выбору.
– Кушать подано! – провозгласил дворецкий, внося поднос с завтраком.
– Пойдем же за стол, – сказал Бонапарт, – и чтобы через неделю дом был снят и женщина выбрана!
– Генерал, – ответил Жюно, – на выбор дома мне хватит недели, но на поиск женщины я прошу две.
– Согласен, – ответил Бонапарт.
X
ДВЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВКИ
В ту самую минуту, когда боевые товарищи садились за стол, г-же Бонапарт доложили о визите графини де Сурди и ее дочери, м-ль Клер де Сурди.
Дамы расцеловались, образовав посреди гостиной очаровательную группу, и задали друг другу ту тысячу вопросов о здоровье и погоде, которые принято задавать в высшем свете. Г-жа Бонапарт усадила графиню на кушетку рядом с собой, Гортензия увела Клер, оказавшуюся почти одних с ней лет, чтобы показать ей дворец, в котором та никогда не бывала прежде.
Девушки составляли очаровательную противоположность друг другу. Гортензия была свежей, как цветок, блондинкой, с кожей бархатной, как персик. Ее золотые волосы, если их распустить, падали ниже колен. Руки и ноги у нее были довольно худы, как у любой юной девушки, ожидающей, чтобы расцвести, последнего прикосновения природы. Французская живость сочеталась в ней с креольской morbidezza [43]43
Мягкость (итал.).
[Закрыть]. Ее прелестный облик дополняли голубые глаза, смотревшие с бесконечной нежностью.
Ее спутница ни в чем не уступала ей ни в изяществе, ни в красоте. В ней была та же грация, что и в Гортензии, обе были креолками, но красота ее была иного свойства. Клер была выше своей новой подруги, ее кожа была того матового оттенка, каким природа наделяет южных красавиц, к которым особенно благоволит. У нее были ярко-синие глаза, черные, как смоль, волосы, талия, которую можно было обхватить двумя пальцами, и маленькие, как у ребенка, руки и ноги.
Обе они получили превосходное воспитание. Гортензия была вынуждена прервать свое образование ради обучения ремеслу, но после освобождения своей матери из тюрьмы [44]44
Жозефина была заключена в тюрьму Кармелитов с 21 апреля 1794 г. по 6 августа 1794 г. (см. «Белые и синие», «Тринадцатое вандемьера», гл. XXIV: «В самом деле, я не прав, – сказал Евгений, – пока наша мать была в тюрьме, я добывал пропитание плотницким ремеслом, а сестра училась у белошвейки, где ее держали из жалости»). Однако в «Мемуарах», гл. I, королева пишет, что всем детям из благородных семейств было приказано «обучиться ремеслу» и что ее брат выбрал «ремесло плотника» и «каждое утро брал урок у плотника, яростного якобинца, который похвалялся, что 10 августа ему достался молоток Людовика XVI, и показывал его как трофей», но нигде не упоминает, обучалась ли она сама ремеслу.
[Закрыть]она продолжила занятия под столь умелым руководством и так прилежно, что невозможно было догадаться об этом перерыве. Она очень мило рисовала, великолепно музицировала, сама сочиняла музыку и писала стихи к романсам – некоторые из них дошли до нас, что объясняется не высоким положением автора, а их истинной ценностью.
Обе девушки рисовали, обе занимались музыкой и говорили на двух или трех иностранных языках.
Гортензия показала Клер свою мастерскую, эскизы, музыкальный кабинет и вольеру.
Потом они сели в небольшом будуаре, расписанном Редуте, и разговор зашел о званых вечерах, которые в то время были блистательны как никогда, о балах, которые давались повсюду, о великолепных танцорах, о господах де Трени, Лаффите, д'Альвимаре, об обоих Коленкурах. Пожаловались друг другу, что на любом балу приходится хотя бы раз танцевать гавот или менуэт. И, наконец, совершенно естественно, обменялись вопросами.
– Знакомы ли вы с гражданином Дюроком, адъютантом моего отчима? – спросила Гортензия.
– Не приходилось ли вам встречаться с гражданином Гектором де Сент-Эрмином? – спросила Клер.
Клер не знала Дюрока.
Гортензия не была знакома с Гектором.
Гортензия была готова признаться, что влюблена в Дюрока, и ее отчим, который также очень любил его, благосклонно смотрит на ее чувства.
Действительно, Дюрок был одним из тех блистательных генералов, целая плеяда которых выросла в то время под сенью Тюильри. Ему не было еще двадцати восьми лет, его манеры отличались удивительной изысканностью, у него были большие глаза навыкате, он был высок, строен и утончен.
Однако над чувствами молодых людей сгущались тучи. Бонапарт им покровительствовал, а Жозефина выбрала для дочери другую партию, желая выдать Гортензию за Луи, одного из младших братьев Наполеона. У Жозефины было два явных врага – Жозеф и Люсьен. Их вмешательство в ее поступки отличались удивительной нескромностью. Они едва не убедили вернувшегося из Египта Бонапарта порвать с Жозефиной. Они постоянно подталкивали Наполеона к разводу, ссылаясь на то, что для его честолюбивых планов ему необходим наследник мужского пола, и, казалось, выступали в этой игре с весьма благородной ролью вопреки собственным интересам.
Жозеф и Люсьен были женаты. Жозеф, следуя обычаям, женился на дочери г-на Клари, богатого марсельского коммерсанта, и приходился свояком Бернадотту. У Клари была еще одна дочь, третья, еще прелестнее своих сестер, и Бонапарт посватался к ней.
– Бог мой, да ни за что, – отвечал отец, – хватит мне и одного Бонапарта.
Если бы он согласился, то в один прекрасный день этот почтенный коммерсант оказался бы тестем императора и двух королей.
Брак Люсьена был таким, который в то время называли неравным.
В 1794 или 1795 году, когда Бонапарт был известен только взятием Тулона, Люсьен получил место смотрителя магазинов в военном интендантстве в небольшом городке Сен-Максимен.
Люсьен был республиканцем и, решив сменить свое имя и называться Брутом, не мог выносить, чтобы там, где он живет, оставалось хоть что-то святое. С той же легкостью, с которой он сам сменил имя, он переименовал Сен-Максимеи в Марафон.
Гражданин Брут из Марафона – это звучало великолепно. Мильтиад [45]45
Он посоветовал афинянам напасть на персов у Марафона (490 г. до Р.Х.)
[Закрыть]звучало бы еще лучше, но, выбирая имя Брут, Люсьен не мог предположить, что ему случится жить в Марафоне.
Люсьен-Брут жил в единственной гостинице Сен-Максимена-Марафона. Держал ее человек, не собиравшийся менять своего имени и продолжавший именоваться Констан Бойер.
У него была дочь, очаровательное создание по имени Кристина. Иногда и в навозе распускаются цветы, и в тине попадаются жемчужины.
В Сен-Максимене-Марафоне не было ни развлечений, ни приличного общества, но вскоре Люсьену-Бруту уже ничего не было нужно. Кристина Бойер стала для него всем.
Однако Кристина была столь же умна, сколь и красива. Люсьену не удалось сделать ее своей любовницей, и однажды, поддавшись любви или скуке, он сделал ее своей женой. Кристина Бойер стала не Кристиной Брут, а Кристиной Бонапарт.
Генерал 13-го вандемьера, который начинал прозревать, что уготовила ему судьба, пришел в ярость. Он поклялся никогда не простить новоиспеченного мужа, никогда не видеть его жены и выдворил обоих в Германию, назначив Люсьена на какое-то скромное место.
Позже он смягчился, встретился с женой брата и не без удовольствия 18-го брюмера вновь увиделся с Люсьеном-Брутом, который теперь стал Люсьеном-Антонием.
Итак, Люсеьн и Жозеф были кошмаром г-жи Бонапарт, и если бы ей удалось выдать дочь за Луи, она смогла бы заинтересовать его в своем благополучии и получить поддержку.
Гортензия сопротивлялась изо всех сил, хотя Луи в то время был красивым юношей с мягким взглядом и приветливой улыбкой. Он был очень похож на свою сестру Каролину, которая только что вышла замуж за Мюрата. Он был еще очень молод, ему едва исполнилось двадцать лет. Он не любил и не ненавидел Гортензию, ему было все равно. Гортензия тоже не испытывала к нему ненависти, но она любила Дюрока.
Ее откровения придали храбрости Клер де Сурди, и она тоже сделала признание. К сожалению, ей почти не в чем было признаваться. Она любила, если это можно было назвать любовью. Точнее, она обратила внимание на молодого красивого человека двадцати трех или двадцати четырех лет.
Он был светловолос, с прекрасными черными глазами, со слишком правильными для мужчины чертами лица, его руки и ноги можно было бы назвать женственными, если бы все вместе не было так гармонично и стройно, что сразу становилось понятно, что эта внешне хрупкая оболочка скрывала геркулесову силу. Еще не наступила эпоха, когда Шатобриан и Байрон создали образы Рене и Манфреда, но в бледности его лица уже видна была печать рока. В его семье и о его семье существовали ужасные предания, которых никто не мог связно пересказать, но которые отмечали его путь, словно пятна крови. Вместе с тем он никогда не носил чрезмерного траура по своим родителям, ставшим жертвами Республики, – и никогда не выставлял напоказ своего горя на балах и собраниях, которые устраивались, чтобы смягчить гнев теней. Впрочем, когда он появлялся в обществе, ему не нужно было привлекать к себе внимание необычным поведением, все взгляды и так как магнитом притягивались к нему. Товарищам, разделявшим с ним не удовольствия, но охоту и путешествия, никогда не удавалось увлечь его одной из тех затей, которые выдумывают молодые люди и в которых хоть раз оказываются замешаны даже те, кто в остальном придерживается самых суровых правил. Никто не мог припомнить, чтобы видел его не только смеющимся тем открытым, радостным смехом, которым обыкновенно смеются молодые люди, но даже улыбающимся.
Прежде семьи Сент-Эрмин и Сурди были дружны, и, как водится в благородных семьях, воспоминание об этой дружбе осталось драгоценным для обоих домов. Таким образом, с тех пор, как случай привел молодого Сент-Эрмина в Париж, он никогда не забывал нанести визит вежливости графине де Сурди, вернувшейся из колоний, но эти визиты так и не привели к более близкому знакомству.
Несколько месяцев назад молодые люди встретились в обществе. Но, кроме обычного приветствия, которым они обменялись, они немного успели сказать друг другу, особенно молодой человек, всегда отличавшийся удивительной сдержанностью.
Но если вслух было произнесено мало, то много было сказано глазами. Несомненно, Гектор меньше владел своими взглядами, чем словами, и каждый раз, находя Клер, его глаза говорили ей, что он восхищен ее красотой и что она та, о ком мечтает его сердце.
При первых встречах Клер была взволнована столь выразительными взглядами, которые он бросал на нее. Сент-Эрмин казался ей идеальным кавалером, и она также позволила себе смотреть на него и надеялась, что на первом же балу он будет танцевать с ней, и, быть может, к этим взглядам прибавится слово или пожатие руки. Но, как ни странно, в то время, когда танцевали все, Сент-Эрмин, столь изящный кавалер, занимавшийся фехтованием с Сен-Жоржем и стрелявший из пистолетов не хуже Жюно или Фурнье, совсем не танцевал.
Это была еще одна его необыкновенная черта. На балах, холодный и невозмутимый, Сент-Эрмин стоял у окна или в углу гостиной, вызывая недоумение девушек, задававшихся вопросом, что за обет лишил их такого изящного кавалера, который всегда одет по последней моде и с совершенным вкусом.
Клер была тем более удивлена постоянной сдержанностью с ней графа де Сент-Эрмина, что ее мать питала к молодому человеку особенную симпатию, тепло отзывалась о его семье, уничтоженной во время революции, и о нем самом. Имущественное неравенство также не могло помешать их союзу. Оба они были единственными детьми, каждый из них был наследником внушительного состояния.
Понятно, какое впечатление должно было произвести на сердце юной креолки сочетание физических и душевных качеств, таинственности и красоты молодого человека, мысли о котором занимали пока только ее ум, но вскоре должны были занять и сердце.
Гортензия скоро поведала обо всех своих надеждах и чаяниях – выйти замуж за Дюрока, любимого ею, избежать брака с Луи Бонапартом, ею не любимым. В этом заключался весь секрет, которым она поделилась с подругой, изложив его в двух словах. Но Клер не так просто было передать свое романтическое увлечение. Штрих за штрихом рисовала она для подруги портрет своего избранника, проникая, насколько могла, в окружавшую его тьму. Наконец, когда мать дважды уже позвала ее и она поднялась и уже поцеловала Гортензию, вдруг, будто в подтверждение слов г-жи де Севинье, что самая важная часть письма находится в постскриптуме, Клер, словно внезапно вспомнив что-то, произнесла:
– Кстати, дорогая Гортензия, я забыла спросить вас об одной вещи.
– О чем же?
– Мне кажется, госпожа де Пермон дает большой бал.
– Да, Лулу приезжала к нам со своей матерью, и они пригласили нас:
– И вы пойдете на бал?
– Конечно!
– Милая Гортензия, – самым нежным голосом обратилась к ней Клер, – я хотела бы попросить вас об одной любезности.
– О любезности?
– Да, попросите пригласить нас с мамой, это возможно?
– Думаю, что да.
Клер запрыгала от радости.
– О, благодарю вас, – сказала она. – Как же вы это сделаете?
– Я могла бы сама попросить письмо с приглашением у Лулу, но будет лучше, если за дело возьмется Евгений. Он очень дружен с сыном госпожи де Пермон и попросит у него то, что вам нужно.
– И я попаду на бал госпожи де Пермон? – радостно воскликнула Клер.
– Да, – ответила ей Гортензия и, взглянув на сияющее лицо юной подруги, спросила: – Он будет там?
Клер покраснела, как вишня и сказала, потупив глаза:
– Я надеюсь.
– Ты покажешь мне его, не правда ли?
– О, ты и так его узнаешь, дорогая Гортензия. Разве я не сказала тебе, что его можно узнать из тысячи?
– Как жаль, что он не танцует! – заметила Гортензия.
– А как я об этом сожалею! – вздохнула Клер. Обменявшись поцелуем, девушки расстались. Клер еще раз напомнила Гортензии о пригласительном письме. Через три дня Клер де Сурди получила его.








