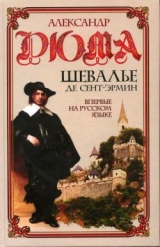
Текст книги "Шевалье де Сент-Эрмин. Том 1"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
– Но какова была цель столь жестокого поступка? – спросил Трюге.
– Право, – ответил Бонапарт, – настало время положить конец многочисленным покушениям на мою жизнь; теперь уже больше не скажут, что я хотел сыграть роль Монка.
Через два дня после катастрофы Бурьен, беспокоясь о состоянии, в котором находилась г-жа Бонапарт, отправил нарочного с вопросом, может ли она его принять.
Нарочный вернулся с положительным ответом.
Бурьен поспешил в Мальмезои и сразу прошел в будуар, где были Жозефина, г-жа Луи Бонапарт и г-жа де Ремюза.
Все трое пребывали в отчаянии.
– Ах, Бурьен! – воскликнула г-жа Бонапарт, увидев его, – какое ужасное несчастье! Знали бы вы, каким он стал с некоторых пор! Он избегает людей, он боится всех. Кто мог внушить ему сделать такое?
Бурьен, узнавший все детали казни от Ареля, рассказал ей о них.
– Какая жестокость! – вскричала Жозефина. – Но хотя бы не смогут сказать, что это моя вина, ведь я пыталась сделать все, чтобы отговорить его от этого жуткого замысла; он не рассказал мне о нем, но я догадалась. Но вы же знаете, с какой жестокостью он отвергал мои мольбы! Я пришла к нему, бросилась на колени. «Занимайтесь тем, что вас касается, – гневно закричал он на меня. – Это совсем не женское дело, оставьте меня!» И он оттолкнул меня так грубо, как никогда не позволял себе со времен египетской кампании. Что теперь скажут в Париже? Уверена, его все будут проклинать, ведь даже здешние льстецы потрясены случившимся. Вы знаете, каков он, когда недоволен собой и старается, чтобы весь мир это увидел. Никто не осмеливается говорить с ним, все вокруг мрачнеет. Вот локон волос и золотое кольцо принца, которые он, бедняга, просил меня отослать дорогой для него особе. Лейтенант, которому он их отдал, доверил их Савари, а Савари привез мне. Савари плакал, рассказывая мне о последних минутах принца, стыдясь себя самого: «Ах, сударыня! – говорил он, вытирая слезы. – Невозможно быть свидетелем смерти такого человека, не испытывая волнения» [161]161
См. Бурьен.Цит. изд. T. VI. С. 340–342.
[Закрыть].
Г-н де Шатобриан, еще не отправившийся послом в Вале, шел по саду Тюильри, когда услышал голоса мужчины и женщины, оглашавших официальную новость. Прохожие тут же останавливались в оцепенении, пораженные словами: «Вердикт специального военного суда, заседавшего в Венсенском дворце, приговорившего к смертной казни Людовика· Антуана-Генриха де Бурбона, герцога Энгиенского, рожденного 2 августа 1772 года в Шантийи». Их крик обрушился на него как гром среди ясного неба, на мгновение он так же оцепенел, как другие.
Вернувшись домой, он сел за стол, написал прошение об отставке и в тот же день отправил его Бонапарту.
Первый консул, узнав руку Шатобриана на конверте, несколько раз повертел письмо в руках, не открывая его.
Наконец он распечатал конверт, прочел и, в раздражении бросив письмо на стол, произнес:
– Тем лучше! Мы никогда бы не смогли понять друг друга; он – только прошлое; а я – будущее.
Г-жа Бонапарт имела основания беспокоиться о том, какой эффект произведет новость о смерти герцога Энгиенского.
Париж ответил на крики газетчиков ропотом неодобрения.
Нигде и никто не говорил о «приговоре» герцогу Энгиенскому, говорили об «убийстве».
Никто не верил в виновность принца, а к его могиле началось настоящее паломничество.
Конечно, в замке позаботились о том, чтобы скрыть это место, устроив газон, похожий на соседние, и никто не смог бы догадаться, где похоронен бедный принц, если бы не собака, всегда лежащая в одном и том же месте. Взоры паломников застывали на могиле, пока слезы не застилали их. Тогда вполголоса они начинали звать:
– Фидель! Фидель! Фидель!
Бедное животное отзывалось на эти доброжелательные призывы долгим печальным воем.
Однажды утром люди не нашли собаки на привычном месте. Фидель, беспокоивший полицию, исчез.
XLII
САМОУБИЙСТВО
Вернемся к Пишегрю. Вначале он все отрицал, но, опознанный лакеем Моро как именно тот человек, который тайно приходил к его хозяину и которого тот встречал с почтением, точнее, с непокрытой головой, перестал запираться и разделил участь Жоржа.
По прибытии в Тампль Пишегрю выделили камеру на первом этаже [162]162
Дюма здесь очень близко следует за соответствующей главой у Сент-Илера.Цит. изд. T. I. С. 305–307.
[Закрыть]. Изголовье его кровати находилось напротив окна, так что оконная форточка служила ему лампой, когда он хотел читать в кровати; снаружи перед окном стоял часовой, который мог видеть все происходящее в камере.
Камеры Кадудаля и Пишегрю разделял небольшой коридор. Вечером одного из жандармов запирали в этом коридоре, ключ от которого отдавали привратнику; жандарм как бы запирал самого себя. Он мог поднять тревогу и попросить помощи только через окно.
Часовой, дежуривший у входа во двор, передавал сигнал тревоги караульному, который, в спою очередь, должен был передать его привратнику.
Какое-то время в камере Пишегрю находились еще два жандарма, не спускавшие с него глаз. Более того, его отделяла только перегородка от камеры г-на Буве де Лозье, который, как мы помним, уже пытался повеситься. Наконец, в трех-четырех шагах, в нравом вестибюле помещалась камера Кадудаля, дверь в которую была открыта днем и ночью. Два жандарма и капрал постоянно наблюдали за ним.
В разговоре с г-ном Реалем Пишегрю попросил, чтобы смущающих его стражей убрали из камеры.
Просьбу передали Бонапарту. Тот пожал плечами:
– К чему напрасно ему надоедать? Ведь жандармы находятся гам, чтобы помешать ему покончить с собой, а не помешать ему спастись.
Но человек, всерьез замышляющий самоубийство, всегда достигает своей цели.
Пишегрю предоставили перо и чернила: он работал.
Тс предложения, которые ему сделали относительно обустройства Гвианы, чрезвычайно вдохновили Пишегрю; несомненно, с его двойным воображением стратега и ученого, с воспоминаниями, которые он сохранил о походах и охоте в глубине побережья, он уже видел себя занятым работой и был счастлив.
Но и мнение Бонапарта, что Пишегрю принял какое-то роковое решение, не было лишено оснований.
Маркиз де Ривьер рассказывал г-дам Реалю и Демаре, как однажды, когда он и Пишегрю бродили как-то вечером по Парижу, меньше опасаясь быть схваченными на улице, чем по возвращении домой, генерал вдруг остановился и со словами:
– Ей-богу же, бесполезно идти дальше, остановимся здесь, – и приставил пистолет к своему виску.
Г-н де Ривьер схватил Пишегрю за руку и отвел пистолет от его головы. Он считал, что именно тогда у генерала родилась мысль убить себя.
В тот раз он привел генерала к одной даме, которая предоставила ему убежище; она жила на Ореховой улице. У нее, положив на стол кинжал, Пишегрю произнес:
– Еще один такой вечер, и все будет кончено [163]163
См. Демаре,цит. изд. («Témoignages historiques, ou Quinze ans de haute police sous Napoléon», 1833): Смерть генерала Пишегрю в Тампле(16 апреля 1804 г.). С. 138.
[Закрыть].
Шарль Нодье в своих воспоминаниях о Революции рассказывает забавный анекдот, который выглядит предчувствием того, что через одиннадцать лет произойдет в Тампле.
Он носил, как всякий офицер штаба у Пишегрю, галстук из черного шелка, туго завязанный у ворота. Противостоя чудесамтого времени, когда носили громоздкий галстук а-ля Сен-Жюст, молодой человек приучился завязывать свой справа на один узел.
По распоряжению Сен-Жюста все ложились спать одетыми. Пишегрю и два его секретаря спали в одной комнате на брошенных на пол матрасах.
Пишегрю спал мало, ложился последним обычно только в три-четыре часа утра.
Однажды Нодье спал особенно беспокойно, и в ночном кошмаре ему привиделось, что его душат индейские воины. Нодье почувствовал, что чья-то рука легла ему на шею и ослабила узел на галстуке. Он проснулся и увидел, что перед ним на коленях стоит генерал.
– Это вы, генерал? – спросил он. – Я вам нужен?
– Нет, напротив, – ответил тот, – это я тебе был нужен: ты стонал и жаловался, я сначала не мог понять причины. Когда носишь такой, как у нас, тугой галстук, надо позаботиться ослабить его перед сном; если позабыть об этой предосторожности, можно задохнуться и умереть. Это своего рода способ самоубийства [164]164
Шарль Нодье. Указ. изд. T. I, III, «Пишегрю», § 1, с. 58.
[Закрыть].
Когда в одно из своих посещений г-н Реаль осведомился у Пишегрю, не нуждается ли он в чем-нибудь, тот ответил:
– Да, в книгах.
– Исторических? – уточнил Реаль.
– Конечно же, нет! Вся история у меня в голове; пришлите мне Сенеку; я нынче игрок.
– Генерал, – смеясь, заметил г-н Реаль, – игрок просит дать ему Сенеку, только проигравшись вчистую. Это не ваш случай [165]165
В заключительной сцене (V, XII) одноименной комедии ( Реньяр,1696) Гектор, слуга Валера, игрок, говорит своему хозяину: «Иду в библиотеку,/ Взять книгу там и вам прочесть Сенеку». Диалог приводит Демаре.Цит. изд. С. 146.
[Закрыть].
Тогда же Пишегрю попросил, чтобы ему передали и отобранный у него портрет, который был ему особенно дорог. Сенеку прислали, и г-н Демаре собирался присоединить к книге портрет, когда кто-то заметил ему, что портрет, отобранный при обыске, должен вместе с другими вещами фигурировать на суде.
Пишегрю передали только книгу, он спросил о портрете. Ему объяснили причину отказа, он счел это плохим знаком.
– Ах, вот как, – сказал он привратнику, – оказывается, г-н Реаль посмеялся надо мной, говоря о Кайене.
И он с нетерпением стал ждать следующего визита г-на Реаля.
Тем временем подоспело дело герцога Энгиенского, г-н Реаль занялся им, и у него не оказалось времени для визита к Пишегрю.
Тогда-то он и принял решение покончить с собой. Сначала он пожаловался на холод; поскольку в его камере была печь, ее затопили. Для растопки принесли небольшую связку сухих дров, чтобы было легче разводить огонь, если он погаснет.
Утром зашли в его камеру и обнаружили его в кровати спокойного, неподвижного.
Его стали будить.
Но он был мертв!
Час спустя после того, как открылось это несчастье, то есть около восьми часов утра, Савари, стоявший в карауле в Тюильри, получил записку от офицера элитной жандармерии, который в этот день командовал охраной Тампля. Он сообщал ему, что только что генерал Пишегрю был найден мертвым в своей кровати, и в Тампле ждут полицию, чтобы запротоколировать это происшествие. Савари тут же переслал записку первому консулу. Бонапарт вызвал его и потребовал подробностей. Поняв, что Савари ничего не знает, Бонапарт воскликнул:
– Так отправляйтесь и выясните! Черт возьми, вот прекрасная смерть для победителя Голландии!
Савари поспешил в Тампль и прибыл туда одновременно с г-ном Реалем, посланным верховным судьей с той же целью – узнать подробности.
Никто еще не входил в камеру, кроме охранника, первым заметившего случившееся. Г-да Реаль и Савари подошли к кровати самоубийцы и опознали его, несмотря на следы удушья на его лице.
Генерал лежал на правом боку, вокруг шеи был наподобие тонкого троса обмотан галстук. По-видимому, он сам обмотал галстук и затянул его как можно туже; затем взял небольшую, сантиметров в пятнадцать, щепку, отломав ее от полена – другие поленья были разбросаны по всей камере, – просунул ее под галстук и стал прокручивать до тех пор, пока не потерял сознание. Голова его упала на подушку, кусок дерева оказался придавленным шеей и помешал галстуку развязаться. Удушье не заставило себя ждать, а рука самоубийцы осталась лежать на шее, касаясь импровизированного рычага удавки [166]166
Бурьен(Цит. изд. T. VI, гл. III), дает отрывок из протокола осмотра тела Пишегрю.
[Закрыть].
Возле него, на ночном столике, лежала раскрытая книга, как если бы чтение было прервано ненадолго. То был Сенека, посланный ему г-ном Реалем; книга была открыта на той странице, где Сенека говорит: «Тот, кто хочет устроить заговор, прежде всего не должен бояться умереть».
Надо думать, эта глава была последним, что читал Пишегрю; он понял, особенно когда и до него дошел слух о смерти герцога Энгиенского, что у него нет больше надежды на милосердие первого консула, и остается лишь умереть.
Сразу же опросили всех, кто мог дать хоть какие-то разъяснения по поводу столь странной и неожиданной смерти, в которой, конечно же, будут обвинять Бонапарта, – первая мысль, пришедшая в голову Савари.
Сначала он допросил жандарма, дежурившего в коридоре между камерами Жоржа и Пишегрю. Тот не слышал ночью никакого шума, кроме надсадного кашля генерала около часа утра, но он не мог войти, поскольку сам был заперт, и не хотел из-за кашля будить всю тюрьму. Потом Савари допросил жандарма, который дежурил у окна и мог видеть все, что происходит у Пишегрю, но тот ничего не заметил. Г-н Реаль пришел в отчаяние.
– Хотя все совершенно ясно указывает на самоубийство, – говорил он, – будут говорить, вопреки нашим уверениям в обратном, что, не сумев сломить пленника, его задушили.
В самом деле, так и стали говорить, однако совершенно несправедливо. Ведь это убийство могло сильно повредить расследованию дела Моро.
Убивать Пишегрю не было никакого резона: первый консул связывал с ним проекты, которые, останься он жив, послужили бы собственной популярности консула. Бонапарт, не только помиловав Пишегрю как своего бывшего учителя в Бриенне, но и отправив его с почетной миссией в Кайену, смягчил бы дурной эффект, который произвело бы осуждение Моро.
И уж конечно, тогда, когда Бонапарт ощутил всю тяжесть общественного осуждения, свалившегося на него после расправы над герцогом Энгиенским, ему вряд ли хотелось добавить к этому еще и убийство Пишегрю.
– Подумать только, – воскликнул Бонапарт, вновь увидев Реаля, и ударил кулаком по столу, – ведь он просил для колонизации Гвианы всего лишь шесть миллионов негров и столько же миллионов франков!
ХLIII
СУД
Если полицией были своевременно приняты все меры в отношении Жоржа Кадудаля и муниципальный полицейский Каньоль получил приказ ждать у подножия Сен-Жерменского холма кабриолет под номером 53, который проедет там между семью и восемью часами; если в семь часов он последовал за этим кабриолетом и заметил, что тот остановился у входа в аллею, примыкающую к маленькой фруктовой лавчонке; если в семь тридцать из аллеи вышли четыре человека, среди которых были Жорж и Ле Ридан, если, наконец, вследствие этих точных указаний Жорж был арестован, – то это произошло благодаря тому, что от Лондона до Парижа и от дня прибытия до пятницы 9 марта его ни на час не выпускал из виду самый сообразительный из агентов гражданина Фуше.
Фуше знал, что Кадудаль – не тот человек, который сдается, не пустив в дело пистолет или кинжал, и потому не хотел подвергать опасности своего драгоценного Лиможца, который мог стать жертвой гнева бретонца. Не дожидаясь ответных действий Кадудаля, Фуше велел арестовать его женатым агентам, вместо того чтобы послать на арест холостяка.
Фуше, дожидавшийся сообщения об аресте Кадудаля у себя в кабинете, получил его около половины десятого вечера.
Он позвал Лиможца, ожидавшего в соседней комнате.
– Вы все слышали, – сказал ему Фуше. – Нам осталось взять только Вильнева и Бюрбана.
– Мы арестуем их, когда вы скажете. Мне известно, где они укрываются.
– У нас еще есть время. Только не упускайте их из виду.
– Разве я упустил Жоржа?
– Нет.
– Могу ли я сказать вам, что есть одна вещь, которую вы сами упускаете из виду?
– Я?
– Да.
– Какую же?
– Деньги Жоржа. Когда мы выехали из Лондона, при нем было больше сотни тысяч франков.
– Вы беретесь найти эти деньги?
– Сделаю, что смогу. Но ни одна вещь на свете не исчезает так быстро, как деньги.
– Принимайтесь за поиски сегодня же вечером.
– Могу я рассчитывать на время до завтрашнего вечера, примерно до этого часа?
– Как раз завтра в это же время у меня встреча с первым консулом. Я буду весьма доволен, если смогу ответить на все его вопросы.
Назавтра, в половине десятого вечера, Фуше появился в Тюильри.
Это происходило до незабвенного решения об аресте герцога Энгиенского. Вернувшись к истории ареста Жоржа, мы сделали в нашей истории шаг назад.
Фуше застал первого консула спокойным, почти веселым.
– Отчего вы сами не доложили мне, что взяли Жоржа? – спросил его Бонапарт.
– Надо же оставить хоть что-то другим, – ответил Фуше.
– Вы знаете, как произошел арест?
– Он убил одного из агентов по имени Бюффе и ранил другого, которого зовут Каньоль.
– Кажется, оба женаты.
– Да.
– Надо как-то помочь женам этих бедняг.
– Я подумал об этом: вдове нужно дать пенсию, а жене раненого – вознаграждение.
– По здравом размышлении это Англия должна была бы им платить.
– Она тоже будет платить.
– Каким образом?
– Вернее сказать, Кадудаль. Но поскольку деньги Кадудаля – это деньги Англии, стало быть, в конце концов пенсию будет выплачивать Англия.
– Но мне доложили, что при нем нашли не более тысячи двухсот франков, и обыск в его доме тоже ничего не дал.
– Он выехал из Лондона со ста тысячами франков, до приезда в Париж истратил из них тридцать тысяч. У него оставалось семьдесят, а это даже больше, чем нужно для выплаты пенсии вдове и вознаграждения жене раненого.
– Но где же тогда эти семьдесят тысяч франков? – воскликнул Бонапарт.
– Вот они, – произнес Фуше. И поставил на стол небольшой мешок с золотыми монетами и банкнотами.
Бонапарт с любопытством высыпал содержимое на стол. Там было сорок тысяч франков в голландских соверенах, а остальное в бумажных банкнотах.
– Вот оно что! – заметил Бонапарт. – Так теперь Голландия оплачивает моих убийц!
– Нет, просто они опасались, что английское золото вызовет подозрение.
– И как же вам удалось заполучить эту сумму?
– Вы же знаете старую полицейскую поговорку: «Ищите женщину!» [167]167
Это слово приписывают либо Талейрану, либо председателю суда Дюпати.
[Закрыть].
– И что же?
– Я искал женщину и нашел ее.
– Расскажите в двух словах, я умираю от любопытства.
– Так вот, я знал, что некая Изаи, дешевая потаскуха, была связана с заговорщиками и сняла у хозяйки фруктовой лавчонки комнату, где они время от времени собирались. Она шла за ними следом, когда Жорж садился в кабриолет; похоже, он подозревал, что за ним следят. Он успел бросить ей мешок, который нес в руке, с криком: «К парфюмеру Карону!» Камьоль услышал его слова и успел сказать одному из агентов:
– Приклейтесь к девице.
– Что это означает? – спросил Бонапарт.
– Следуйте за ней и не упускайте ее из виду.
Когда Жорж уехал, девица принялась бродить по улицам. Она подошла к перекрестку у Одеона как раз тогда, когда Кадудаля задерживали, увидела большую толпу, сбежавшуюся поглазеть, и поняла, что Жорж арестован. Она не решилась вернуться домой и спряталась у подруги, которой доверила сверток с деньгами. Я приказал пробраться к подруге и забрать этот сверток, вот и все. Боже правый! Это было не так уж трудно.
– И вы не арестовали девицу Изаи?
– Арестовали, ведь она нам больше не нужна. О! Это святая девушка, – продолжал Фуше, – она заслуживает небесного покровительства.
– Зачем вы так говорите? – нахмурил брови Бонапарт. – Вы же знаете, что я не люблю, когда богохульствуют.
– А знаете, что висело на груди у этой дурочки? – спросил Фуше у первого консула.
– Каким образом я могу это знать? – сказал Бонапарт, невольно увлекаясь хитроумными поворотами этой беседы. Заинтересовать консула рассказом умел только Фуше, ведь одним из качеств, которых Бонапарту явно недоставало, было умение слушать.
– Так вот, она носила медальон с надписью:
Частица подлинного креста,
почитаемого в церкви Сент-Шапель в Париже
и в коллегиальной церкви Святого Петра в Лилле.
– Ладно, – подвел итог Бонапарт. – Девицу отправьте в Сен-Лазар. Дети бедняг Бюффе и Каньоля будут обучаться на государственные средства. Вы передадите пятьдесят тысяч франков, найденных у товарки-девицы Изаи, вдове Бюффе, остальное – Каньолю. Вдове Бюффе я прибавлю еще пенсию в тысячу франков из своих собственных средств.
– Вы что же, хотите, чтобы она умерла от счастья?
– Почему это?
– Потому что она считает, что смерть ее мужа – уже достаточно большая удача.
– Не понимаю, – нетерпеливо заметил Бонапарт.
– Как, вы не понимаете? Что ж! Муж ее был негодяем, который каждый вечер напивался и каждое утро колотил свою жену.
Наш чертов Жорж, несомненно, убил
Одним выстрелом двух зайцев.
– А теперь, – продолжал Бонапарат, – когда дело с арестом Жоржа улажено, распорядитесь, чтобы мне передавали протоколы допросов по мере того, как они будут вестись. Я хочу следить за этим делом шаг за шагом, и следить очень внимательно.
– Я уже принес вам первый протокол, – сообщил Фуше. – Он совсем не похож на сочинения в духе Вергилия и Горация, которые мы даем в руки учеников ораторианцев из Пенбефа, ad usum-Delphini [168]168
Фуше учился в коллеже Ораторианцев в Нанте (1768), куда в конце 1790 г. вернулся директором.
[Закрыть]. Нет, он свеж и сохранен в том виде, в каком вышел из уст Жоржа и господина Реаля.
– А что, протоколы допросов иногда изменяют?
– Не замечали ли вы, что речи ораторов на трибунах совсем не таковы, какими они предстают на страницах «Монтёра»? Так вот, протоколы не изменяют, но их приукрашивают.
– Посмотрим же, что отвечал на допросе Жорж.
XLIV
ТАМПЛЬ
Фуше протянул бумагу первому консулу. Тот поспешно схватил ее и, пробежав глазами по первым строчкам, содержащим обычные вопросы, которые закон требует задавать обвиняемым, перешел сразу к четвертому пункту.
Вопрос: – С какого времени вы находитесь в Париже?
Ответ: – Месяцев пять-шесть. Точнее не помню.
В. – Где вы остановились?
О. – Нигде.
В. – Какова цель вашего приезда в Париж?
О. – Устранение первого консула.
В. – Кинжалом?
О. – Нет, оружием, которым вооружен его эскорт.
В. – Объясните.
О. – Я и мои офицеры сосчитали число гвардейцев в эскорте Бонапарта; их тридцать; я и двадцать девять моих людей вступили бы в поединок с ними. Мы собирались протянуть два троса через Елисейские Поля, чтобы преградить дорогу эскорту, и наброситься на гвардейцев с пистолетами; в нашей силе и отваге мы уверены, в остальном положились бы на Бога.
В. – Кто послал вас за этим во Францию?
О. – Принцы: один из них должен был присоединиться к нам, как только я сообщил бы ему, что нашел средство добиться поставленной цели.
В. – Кого вы посещали в Париже?
О. – Позвольте мне не отвечать. Я не хочу умножать число жертв.
В. – Был ли Пишегрю каким-то образом вовлечен в план покушения на первого консула?
О. – Нет. Он никогда не хотел и слышать об этом.
В. – Но в случае успеха вашего замысла собирался ли он воспользоваться смертью первого консула?
О. – Это его тайна, не моя.
В. – Предположим, ваше покушение удалось, каков был дальнейший план у вас и ваших сообщников?
О. – Поставить у власти вместо первого консула Бурбона.
В. – Кто же из Бурбонов предполагался на это место?
О. – Людовик Ксавье Станислав, бывший Месье, признаваемый нами Людовиком XVIII.
В. – Так значит, план был выработан и должен был быть исполнен вместе с бывшими французскими принцами?
О. – Да, гражданин судья.
В. – Значит, вы сговорились с бывшими принцами.
О. – Да, гражданин судья.
В. – Кто должен поставлять деньги и оружие?
О. – Деньги уже давно в моем распоряжении. Но оружия у меня нет.
Бонапарт перевернул листок. Но на другой стороне его ничего не было, протокол на этом заканчивался.
– Какой абсурд – этот план Жоржа напасть на меня с тем же числом людей, что и мой эскорт, – произнес он.
– Сжальтесь! – ответил Фуше с усмешкой. – Вас не собирались убивать, с вами хотели покончит». Это вторая Битва тридцати, род средневековой дуэли между секундантами.
– Дуэль с Жоржем?
– Собирались же вы встретиться без свидетелей с Моро!
– Моро – это Моро, господин Фуше, знаменитый генерал, бравший города, победитель. Его отступление, когда из дальних земель Германии он достиг границ Франции, сделало его равным Ксенофонту [169]169
В 1796 г., во главе Рейнско-Мозельской армии Моро перешел Рейн, сломал линию обороны Майнца, взял Кольскую крепость, разбил эрцгерцога Карла в Гейденгейме, перешел Дунай, но после поражения Журдана в Вюрцбурге был вынужден отступить и осуществил удачный отход через Шварцвальдские теснины к Рейну.
[Закрыть]. Его сражение при Гогенлиндене сделало его равным Гошу и Пишегрю. А Жорж Кадудаль только предводитель разбойников, что-то вроде Спартака-роялиста, человек, от которого обороняются… но с которым не бьются на дуэли. Не забывайте об этом, господин Фуше.
И Бонапарт встал, показывая, что аудиенция окончена.
Обе ужасные новости – о казни герцога Энгиенского и о самоубийстве Пишегрю – обрушились на Париж почти одновременно, и, надо признаться, жестокая расправа с одним мешала поверить в самоубийство другого.
Особенно это ощущалось в Тампле, где были собраны арестованные, на которых эта новость произвела давящее впечатление, а предсказание, сделанное Реалем, что все будут говорить об убийстве Пишегрю, полностью подтвердилось.
Мы высказали наше мнение, мнение сугубо личное, по поводу смерти генерала; теперь же предоставим слово людям, которые, находясь в той же тюрьме, что и покоритель Голландии, присутствовали некоторым образом при окончании его судьбы, столь славной и столь несчастной.
Представим же один за другим мнения заключенных, наиболее близких к нему в тюрьме.
Человек, который оказал мрачное влияние на его жизнь, швейцарец-библиотекарь Фош-Борель [170]170
Фош-Борель, под именем Фенуйе и под маской коммивояжера, действует в романе «Белые и Синие» как эмиссар принца Конде при Пишегрю.
[Закрыть], передавший ему первые предложения принца Конде, был арестован и препровожден в Тампль первого июля предшествующего рассказываемым событиям года.
В ту же тюрьму последовательно были посажены Моро, Пишегрю, Жорж и все участники его обширного заговора, Жуайо, прозываемый Вильнев, Роже, по прозвищу Птица, и, наконец, Костер Сен-Виктор, которому помогали все хорошенькие куртизанки, и он долго не попадался полиции, еженощно меняя укрытие.
Узнав об этом, Фуше распорядился:
– Поставьте знающего его в лицо агента у входа к Фраскати [171]171
Это увеселительное заведение, основанное при Директории неаполитанским мороженщиком Гарки на месте Отеля Лекуте, на углу улиц Ришелье и бульваров, которое посещали сливки общества вплоть до эпохи Империи, привлекало разнообразными выдумками, играми, фейерверками, балами; его павильоны и сады были разрушены в 1837 г.
[Закрыть], и не пройдет и трех дней, как вы поймаете его на входе или выходе оттуда.
На второй день его схватили на выходе.
Ко времени ареста герцога Энгиенского в Тампле находилось сто семь заключенных, тюрьма была настолько переполнена, что для пленника не смогли найти помещения. Потому и пришлось долго стоять на заставе: искали какое-нибудь временное пристанище для принца, прежде чем он попадет в тот дом, который, как говорит могильщик в «Гамлете», простоит до Судного дня.
Мы уже рассказали о казни и смерти герцога Энгиенского.
Повторю, что не было в Тампле ни одного заключенного, который не был бы твердо убежден, что Пишегрю убили. Фош-Борель не только утверждает, что Пишегрю задушили, но даже называет имена душителей.
Вот что он написал в 1807 году:
«Я убежден, что убийство было осуществлено неким Споном, бригадиром элитной роты, вместе с двумя служащими, один из которых, хоть и был весьма силен и здоров, умер спустя два месяца после события, а другой, по имени Савар, известен как участник сентябрьской резни 1792 года» [172]172
См. Мемуары Фош-Бореля,Париж, Монтодье, 1829. Т. III. С. 140. Автор отсылает к своей «Краткой истории» (1807) и к «Заметкам о Пишегрю и Моро» (1835).
[Закрыть].
Пленники еще находились во власти этой жуткой уверенности, когда увидели, что в Тампль заходит генерал Савари в парадной форме в сопровождении своего штаба, с которым был и Луи Бонапарт, привлеченный желанием увидеть Жоржа Кадудаля. Жорж в этот момент только что побрился; он лежал на кровати, скрестив руки в наручниках на животе. Два жандарма находились рядом и почти заполняли собой небольшую круглую комнатенку, где его держали. Весь штаб протиснулся в комнату Жоржа. Казалось, всем хотелось поскорее порадоваться жалкому состоянию, в котором находился генерал-роялист, а он, со своей стороны, очень тяготился их присутствием. Наконец, через десять минут разглядываний и перешептываний все вышли так же, как и вошли.
– Кто все эти разодетые в кружева особы? – спросил Жорж у жандармов.
– Это брат первого консула, – ответил один из них, – в сопровождении генерала Савари и его штаба.
– Решительно, вы хорошо сделали, что надели мне наручники, – заявил Жорж.
Между тем следствие шло своим чередом, и, по мере того как оно приближалось к завершению, внутренний распорядок в Тампле стал немного менее жестким; арестантам разрешили выходить из камер и собираться в саду, хотя не раз это могло привести к серьезным неприятностям. Савари, пользовавшийся высочайшей властью в тюрьме, превративший Тампль в нечто вроде военного лагеря, конечно, ненавидел заключенных, но это не мешало ему приходить к ним даже чаще, чем этого требовал его долг.
Однажды Моро, выйдя из камеры, столкнулся с ним лицом к лицу; он тут же повернулся к Савари спиной и закрыл за собой дверь.
Что касается генерала Моро, то нет ничего любопытнее и трогательнее тех знаков глубокого почтения, которое оказывали ему все военные, несущие внутреннюю службу в тюрьме: все отдавали ему честь, прикладывая руку к головному убору. Если он присаживался где-нибудь, его окружали, ожидая, не пожелает ли он с ними поговорить. Они робко просили его рассказать о каких-нибудь военных подвигах, совершенных этим соперником Бонапарта, и ставили его выше всех остальных генералов. Все были уверены, что, позови он их на помощь, они открыли бы ему двери Тампля. Ему позволено было больше, чем другим: ему разрешали видеться с женой и ребенком, и молодая мать ежедневно приносила ему сына. Время от времени ему доставляли прекрасное вино из Кло-Вужо, и он распределял его между всеми больными, а иногда давал его и тем, кто был здоров. Не приходится говорить, что игроки в мяч и бегуны, поскольку они уставали, приравнивались к больным и получали по стаканчику Кло-Вужо.
Жоржа и его соратников от остальных заключенных отличала особая веселость и беспечность; они предавались забавам с таким шумным весельем, какая свойственна школьникам на перемене. Среди них выделялись двое самых красивых и элегантных людей Парижа: Костер де Сен-Виктор и Роже-Птица. Однажды, когда последний особенно разгорячился от бега, он снял галстук.
– Знаешь ли, мой дорогой, – заметил ему Сен-Виктор, – у тебя шея Антиноя!
– Ах, ей-богу! – ответил ему Роже. – К чему комплименты, через неделю с этой шеи слетит голова.
Вскоре все было готово для того, чтобы обвиняемые предстали перед трибуналом и были открыты публичные дебаты. Число заключенных, участвовавших в процессе, достигало пятидесяти семи; они получили приказ готовиться к переводу в Консьержери.
Тюрьма преобразилась. Радуясь тому, что заключение подходит к концу, хотя для некоторых это означало скорое расставание с жизнью, все напевали вполголоса, пакуя сумки и завязывая свертки: и если одни пели, другие насвистывали. Все были как одурманенные; печаль и размышления оставались уделом только тех, кто оставался в Тампле.








