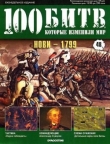Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Такова была политическая обстановка, в которой Борис Петрович Шереметев в последний раз выступал в качестве полководца.
Есть известие, что на ту же роль претендовал Меншиков. Но сами союзники просили Петра о присылке к ним именно Шереметева. В Померанию отправлялись под его высшей командой две пехотные дивизии, Репнина и Вейде, и три драгунских полка под начальством Боура. Все они шли через Польшу, каждая часть особым маршрутом, и к началу октября 1715 года сошлись в Пултуске.
Необычные условия похода обозначились с самого начала. Первоначальным указом от 27 июля 1715 года Шереметеву предписывалось идти в Померанию «обыкновенным маршем» и только донести через «обретающихся» при королях, датском и прусском, министров (В. Л. Долгорукова и А. Г. Головкина. – А. З.) обоим королям о своем выступлении. Но уже в начале августа выяснилось, что «войск наших союзные одни просят, другие отказываются», и дальнейшие действия Шереметева новый указ от 11 августа 1715 года ставил в зависимость от того, что ему напишут означенные министры: «…буде велят итить, поди; буде ж велят поворотиться, поворотись, а до тех мест…» следует идти «как возможно тише, дабы войск напрасно не измучить»{323}. Через несколько дней новая перемена: «с последней почтой» союзники подтверждали, чтобы «войски наши к ним поспешали», и потому Шереметев предписывалось идти «обыкновенным маршем»{324}. Но и этим дело не кончилось: согласно письму Петра от 7 сентября, со стороны союзников снова было заявлено «несогласие»; ввиду этого Шереметеву предписано идти «паки медленно…», но если министры тем не менее «велят» продолжать марш, пусть идет «по-прежнему немедленно…»; и даже в том случае, если ни один из союзников не пожелает наших войск, все же не поворачиваться назад, а, «остановись, писать царю»{325}.
Столь же сложным оказался продовольственный вопрос. Войска отправлялись с расчетом, что они будут содержаться в Польше на счет поляков, в Померании – на счет остальных союзников; при этом был дан строгий наказ обходиться с населением, насколько возможно, мягко. Однако сразу же пришлось натолкнуться на сопротивление и властей, и населения. В конце августа Шереметеву стало известно через обер-кригс-комиссара И. И. Бутурлина предупреждение гетмана Литовского, что на «прилежное прошение» русского посла князя Г. Ф. Долгорукова о проходе русских войск Сенат «весьма отказал» на том основании, что согласие могло причинить «помешательство в пактах с Портою». От себя, впрочем, гетман прибавил: «Никто в здешнем государстве без хлеба еще не бывал, изволите провиант со всякого модестиею и доброю дискрециею брать и просить в честь. И будет, не станут давать, то хотя и сами извольте брать, только с политичным обхождением, и надеюсь, что вам дадут…»{326}. Однако другие польские сановники смотрели надело иначе. Примас Польши епископ Куявский говорил Бутурлину, что шляхта добровольно дать не хочет: «…а когда изволите, – были его слова, – берите насилием, отчего пред Богом и пред всем светом можем протестовать, и тем самым союз может разорван быть»{327}. Окончательное решение могло быть вынесено сеймом, но оставаться до тех пор без провианта было невозможно. И Шереметев, чтобы состоящие под его командой полки, – как он выразился, – «…от крайней нужды в несостояние не пришли…», принял решение на свой страх, приказав Бутурлину: «Ежели обыватель провиант долговременно давать не станут и не повезут, то б, не вступая ни в какое письменное обязательство, посылал офицеров и драгун на экзекуцию и велел провиант брать и высылать, объявляя, что без того войску пробыть невозможно».
В нескольких местах Шереметев вместо сбора провианта поставил солдат по соглашению со шляхтой на квартиры «на шляхетских добрах», чтобы «им пропитание иметь, что будут сами хозяева есть, без всяких прихотей»{328}. Но и этот способ содержания войска встретил возражение со стороны короля и сенаторов все под тем же предлогом, что размещение русских войск по квартирам даст повод «к разорванию Портою миру»{329}.
Наибольшую трудность для фельдмаршала создавало политическое состояние Польши. Он не мог игнорировать ожесточенную борьбу политических партий, которая со вступлением русских войск в пределы Польши получила особую напряженность. Русский посланник в Польше князь Г. Ф. Долгоруков 24 сентября 1715 года писал ему, что Польше грозит «война домовая», которая может причинить «немалое повреждение в интересе его царского величества». По мнению Долгорукова, если борющиеся партии «добрым способом чрез перо успокоить будет невозможно», то присутствие русского войска в Польше станет необходимым{330}. Предположение Долгорукова скоро оправдалось: в письме от 3 октября он уже сообщал Шереметеву, что «в Польше от неприятельских факцей великой огонь разгораетца…» и «кругом всей Варшавы делают в улицах надолбы», иначе сказать, баррикады, ввиду чего польские министры и польский фельдмаршал Флемминг просили Шереметева приехать в Варшаву и с ними «в нынешних конъюктурах в ынтересе его царского величества с оными разговоритца»{331}. Шереметев, однако, от свидания уклонился.
Между тем Долгоруков в следующем письме от 7 октября расширил свою аргументацию в пользу вмешательства, иначе «вся Польша и Литва на короля взбунтует и выберут за короля силою Лещинского… Не токмо мне, – убеждал он фельдмаршала, – но и всем здесь министром будет немалое оскорбление, что в такое нужное время не изволите сюда быть и в нужном общем интересе разговоритца»{332}. Шереметев уступил его напору и 7 октября приехал в Варшаву, но тогда же попросил указа Петра на тот случай, если «министры польские и посол Долгорукий будут принуждать», чтобы он остановился в Польше, «пока уймется». «А я, – писал он в заключение, – без указу вашего величества в польския дела вступаться не смею и останавливаться в Польше не буду»{333}.
Тем не менее в Варшаве он пошел на компромисс, пообещав, что четыре пехотных полка генерала-майора Штока остановятся на время на правом берегу Вислы, а генерал-поручик Боур с кавалерией перейдет Вислу и станет на варшавской стороне. Донося о своих распоряжениях царю, он снова спрашивал, как ему поступать дальше, и, не беря на себя ответственности за принятые решения, прибавлял: «…а междо тем к оборонению вашего царского величества интересу способу будем искать с общаго совету»{334}.
Трудность положения Шереметева обусловилась тем, что одновременно не менее, казалось, важные мотивы толкали его в противоположном направлении. Если Г. Ф. Долгоруков убеждал его оставаться в Польше, то министры В. Л. Долгоруков и А. Г. Головкин настаивали на том, чтобы он шел в Померанию. Основной интерес датского и прусского королей заключался в том, чтобы не содержать русские войска даром на зимних квартирах, а это случилось бы, если бы они пришли в Померанию уже после прекращения военных действий.
Присланный Петром «в помощь» Долгорукову и Головкину П. И. Ягужинский писал еще в конце сентября 1715 года Шереметеву ввиду медленности его марша: «…короли здесь непрестанно о скором приходе войск упоминают, и мы уже и отговорок не находим»{335}. Дальнейшее промедление могло, по его мнению, иметь последствием, что прусский король «от недоброжелательных будет приведен к другому намерению», то есть откажется от русских войск. Напоминания о необходимости спешить составляют главное содержание и последующих писем как Ягужинского, так и обоих послов.
Легко представить себе состояние фельдмаршала, с первых дней похода поставленного перед такой дилеммой. 28 октября он получил указ Петра, как будто подтверждавший усвоенную им тактику, – «маршем не спешить» и подойти к бранденбургской границе «отнюдь не ранее декабря десятаго числа или половины»{336}. Однако следом за этим через три дня пришел другой указ, существенно менявший положение: «…чтоб, конечно, шел, несмотря на польския дела…»{337}. Шереметев ускорил движение и 20 ноября достиг Шкверина. Но здесь посланные ему навстречу генерал-адъютанты прусского и датского королей объявили, что их короли царских войск «не требуют» и пусть эти войска остаются в Польше.
Причина была в том, что начатые союзниками действия против Штральзунда и на острове Рюгене подходили к концу и, следовательно, нужда в русских войсках отпала. Ягужинский при этом «от прямого сердца объявлял», что если бы фельдмаршал успел хотя бы за две недели прийти до окончания «действия», то «более бы себе славу в Европе получил, нежели остановкою в Польше», потому что король шведский «сел в осаду» в Штральзунде и, следовательно, мог быть взят в плен. А если теперь Карл попадет в руки союзников, то «царскому величеству не зело приятно будет, что наших здесь нет». Ко всему этому Ягужинский добавлял, намекая, вероятно, на Г. Ф. Долгорукова: «И кто вашему сиятельству советовал удерживаться в Польше, тот воистину не как доброй ваш друг советовал…»{338}. Но Долгоруков, извещенный «министрами» о создавшемся положении, понял, что толкнул фельдмаршала на неверный шаг, и уже 25 ноября убеждал его «без всякого разсуждения в Померанию поспешать». «Для Бога, мой государь, изволь, отставя всё, туды поспешать, чтобы поздным своим приходом какова себе повреждения не изволили учинить»{339}.
Фельдмаршал предчувствовал гнев Петра. 17 декабря Долгоруков переслал ему царское письмо, которое, можно думать, заключало в себе реприманд за «проступку»: «При сем прилагаю письмо его царского величества… которое изволите разсудить без великой печали, чтоб вам на такой старости прежде времяни не повредить своего здоровья, понеже, чаю, и к Вам в таких же обыкновенных терминах писано, как ко мне…»{340}. Письмо царя к Шереметеву не сохранилось; но, вероятно, догадка Долгорукова, что оно написано «в таких же терминах», как и к нему, была верна. А Долгорукову Петр писал: «Я зело удивляюсь, что вы на старости потеряли разум свой и дали себя завесть всегдашним обманщикам и чрез то войска в Польше оставить». Еще ярче досада Петра выразилась в отзыве о Долгорукове, какой он делал в письме к Ягужинскому: «…на старости дурак стал и дал себя за нос взять»{341}.
Скоро за одной неприятностью последовала другая, находившаяся несомненно в связи с первой: особым письмом от 20 декабря Петр извещал Шереметева, что «для лучшаго исправления» положенных на него дел посылается к нему «в помочь» подполковник гвардии князь В. В. Долгоруков и фельдмаршал должен исполнять то, что он будет предлагать{342}. Это было явным знаком недоверия к Борису Петровичу. В сущности, у Долгорукова была та же роль, что во время Астраханского похода у Щепотьева. Но была большая разница в личных свойствах между тем и другим.
В. В. Долгоруков, будущий фельдмаршал, – одна из ярких фигур петровского времени. Прямой и честный, храбрый и сведущий в военном деле, он после произведенного под его командой подавления восстания Булавина и Полтавы пользовался исключительным доверием Петра и назначался выполнять ответственные поручения по военной и гражданской части. По словам саксонского посланника фон Лооса, в 1715 году Василий Владимирович был в большей милости у царя, чем Меншиков: «Царь, – писал Лоос, – берет его с собою на все свои маленькие забавы [увеселения] и не может обойтись без него ни одного дня»{343}. О короткости их отношений, не совсем обычной даже для Петра, свидетельствует тон едва ли не единственного сохранившегося письма Долгорукова к царю: «На день виктории левенгауптской[13]13
Подразумевается победа русских войск над корпусом А. Левенгауптом 28 сентября (9 октября) 1708 года под Лесной, которая праздновалась ежегодно.
[Закрыть] здоровье ваше так пили мощно, все пьяны были… А вам, чаю, завидно, что за лекарством нельзя пьяным быть (Петр лечился в это время в Карлсбаде. – А. З.); однако ж мню: хотя не все, а кто-нибудь пьяны были. Изволь к нам об этом отписать»{344}. С Шереметевым Василий Владимирович находился в очень хороших отношениях и свою задачу видел в том, чтобы помогать ему. Зато не было более непримиримого, чем он, врага у Меншикова.
Вот случай, который говорит о том, как он понимал свои обязанности. Согласно постановлению консилии, полки, переведенные на новые квартиры, должны были получать провиант со старых квартир, для высылки которого там оставалось несколько офицеров и солдат. Однако, придя на новые квартиры, войска начинали и с них брать провиант, получая его, таким образом, вдвойне. Тем самым «чинилась обида для обывателей». «Понесем слово нехорошее о нашем непорядке… – писал Долгоруков Шереметеву. – Я вашему превосходительству доношу… Мне больше того делать не можно, что вам доносить…»{345}. В его действиях явно чувствуется желание предупредить возможные для Шереметева неприятности, а не навлекать их, как делал Щепотьев.
* * *
Ввиду отказа союзников принять русские войска их содержание опять падало на Польшу. «Мы никому ничем не виноваты, а нас обижают, – писал Шереметеву подскарбий коронный Пре-бендовский, – будто где забор низкой, то всякой может чрез то преступати… и в Польском государстве так поступали, будто в проходящих палатах»{346}.
Энергично настаивал на очищении русскими войсками польской территории и король. Но постепенно дело о размещении русских войск уладилось. Помогло внезапно возникшее у прусского короля Вильгельма желание отнять у шведов Висмар и при этом «все действия» против Висмара, по выражению канцлера Г. И. Головкина, «на наших навалить». Вильгельм вдруг не только согласился принять на себя содержание 15 батальонов пехоты и 1000 драгун, но и обнаружил чрезвычайную предупредительность по отношению к фельдмаршалу, предлагая, например, ему «свободу» охотиться в своих владениях, уверяя, что он всегда «за великое удовольствие» почитать будет «какую-либо показать услугу», а под письмом своим к Шереметеву подписывался: «Господина графа благосклонный друг Вильгельм»{347}.
Для Петра второстепенное значение имел вопрос, как его союзники распределят между собой шведские владения в Северной Германии и кто из них больше выиграет, хотя его личные симпатии и начинали заметно склоняться на сторону прусского короля. Царю прежде всего было важно, чтобы союзники не бездействовали и чтобы Швеция понимала: за ними стоит Россия.
18 февраля 1716 года Шереметев переехал в Данциг, куда через месяц прибыл и Петр. Борис Петрович ждал царя в большом смущении. Петр был недоволен фельдмаршалом. С конца декабря 1715 года он перестал лично писать ему и все распоряжения передавал через В. В. Долгорукова и министров.
Прекращение личной переписки было действительно признаком сильного гнева Петра и приводило в отчаяние его сотрудников. Подвергшийся в этой форме неудовольствию Петра много раньше описываемых событий князь Г. Ф. Долгоруков в таких словах выражал свое душевное состояние в письме к Ф. А. Головину: «Воистино, когда сие писал, от великих слез с трудом бумагу видел. Может, меня Бог от того мнения избавит… токмо терпеть навозможно: чаю, от такой безмерной печали в током злом отлучении скора дойтить смерти»{348}. Сенатор П. М. Апраксин при аналогичных обстоятельствах поражен был параличом{349}. Приблизительно так же чувствовал себя теперь и Борис Петрович: «Пожалуй, государь мой, – обращался он к тайному кабинет-секретарю Петра А. В. Макарову, – уведоми меня, нет ли вящаго на меня гневу его величества, а я от печали своей – уже одна нога моя в гробу стоит и болезнь моя умножается, а паче же безпамятство великое пришло». Он не знал, как и встречать ему ожидаемого в Данциге царя, и просил Макарова «научить» его: «Велеть ли мне себя, больного, вывезти навстречу или ожидать указу»{350}.
По приезду Петра произошло устное объяснение. Тут выяснилась главная причина недовольства царя. Фельдмаршал отправился в Померанию, как и в другие походы, со «своим домом», то есть с большим обозом, занимавшим собой огромное количество лошадей. Хотя состоявший при датском дворе послом князь В. Л. Долгоруков предупреждал его – правда, несколько запоздало, – что «зело великий» багаж при множестве людей и лошадей может «великие офицером причинить убытки…», так как союзники будут давать провиант и фураж по своим штатам, «а здесь у лутчаго фелтьмаршала… больше 40 или 50 лошадей нет»{351}.
Великие «убытки» грозили и Шереметеву, у которого одних лошадей было до 300. Деваться было некуда, и фельдмаршалу пришлось прибегнуть к сборам с населения. Таким образом, по его словам, сверх положенных ему 200 порционов, он «для своего собственнаго пропитания и всего дома своего на кухню и на всякие нужды… собрал чрез всю бытность в Польше с квартир по доброй воле и согласно с обывателями, а не иными какими своими нападками 8600 курантталеров»; кроме того, принял в подарок цуг лошадей и коляску от воеводы познаньского да лошадь с седлом – от его брата, хотя «и я их по своей возможности дарил же»{352}, – объяснял эти подарки Шереметев. «Добрая воля» населения, вероятно, вызывала у Петра сомнения, а подарки скорее всего означали, что дававшие их владельцы имений освобождались таким способом от участия в снабжении провиантом. Во всяком случае, Петр не был удовлетворен объяснениями. И хотя после того он стал писать фельдмаршалу, тот чувствовал, что царь продолжает сердиться.
В Данциге был решен вопрос о свадьбе герцога Мекленбургского с племянницей царя Екатериной Ивановной. При помощи этого брачного союза Петр надеялся сделать Мекленбург опорным пунктом России в Северной Германии. В частности, здесь предполагалось разместить те русские войска, которым не находилось места у союзников. Отсюда также можно было оказывать давление на Данциг, который еще в 1713 году обязался прекратить торговлю со шведами и выставить против них четыре капера, но не только ни того, ни другого не сделал, но теперь в резкой форме отказался выполнять свои обязательства. Уезжая, царь поручил Шереметеву «принудить» город к выполнению своих требований всякими мерами: «Я подлинно, – писал он фельдмаршалу, – от сей правой претензии не отстану, и сей город, ежели не склонится, чрез пургацию вылечим, для чего уже привезены пилюли сюда». Под пилюлями подразумевалась артиллерия{353}.
После отъезда Петра Шереметев занялся исполнением возложенных на него поручений. Покинув Данциг, он объявил его неприятельским городом. Но тут фельдмаршала сразила болезнь. «Не могу с постели встать, – извещал он Петра из местечка Пилы, – и как прежняя болезнь была, так и ныне гортанью кровь идет, в чем я прошу вашего царского величества милостиваго уважения…». Впрочем, тут же он обещал «неотлагательно» поехать к войскам…{354}
* * *
В декабре 1716 года, согласно указу Петра, Шереметев предложил герцогу Мекленбургскому расположить четыре русских полка в мекленбургских городах. Так как по заключенному с царем договору герцог обязался только пропускать русские войска через свои владения и строить магазины, то он имел право в этом отказать, что и сделал. Кончилось, однако, дело тем, что фельдмаршал «с господами генералитетом… в консилии положили – четыре полка для лучшаго содержания на порционы в городы ввесть…»{355}, и герцогу волей-неволей пришлось с этим согласиться.
Главной задачей фельдмаршала в это время была подготовка десанта в Швецию. Высадку на полуостров Сконе Петр считал лучшим средством принудить Швецию к миру и употреблял все усилия, чтобы привлечь к этой операции своих союзников, особенно датского короля, а также короля английского, считая, что без содействия английского флота высадка будет делом рискованным. Но союзники, в особенности англичане, выставляли непременным условием своего участия в десанте требование о выводе русских войск из Мекленбурга: они едва ли не больше, чем шведской опасности, боялись, что Россия прочно обоснуется в пределах Северной Германии. При датском и английском дворах высказывались подозрения насчет истинных намерений Петра, и дело тормозилось. В сентябре консилия предложила отложить высадку до будущего года. Петр неохотно с этим согласился. Правда, и в следующем году ничего не изменилось, причем самую активную роль в противодействии планам России играл английский король, в отношении которого В. Л. Долгоруков заметил, что он «безо всякого для себя убытку хочет быть господином Северной войны и мира…»{356}.
Наступившим затишьем в войне Шереметев думал воспользоваться, чтобы съездить в Москву, и просил царя об отпуске. Не получив ответа, он обратился к кабинет-секретарю Макарову, подробно изложив обстоятельства, вынуждавшие его добиваться отпуска. Получилась яркая картина душевного состояния пожилого фельдмаршала и его семейных дел. Он писал, что для него приближается время «отходить сего маловременнаго веку»; ввиду этого он заблаговременно хотел бы устроить свои семейные и хозяйственные дела: «…сколько лет не знаю, что в домишке моем, как поводится и в деревнях, чтоб я мог осмотреть и управить»; а «управивши» дела в Москве, он должен озаботиться и устройством «домишка», где ему «жить и умирать в царствующем граде Петере»{357}.
Но просьба осталась без удовлетворения. Вместо отпуска фельдмаршалу пришлось выступить в поход. Под давлением союзников, настаивавших на удалении русских войск из Мекленбурга, Петр указом от 22 января 1717 года приказал ему идти в «польские границы». Вынужденно согласившись с мнением консилии, он считал Шереметева едва ли не противником десанта: «Понеже, – писал он с явной досадой, – от вас и некоторых генералов удержан и отставлен, от чего какие худые следования ныне происходят: английский – тот не думает, а датчане ничего без него не смеют, и тако со стыдом домой пойдем». А между тем, «…ежели б десант был, уже бы мир был, а ныне все вашими советами опровержено, и война в даль пошла»{358}. И это при том, что Шереметев, а вероятно, и весь генералитет высказались о целесообразности десанта, то есть все дело было не в них, а в английской политике. Охлаждение между Петром и союзниками было настолько велико, что само по себе, помимо других осложнявших вопрос обстоятельств, сделало десант неосуществимым.
Поход в Померанию близился к концу. Шереметев, выйдя в «польские границы», простоял здесь несколько месяцев в ожидании дальнейших распоряжений, и ему пришлось снова выдерживать ожесточенные протесты поляков. «Поляки, – писал ему князь Г. Ф. Долгоруков, – превеликую злобу и нарекание на войски наши имеют. А ныне и наипаче новой ваш збор в провиянте… оных побуждает и в великую приходят десперацию, что, приходя ко мне, непрестанно жалобы приносят… отчего я, как могу, выговариваю, и уже не знаю, как выговариваться»{359}. Наконец, после нескольких указов, выражавших колебания Петра, фельдмаршал получил указ от 29 октября 1717 года, предписывавший ему возвращение в Россию.
Таким образом, в этом походе Шереметеву, по существу, не пришлось воевать. Его задача свелась к почти всегда бесплодным раздражающим переговорам с союзниками и лавированию между противоречивыми их стремлениями. Все благие начинания тонули в дипломатической трясине. Всего более, однако, удручало фельдмаршала то, что испортившиеся отношения с царем не налаживались, и Борис Петрович попробовал еще раз объясниться с царем. Незадолго перед выступлением из Польши он обратился к нему с письмом, в котором, изложив известные нам обстоятельства и признав свое «погрешение», прямо просил о прощении: «А ныне за таким вашего величества гневом прихожу в крайнее живота моего разрушение и с печали при самой смерти обретаюсь, и того ради не иным каким образом перед вашим Царским величеством оправдать себя в том могу или извинение представить, токмо всепокорно прошу показать надо мною, рабом своим, свое милосердие»{360}. Ответа не было. Оставался последний ресурс – обращение к царице. В дело вступился, видя отчаяние фельдмаршала, князь В. Л. Долгоруков, посол при датском дворе, которого Борис Петрович называл иногда в письмах племянником. Он, прося Екатерину письмом о милости к фельдмаршалу «за все его службы», так выразил впечатление, которое в это время производил Борис Петрович в своем горе: «Истинно в такой он десперации – жалко на него смотреть…»{361}. Это средство подействовало: Шереметев был прощен.
Чтобы иметь правильную меру при оценке «погрешений» фельдмаршала, надо иметь в виду, что подобные злоупотребления были в то время самым обычным явлением среди командующих лиц и офицеров русской армии (так же, как и в армиях западных), и Шереметев не только не был исключением, когда позволял себе «излишние» сборы на свой дом, а, наоборот, был бы исключением, если бы этого не делал. Гнев Петра на него объясняется бесплодностью его борьбы с такого рода злоупотреблениями, на которые он стал получать жалобы, можно сказать, с момента вступления русских войск в Польшу в 1712 году и которые особенно возросли при Меншикове. Царь много раз требовал у Шереметева, чтобы он не допускал притеснений полякам со стороны офицеров и солдат, и понятно его негодование, когда сам фельдмаршал оказался небезупречным в этом отношении. Впрочем, Петр, может быть, не вполне учитывал преувеличения в жалобах со стороны поляков, о которых Шереметев писал Долгорукову: «…господа поляки обыкли жалобы чинить на наши войски, а прямо нихто ни в каких обидах или непорядках доказать не могут»{362}.
Вместе с прощением фельдмаршал получил разрешение ехать в Москву. Вскоре, однако, последовала перемена: 29 октября 1717 года царь приказал «ехать прямо сюда в Петербург»{363}. Но через две недели было изменено и это предписание: «…ныне по получении сего письма поежайте лучше к Москве… ибо и сами мы туда же едем…»{364}.
Таким образом, место отпуска фельдмаршала определялось не его желанием, а пребыванием царя, и только по счастливой случайности все совпало. Наступало, может быть, самое тяжелое время в отношениях Петра и Шереметева: начиналось дело царевича Алексея Петровича.
Прошло более года после бегства царевича. Известный сначала немногим факт постепенно получал все более широкую огласку, вызывая разнообразные слухи и догадки. Зерно действительности обрастало вымыслом. Австрийский резидент Плейер еще в январе 1717 года доносил цесарю: «Гвардейские полки, составленные большею частию из дворян, замыслили с прочими войсками в Мекленбургии царя убить… и правление вручить кронпринцу…» Никто из современников не повторил потом этого невероятного слуха. Правдоподобнее другое сообщение Плейера от того же времени: «Царь прислал Меншикову повеление обо всем разведать и сообщить ему список всех званий, которые часто виделись с царевичем…»{365}.
Конечно, перебирали наиболее видных лиц из придворных кругов и, естественно, не могли пройти мимо Бориса Петровича. Г. Ф. Долгоруков предупреждал его о распространяемых на счет их обоих «небылицах», будто царевич по отъезде из Петербурга послал к фельдмаршалу какие-то письма с польским офицером, а тот, не найдя его, поехал с теми письмами к Долгорукову. «Изволите, – заключил Долгоруков, – не токмо себя и меня искусно в таких лжах, ежели возможно, предостеречь»{366}. Да и сам Борис Петрович еще в Польше был в курсе такого рода опасностей и, со своей стороны, предупреждал тех, кому эти опасности могли угрожать. Надо думать, что именно такой смысл имело посланное им с дороги письмо к князю В. В. Долгорукову{367}.
В середине декабря Шереметев приехал в Москву. Царь был уже там. 31 января 1718 года туда же привезен был царевич. В первых же своих показаниях он назвал ряд лиц, содействовавших его бегству. Среди них главная роль отводилась А. В. Ки-кину. Немедленно того привезли из Петербурга в Москву – он был первым из тех, кто подвергся розыску. Кикина судили «министры» и приговорили к жестокой смертной казни. Среди других судей приговор подписал и Борис Петрович Шереметев. Для него, надо думать, это был очень нелегкий момент при существовавших между ним и Кикиным отношениях. В феврале доставили из Петербурга в Москву и другого близкого фельдмаршалу человека – князя В. В. Долгорукова, одного из главных сторонников царевича.
18 марта Петр уехал в Петербург, где тоже производился розыск. Борис Петрович оставался в Москве. Он с тревогой следил за тем, что происходило в Петербурге. 9 апреля он писал Ф. М. Апраксину, что «ножная» болезнь его «не умаляется», тем не менее он ждет только, когда просохнет дорога, чтобы поехать в Петербург, а пока у него просьба к Апраксину: «При сем же вашему сиятельству наупоминаю, ежели когда позовет какой случай обо мне (то есть явится какая-нибудь опасность. – А. З.), то с покорностию прошу, по своей милости, охранить…»{368}.
Его сильно тревожило, как относится царь к тому, что он продолжает оставаться в Москве: верит ли, что причина задержки его – болезнь? Видимо, при своем отъезде из Москвы Петр пожелал, чтобы Шереметев также ехал в Петербург. Как убедить царя, что не какие-нибудь другие соображения, а единственно болезнь задерживает его в Москве? «Только к болезни моей есть еще прибавка, которою умножается (болезнь. – А. З.), – убеждал он царя, – ибо я печалюсь, думая, чтобы ваше величество не изволили о болезни моей усумниться, в каком она состоянии, и будто я вашему величеству неимоверен и живу здесь для каких-либо своих прихотей. А как вашему величеству известно, что я, кроме Бога и вашего величества, всемилостивейшаго моего государя, никого не имею и милостию вашего величества взыскан, то как на конец жизни моей явлюся перед вашим величеством в притворстве, а не в истине»{369}. Совершенно ясно, что подразумевалось не простое ослушание, а что-то гораздо более серьезное, в чем фельдмаршал боялся, что его подозревали и чего он не хотел назвать прямо.
В конце июня проезжал через Москву митрополит киевский Иосаф Кроковский. Тяжелобольного его везли в Петербург также по делу царевича. У Бориса Петровича было с ним близкое знакомство; возможно, что они были товарищами по Киевской академии. Встреча, происшедшая при таких обстоятельствах, должна была, конечно, удручающим образом подействовать на фельдмаршала. В то же время его глубоко огорчало продолжительное молчание его друга Ф. М. Апраксина, едва ли случайное. «К болезни моей смертной и печаль меня снедает, – писал он Апраксину 25 сентября, – что вы, государь мой, присный друг и благодетель и брат, оставили и не упомянитеся меня писанием братским христианским присетить в такой болезни, братскою любовью и писанием попользовать». Он просил Апраксина «донесть» Петру о том, что, несмотря на помощь «всех обретающихся в Москве господ докторов», в его состоянии нет никакого улучшения, и он хочет «для последняго искушения» ехать на Олонецкие воды{370}. 9 октября он получил ответ. Петр писал из Петербурга: «Господин фельтмаршал. Письмо твое я получил, и что желаешь ехать к водам, в чем просишь позволения, и се то вам позволяется, а оттоль – сюда»{371}. Царь хотел, чтобы Шереметев непременно был в Петербурге и даже поручил следить за этим московскому обер-коменданту Измайлову, извещая последнего, что фельдмаршалу дано позволение ехать на Олонец «по самому первому пути»; он даже дал Измайлову обидное для фельдмаршала полномочие: «…далее Петрова дни мешкать не давай»{372}. Со своей стороны, фельдмаршал, хотя бы уже по сухости царского письма, видел, что недоверие у Петра к нему оставалось, и он еще два раза пробовал убедить царя в серьезности своей болезни: «…только ежели жив буду и сподоблюся очи вашего величества видеть, – писал он 29 октября, – тогда сами изволите увидеть, какую я имею тяжкую болезнь»{373}.