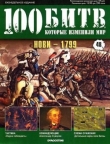Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
8
Итак, перед нами обозначились две группы в составе столичного дворянства, каждая – с особым социальным положением и с особым складом мировоззрения: одна – феодально-дворянская, другая – буржуазно-дворянская, причем разделяющим их признаком был главным образом родословный принцип, юридически ставший анахронизмом, но фактически продолжавший жить в традициях аристократии. Какие отношения установились между этими группами в жизни?
Послушаем свидетеля-современника, а вместе и яркого представителя одной из них, известного нам князя Б. И. Куракина. «И в том правлении (т. е. при Петре. – А. З.), – повествует он в своей «Гистории», – наибольшее начало падения первых фамилей, а особливо имя князей смертельно возненавидено и уничтожено как от его царскаго величества, так и от персон тех правительствующих, которые кругом его были, для того что все оные господа, как Нарышкины, Стрешневы, Головкин были домов самого низкаго и убогаго шляхетства и всегда ему внушали с молодых лет противу великих фамилей». Припомним, кстати, как уже один вид Шереметева с мальтийским крестом на груди, этой эмблемой аристократизма, вызвал раздражение у окружающих. Но у Петра, по мнению автора «Гистории», была и личная причина враждебного отношения к «первым фамилиям»: «К тому ж, – продолжает он, – и сам его величество склонным явился, дабы уничтоживанием оных (князей. – А. З.) отнять у них повоир весь и учинить бы себя наибольшим сувреном»{476}. Здесь ясное указание на ограничение притязаний боярской знати. Фактических проявлений таких притязаний в петровское время мы не знаем, если не преувеличивать значения темных слухов о том, что, отправляя в 1697 году сыновей знатнейших бояр в Италию, царь думал тем самым обеспечить себя от возможного со стороны их отцов заговора{477}. Несомненно, однако, что Петр не доверял, за немногими исключениями, родовитой знати и что его раздражение направлялось против питаемых ею родовых традиций. Очень ярко его враждебное отношение к самому принципу ро-дословности сказалось в том пункте составленной им «позывной» грамоты на свадьбу князь-папы Н. М. Зотова в 1715 году, который адресовался специально знатнейшим лицам: «Позвать вежливо, особливым штилем, не торопясь, тово, кто фамилиею своею гораздо старее черта…»{478}. Но еще более резкое, даже чрезвычайно грубое выражение этого желания унизить притязательную знать мы видим в его действиях. Б. И. Куракин перечислил издевательства, которым подвергались «знатные персоны» во время святочных забав, и заключил: «И сия потеха святков так происходила трудная, что многие к тем дням приуготавливалися как бы к смерти»{479}.
Известно, что Петр от всех «царедворцев» требовал непременного участия в устраиваемых им шуточных процессиях и маскарадах, не допуская ни для кого исключения. В маскараде по случаю свадьбы князь-папы все должны были идти ряжеными с разными музыкальными инструментами, и исключения не было сделано даже для таких старцев, о которых в росписи сказано: «Сии – без игр (то есть инструментов. – А. З.) для того, что от старости своей не могут ничего в руках держать»{480}. Но если для царя и его «компании» участие в маскараде было веселым времяпровождением, то «первыми фамилиями», особенно их старшим поколением, оно воспринималось как унижение. Петр это знал и, может быть, потому, что унижение фамильной гордости в данном случае было его целью, смотрел на уклонение от подобных празднеств как на демонстрацию. М. А. Головин не хотел на свадьбе Зотова рядиться и пачкаться сажей и за это раздетый донага наряжен был чертом на невском льду. Вышло так, что «черт» не вынес холода, схватил горячку и вскоре умер.
Но демонстрации, хотя бы самые скромные, вроде поступка Головина, были крайне редки. Знать выказывала полную покорность и искала дружбы у «господ из самого низкого шляхетства», о которых говорил князь Куракин, и даже еще более «низкого» – таких как А. Д. Меншиков. С течением времени между обеими сторонами постепенно происходило сближение и устанавливалась известная солидарность на почве общего экономического интереса. На эту солидарность напирал, как помним, Б. П. Шереметев, убеждая А. Д. Меншикова вступиться за его права на доходы с Пебалгской мызы. И благодеяния Меншикова принимал далеко не один Б. П. Шереметев. Пропитанный родословным гонором князь Б. И. Куракин тоже вот как писал однажды Александру Даниловичу: «Прошу вас, моего милостивого государя, чтоб прислано что было денег, чем жить (в Риме. – А. З.), и, кроме вашей милости, к себе иного никого не имею». Разве только князья Долгоруковы, в особенности самый даровитый из них Василий Владимирович, остались непримиримыми. Впоследствии обнаружилась солидарность и другого рода – в расхищении государственных средств, благодаря чему рядом с хищниками из низов, такими как Меншиков, стал такой почтенный представитель родовой аристократии, как князь Я. Ф. Долгоруков.
В процессе взаимного сближения новая знать обменивалась признаками со старой. Меншиков и формально и фактически делался владетельным князем, а Б. П. Шереметев был близок к тому, чтобы признать единственным источником своих прав милость государя. На смену московскому боярству приходил новый тип – российский вельможа. Параллельно с описанным процессом, по мере того как вырабатывался и совершенствовался новый государственный аппарат, бывшая вначале боевым орудием царя «компания» утрачивала свое деловое значение и растворялась в придворной среде.
Верил ли Петр в перерождение старого боярства? Отношение его к Б. П. Шереметеву говорит против этого. Мы можем сказать, что они были чужды друг другу как представители разных течений в процессе европеизации России.
9
Пока мы остаемся в пределах действий и положений, из которых слагается служебная биография фельдмаршала, его жизненный путь представляется простым и ясным. Конечно, он, как всякий полководец, терпел временами неудачи на поле сражения – может быть, чаще, чем более замечательные полководцы. Но эти неудачи не имели катастрофических последствий в ходе военных действий и не отражались крупными переменами на его собственном положении. Картина становится гораздо более сложной, когда мы начинаем всматриваться в отношения фельдмаршала к окружающей среде, те отношения, которые не исчерпываются одним каким-нибудь моментом его жизни, а постоянно сопутствуют ему, образуя постоянную социально-политическую атмосферу его как государственного деятеля. И в этом случае, естественно, на первом плане выступают его отношения с царем Петром I.
Петр был очень щедр по отношению к Шереметеву на почетные награды. Уже в 1700 году, как мы знаем, Борис Петрович получил чин фельдмаршала и вместе с тем орден Андрея Первозванного, в 1705 году он стал графом, в 1706 году – генерал-фельдмаршалом[14]14
Генерал-фельдмаршалом Б. П. Шереметев именуется в официальных документах с июня 1701 года, но фактически им становится позднее, в 1705–1706 годах.
[Закрыть]. Все бывшие в распоряжении Петра высшие знаки отличия были исчерпаны на нем. Не раз, как мы знаем, Шереметеву оказывались также публичные почести вроде торжественных встреч, а обширные земельные награды, дававшиеся, правда, уже с меньшей охотой, сделали его одним из крупнейших вотчинников того времени.
Эти внешние знаки признания не выражают, однако, истинного отношения Петра к фельдмаршалу. На самом деле царь видел его слабые стороны, часто бывал недоволен им и в письмах не жалел резких слов для выражения своего недовольства. В его глазах отговорки Бориса Петровича скрывали за собой неподвижность и упрямство. На эту тему между ними бывали и личные объяснения. Иногда фельдмаршал обвинялся в формальном отношении к делу: «И сие подобно, – писал ему Петр, – когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справится, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды вынуть»{481}. Иногда он прибегал к прямым угрозам. Вот письмо, от которого фельдмаршалом, по его собственному признанию, овладела «меленколия» и едва не убил «паралиж»: «И по сему делай, делай, делай. Волыни писать не буду, но своею головою заплатишь, ежели апять толковать указ станешь»{482}.
Шереметев не избежал и общего правительственного недуга своего времени, с которым Петр неустанно боролся в течение всей жизни и который портил его отношение к наиболее близким людям, – злоупотреблений властью в целях обогащения. Шереметев не обвинялся в казнокрадстве, которым запятнали себя едва ли не все сотрудники Петра и больше всех Меншиков, но он не стеснялся брать излишки и так называемые добровольные подарки на содержание своего походного «дома» с населения тех мест, где устанавливал свою «квартиру». После «доносительного письма» полковника Г. С. Рожнова, о чем мы уже рассказывали, возникло аналогичное дело, подробности которого нам неизвестны. Но из переписки разных лиц видно, что царь был в сильном гневе на Шереметева.
Так или иначе все подобные коллизии разрешались. Гораздо хуже было другое: Петр не только бывал недоволен фельдмаршалом, но и порой не доверял ему, считал его неискренним. Приходится еще раз привести его слова из письма к Меншикову в 1708 году, когда он говорит о «старой обыкновенной лжи» Шереметева.
Известно, что в молодые годы Петра I Шереметев держался в стороне от соперничающих партий Милославских и Нарышкиных, а когда произошел открытый разрыв между Петром и Софьей, он без колебаний и одним из первых среди бояр явился к Петру. Несомненно, однако, что по складу своего мировоззрения и фамильным традициям Шереметев был ближе к партии Софьи, и можно было подозревать, что он так решительно стал на сторону Петра не столько из сочувствия к нему и представляемому им мировоззрению, сколько вследствие личной вражды к фавориту Софьи, князю В. В. Голицыну{483}. Обращает на себя внимание именно в этой связи уже отмечавшийся факт, что и после того, и даже после Кызы-Кермена он оставался воеводой в Белгороде. В отношении к «ближнему боярину», каким значился в это время Борис Петрович, такое продолжительное, в течение почти восьми лет, воеводство представляется странным и необычным обстоятельством и наводит на мысль: не держали ли его намеренно подальше от Москвы?
В том же направлении ведут нашу мысль и другие факты. Корб сообщает, что накануне своего отъезда за границу Петр в собрании бояр поставил вопрос, кому поручить на время его отсутствия Москву. И когда кто-то из бояр назвал Б. П. Шереметева, то будто бы царь, зная, – будем говорить словами Корба – «…что этот советчик противится его начинаниям… дал ему пощечину и спросил гневным голосом: неужели и ты ищешь его дружбы?»{484}.
В другом месте, не называя Шереметева, но ясными указаниями биографического характера не оставляя у читателя сомнения, о ком идет речь, Корб дает понять, что путешествие Бориса Петровича на Мальту было на самом деле почетной высылкой, вызванной опасением, как бы не произошло в Москве переворота в его пользу за время отсутствия уехавшего тогда за границу царя. «И разумеется, – соображает Корб, – не было бы сделано таких издержек на приобретение почетного Мальтийского креста, если бы расположение народа не склонялось чрезмерно к одному лицу и не заставляло бы этим подозревать ту опасность, в силу которой царская власть часто переходит от одного лица к другому… В самом деле нет ничего обыкновеннее, как высылать под личиной почета из столицы тех лиц, могущество которых или всеобщее к ним расположение внушают опасения; если бы такие лица и были вполне невинны, то они могли бы, вероятно, посягнуть на что-нибудь, раз к тому представился бы случай»{485}.
Догадки Корба, может быть, и не были чистой выдумкой. Действительно, путешествие Шереметева в официальном освещении как частное дипломатическое поручение вызывает сомнения, поскольку представляется ненужным рядом с отправившимся уже в Европу «Великим посольством», которое по первоначальному плану должно было посетить и те страны, куда ехал Шереметев, а вместе с тем сомнительно оно и как чисто личное предприятие ввиду возраста и характера самого путешественника. С другой стороны, припомним, что в это самое время стрелецкий полковник И. Циклер и окольничий В. Соковнин замышляли переворот с устранением Петра и с возведением на престол вместо него Б. П. Шереметева. Конечно, сам Шереметев ни в каких таких заговорах и замыслах не участвовал, как думал и Корб, но разговоры, видимо, были и, дошедши до правительства, естественно, должны были усилить подозрительность Петра.
Эту подозрительности в отношении к Шереметеву можно заметить и во время астраханского восстания 1705 года. Петр послал Шереметева на подавление восстания, оторвав его от операции в Курляндии. Казалось бы, это обстоятельство должно говорить об особом доверии к фельдмаршалу. В действительности выбор Петра определялся более сложными соображениями и обнаруживает несколько иной его взгляд на фельдмаршала. Петр хотел уладить дело в Астрахани по возможности мирным путем; следовательно, ему надо было послать туда человека, который имел бы авторитет в глазах восставших, которые поднялись под лозунгами защиты православной веры и старых обычаев против нововведений; поэтому было бы, очевидно, нецелесообразно посылать «нового» человека вроде Меншикова и тем более иностранца; наоборот, трудно было найти более подходящего, чем Шереметев, по той репутации, какой он пользовался. Таким образом, выбрав Шереметева, царь показал, что считает его наиболее отвечающим указанному условию, то есть в достаточной мере консервативным. Но не скрывалась ли в этих свойствах Шереметева и в его авторитетности в глазах астраханцев опасность другого рода? И такая мысль, по-видимому, была у царя: вслед за Шереметевым в Астрахань посылается Михаил Щепотьев, дабы надзирать за действиями фельдмаршала.
Мы имеем, наконец, и еще один показательный факт – отношение Петра к Шереметеву в связи с делом царевича Алексея, который назвал Шереметева в числе лиц, ему сочувствовавших. Не были, без сомнения, для Петра тайной и дружеские отношения Шереметева с главным деятелем в истории царевича А. В. Кикиным. Петр, без сомнения, знал, что никакой склонности у Шереметева к действию в пользу царевича не было, но в то же время понимал, что его имя, связанное с именем царевича, служило в некоторой мере знаменем в руках противников нового порядка. Поэтому, может быть, он и требовал в конце 1718 года переезда фельдмаршала из Москвы в Петербург, несмотря на его тяжелую болезнь.
Словом, независимо от своей воли в силу только особенностей своего культурно-социального облика Шереметев был опорой или, лучше сказать, надеждой политической оппозиции при Петре. Отсюда чувство недоверия к нему, возникшее у Петра едва ли не с самого появления Шереметева в рядах его сторонников и, по-видимому, никогда его не оставлявшее. Естественно, как при этом чувстве воспринимались и расценивались Петром недостатки и промахи Бориса Петровича как полководца: они казались ему выражением безразличного отношения к делу со стороны фельдмаршала. Обвинение Шереметева в «старой обыкновенной лжи», звучащее несколько странно, имело, по-видимому, свою внутреннюю логику.
10
Источник переживавшейся Шереметевым драмы – в его социальном положении. Представитель старой московской знати, оформивший до известной степени свое мировоззрение с помощью элементов аристократически-феодальной культуры Запада, Борис Петрович как личность оставался всегда самим собой и не мог стать другим; но вместе с тем он хотел быть и сам считал себя верным слугой Петра. В какой мере фельдмаршал давал себе отчет в этом различии взглядов между ним и царем, нельзя сказать, но несомненно, что в отдельных моментах их взаимоотношений он чувствовал идеологическое расстояние, их разделяющее, и старался преодолеть его доступными ему средствами.
Частые упреки, чередующиеся с угрозами, недовольство и недоверие царя сделали Шереметева чрезвычайно осторожным в отношении его к Петру I. Страх вызвать необдуманным шагом гнев царя становится в последние годы жизни как будто доминирующим его настроением; запрос: «нет ли на меня вящего гнева его величества» получали от него по разным поводам и Макаров, и Брюс, и Апраксин, и Меншиков. Без царского разрешения он не отваживался пробыть лишних два-три дня в Гамбурге во время заграничного похода 1716 года, хотя и по самой уважительной причине: «Всепокорнейше ваше царское величество прошу, – писал он царю в Париж, – дабы мне здесь побыть дни два или три, понеже я в Гамбурге изыскал доктора искусного и желаю от него совету…»{486}.
Обыкновенно о своих личных делах и нуждах он просил ходатайствовать перед царем кого-нибудь из названных лиц, через них представлял даже и свои деловые соображения и только в крайних случаях обращался к царю сам. Бывало, что и в этих случаях он не решался обойтись без совета друзей. В 1705 году, составив возражения на данную ему Т. Н. Стрешневым по поручению царя инструкцию, он послал их своему «свату» Ф. А. Головину с просьбой: «Пожалуй, не поскучь, поразумей их и ко мне отпиши, нет ли какой в них противности». А в постскриптуме еще прибавил: «Молю тебя, чтобы по благоразумению твоему сие (не) было никому явно; имею тебя, государя моего, за патрона себе и брата»{487}. Головин же, хорошо понимавший положение фельдмаршала, в другой раз и сам дает ему понять, «не в указ, а советуя», как следует писать донесения государю – надо думать, тоже, чтобы не оказалось «противности»: «Письмо твое к великому государю послал, и хорошо, что кратко изволишь писать»{488}.
Бросается также в глаза крайняя осторожность Бориса Петровича в отношении к царевичу Алексею Петровичу. По-видимому, «дружба», если брать это слово для обозначения их отношений, началась задолго до катастрофы, когда разрыв между отцом и сыном разве только намечался, но и тогда уже Борис Петрович предпочитал не выставлять ее перед царем. В лагере под Полтавой он был лишь однажды у царевича за все время, пока тут оставался Петр, и то, как объясняется в походном дневнике фельдмаршала, по особой причине: «понеже государь царевич недомогал». Зато как только Петр уехал, он стал бывать у царевича ежедневно{489}.
Конечно, в действительной жизни такая напряженность отношений не могла быть постоянным состоянием: временами она рассеивалась, временами, может быть, и вовсе исчезала. Иногда, правда, всего два-три раза, фельдмаршал пробовал в своих письмах к царю взять тот шутливый тон, какой часто встречаем в переписке между Петром и ближайшими к нему лицами: выставить себя поклонником чтимого в «компании» царя Бахуса. «Пожалуй, государь, – заканчивал он одно из ранних своих писем, – попроси от меня благословения у всешутейшего (то есть потешного патриарха Н. М. Зотова. – А. З.) и поклонися каморатом моим: Александру Даниловичю, Гаврилу Ивановичю (Головкину. – А. З.), и про здоровье мое извольте выпить, а я про ваше здоровье обещаюся быть шумен…»{490}. В другой раз, много позднее, в 1715 году, после всякого рода осложнений в отношениях с царем он рисует в письме к Петру целую картину боя с «Ивашкой Хмельницким», устроенного им вместе с другими четырьмя приехавшими к нему «для совета» генералами по поводу «радостной вести» – о рождении у царя сына: «Я на утрии опамятовался на постели без сапог, без рубашки, только в одном галстуке и в парике, а Глебов ретировался под стол»{491}. Получилось, однако, не письмо, а литературное произведение, стиль которого выдает преднамеренность сочинителя и которое по этой причине едва ли произвело желаемое впечатление.
Бывали и без содействия «Хмельницкого» в отношениях царя с Шереметевым хорошие моменты. «При сем случае вашему сиятельству доношу, что его царское величество с государынею царицею сюда счастливо прибыл и меня милостиво восприял…»{492}, – сообщал, например, он Ф. М. Апраксину из Данцига в письме от 28 февраля 1716 года и видно, что был счастлив от этого приема. Но такие моменты обычно были ненадежны, как вышло и в настоящем случае: вскоре после того как писалось это письмо, настроение Петра резко изменилось.
Положение Шереметева в его отношении к Петру может быть дополнительно освещено еще и другим путем – чрез выяснение его отношений к разным группам и отдельным лицам среди сотрудников царя.
И по происхождению, и по складу мировоззрения Борис Петрович ближе всего был, несомненно, к группе родовой знати. Виднейшие ее представители – Долгоруковы, Голицыны, Куракины – даже состояли в родстве с ним, а Д. М. Голицын в силу особой близости был назначен Борисом Петровичем в духовном завещании душеприказчиком. Саксонский посланник фон Лоос говорит также об особенно тесной связи Шереметева с князем Василием Владимировичем Долгоруковым, игравшим большую роль в «деле» царевича. Долгоруков не только, по его словам, оказал Шереметеву большую услугу во время следствия над фельдмаршалом по доносу Рожнова, но и способствовал назначению фельдмаршала главнокомандующим в Померанию, будто бы убедив царя в ненадежности для этой цели Меншикова{493}.
Надо думать, что со всеми этими лицами была у фельдмаршала переписка; к сожалению, сохранились только письма его к В. Л. Долгорукову за 1715 год, но и то исключительно деловые, официальные, которые лишь стоящим в начале каждого обращением – «сиятельный князь, мой милый племянник» – выдают родственные отношения корреспондентов{494}. К другим лицам той же группы или от них к Шереметеву мы почти не имеем и официальных писем, и тем более «цыдул», как назывались записки частного характера, которые люди того времени имели обыкновение посылать в приложении к официальным письмам. Почему их нет в огромном эпистолярном наследстве фельдмаршала? Возможно, что это не случайность: во время розыска по «делу» царевича одни лица из этой группы привлекались к следствию, а другие могли этого ожидать, и поэтому уничтожение переписки было естественным предупредительным приемом с их стороны.
Зато перед нами открыты благодаря уцелевшей переписке отношения фельдмаршала к тесному и вместе с тем пестрому кружку, который назывался «компанией». Среди его корреспондентов А. Д. Меншиков, Ф. А Головин, Ф. М. Апраксин, Я. В. Брюс, А. В. Кикин. Это были разные люди и по своим личным свойствам, и по социальным признакам, по-разному связанные с Петром. Их особенности находят отражение и в отношениях между ними и Шереметевым.