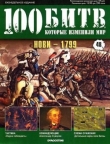Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
В это время Петр считал наиболее вероятным, что вторжение шведов пойдет через Украину, а потому Шереметев с главными силами должен был находиться «для управления дел» в Остроге и держать свой «корпус» в полной готовности: «Для Бога, извольте иметь прилежание, – писал ему Петр 28 января 1707 года, – дабы полки были готовы к весне и могли бы без нужды ходить, куды случай позовет, чтоб лошади и телеги были удобныя и довольно також и в протчих омунициях»{206}. Но прежде всего, конечно, как гласил царский указ от 19 июня 1707 года, фельдмаршал должен был «приложить свой труд» в заготовлении провианта. Также, предусматривая в зависимости от направления неприятельского вторжения возможность передвижения армии к северу, Петр предписывал устроить продовольственные магазины в Мозыре, Слуцке и Минске{207}.
В марте полномочия Шереметева были распространены на пополнение состава офицеров и солдат в полках и вообще «на всякие учреждении и приготовлении», что ранее брал на себя царь, а теперь «ради своего недосугу, – объяснял он Борису Петровичу, – полагаюсь и спрашивать буду на вас, в чем, для Бога, как возможно, труд свой приложите»{208}.
Так определился круг неотложных дел, которыми фельдмаршал был занят в течение первой половины 1707 года. В особенности нелегкой задачей был сбор провианта. Когда объявлен был царский указ, чтобы поляки «хлеб продавали поводьно, за что обещаны им деньги, никто, – доносил фельдмаршал, – не явился и не продают»{209}. Пришлось описать в Волынском воеводстве весь хлеб у шляхты.
Немало неприятностей причинил ему в этом деле специально присланный Петром для сбора провианта М. Г. Ромодановский, заведовавший Провиантским приказом. «Зело князь Рамадановскай оплошно провиянт збират и ничево у нево в зборе нет, – описывал Борис Петрович деятельность Ромодановского своему приятелю Я. В. Брюсу, – заехал в Дубну и живет адин: что хочет – делает, не толька имеет удовольство, и несколька десеть (десятков. – А. З.) бочок и венгерскова есть, и многих паграбил: платья и лошади, и фанты[8]8
Фанты – здесь: вещи.
[Закрыть], и кареты, и возники, и к Москве послал. А мне – великая дакука и жалоба…»{210}. Но не только Ромодановский позволил себе насилие. Фельдмаршалу известно стало через сына, что артиллеристы Брюса дорогой в походе «деревни… многие разорили… и мужиков разогнали…»{211}, и он потребовал от начальников артиллерии применения строгих мер в том случае, «ежели кто учинит озлобление или обиду… обывателям»{212}. Впрочем, несмотря на все трудности, фельдмаршал справился с задачей.
Шереметеву были известны злоупотребления офицерского состава. Тому же Брюсу он предписывал «нетяглых» волов, предназначенных в пищу, «роздать поротно, дабы какой от афицеров солдатом не было показано обиды»{213}. Следил фельдмаршал и за тем, чтобы в распределении квартир и фуража соблюдалась «ровность». Тут бывали злоупотребления со стороны высших офицеров, которые, кроме полагающихся им по чину квартир, захватывали еще квартиры по должности, а младшие офицеры и солдаты вынуждены были существовать в страшной тесноте. Наконец, сохранилось предписание фельдмаршала, что в караулы надлежит ставить людей только «разве самой крайней нужды», а вовсе не затем, чтобы «церемонию исполняти» и что надо думать о том, как бы «от таких излишних караулов салдат во отехчение б не привести»{214}.
В августе царь приехал в Варшаву, чтобы отсюда наблюдать за движением шведов. Все более вероятным становилось движение их на север. В результате 6 августа последовал указ Шереметеву – все оставшиеся у него полки, за исключением трех, двинуть к Слуцку{215}, а самому «поспешать» в Варшаву. По-видимому, фельдмаршал уже излечился от медлительности: «…бреду к вам, премилостивейшему государю, нигде не медля, почтою, – писал он с дороги царю, – и полк свой драгунский я объехал»{216}. 20 августа Петр передал Шереметеву в Варшаве «пункты», которые должны были составить для него программу действий на ближайшее время.
Петр, видимо, ждал с часу на час известий о неприятеле, чтобы сделать окончательное распоряжение: «…извольте, конечно, – писал он фельдмаршалу 12 сентября, – в такой готовности быть, чтобы по другому письму мог в половину дни собратца и выступить в поход немедленно и быть в Минск»{217}. 14 сентября Шереметеву был послан с поручиком Преображенского полка Бибиковым окончательный указ о выступлении из Слуцка, но в вопросе о конечном пункте движения Петр, отступая от предыдущих указов, уже допускал для фельдмаршала выбор: «…изволь со всем войском и алтилериею итить к Минску или Борисову…»{218}, та же альтернатива подтверждалась еще раз письмом от 18 сентября «итти вам к Минску или к Борисову»{219}.
Итак, Минск или Борисов – в этих пределах как будто была оставлена фельдмаршалу свобода выбора, оба пункта санкционировались указами в одинаковой мере. По особым соображениям фельдмаршал выбрал Борисов, и из его письма царю из Слуцка от 22 сентября узнаем, что нескольким полкам он уже велел идти в Борисов, «не займуя Минска». «И я з двумя полками, отправя пушки, – читаем далее, – по указу вашего величества пойду к Борисову ж…»{220}.
Казалось бы, что на этом дело и должно было окончиться, но в действительности оно получило совершенно неожиданное продолжение, имеющее важное значение при уяснении взаимоотношений царя и фельдмаршала. 4 октября Шереметев вдруг получил царский указ, подписанный 2 октября, в котором значилось: «…немедленно изволь с полками итти к Минску, а что ваше желание было к Борисову, и то, конечно, извольте отставить…»{221}. От того же 2 октября имеем письмо царя к Меншикову, где находим следующие строки: «…пишите, что писал к вам господин Шереметев, бутто я велел ему итти в Борисов, которое он учинил ради старой своей обыкновенной лжи, а я писал, чтоб в Минск, а не в Борисов…»{222}. Как понять это противоречие? Может быть, Петр за колоссальными размерами корреспонденции, которую вел изо дня в день, не всегда помнил, что писал? Признавался же он Меншикову и даже в том же письме: «…истинно трудное мое житье, и лутче с вами быть, нежели всюды отповеди писать»{223}. Несомненно, однако, что в данном случае никакой ошибки памяти не было: в этот же день, 2 октября, Петр написал второе письмо Шереметеву, и тут, к нашему удивлению, опять находим фразу: «…конечно, изволь иттить к Минску или Борисову…»{224}. Нельзя забыть то, что писалось в один и тот же день! Таким образом, Шереметев имел полное основание отвечать царю: «А к Борисову имел намерение своего походу по трем вашим монаршеским указом…»{225}.
Можно бы думать, что произошло словесное недоразумение: называя в своих указах Минск и Борисов, Петр разумел не самые города, а обозначал ими направление движения, так как оба эти города лежат на одной линии по отношению к Слуцку; это тем правдоподобнее, что он предписывал идти «тихо», не больше двух-трех миль в день; на то же как будто намекает и самая форма: не в Минск и не в Борисов, а к Минску или к Борисову. Но что значит тогда обвинение Шереметева в «старой обыкновенной лжи»? Петр имел основание думать; что фельдмаршал не был в действительности введен в заблуждение его словами, но постарался истолковать их по-своему. У него были соображения, по которым он решительно предпочитал Борисов Минску, и не скрывал этого. Получив еще раньше указ остановиться между Минском и Слуцком, Шереметев писал Петру, что «между Минска и Слуцка места зело неудобны, бескормны, болотны и бористы…», что лучше идти к Борисову или возвратиться к Слуцку: «…понеже в тех двух местах хотя фуражек) не так довольно, алутче Минска»{226}. Те же соображения против Минска привел он еще и в двух других письмах, в одном из которых прямо предложил оставить его с несколькими полками в Слуцке, «дабы прежде времяни не привесть салдат во утеснение и недовольство»{227}. Другими словами, фельдмаршал склонен был нужды солдат ставить на первом месте перед требованиями стратегии. Хотел ли он использовать в этих видах некоторую неопределенность выражения Петра, или, действительно, неправильно понял его, на этот вопрос нельзя ответить с уверенностью; но, во всяком случае, Петр в поступке Бориса Петровича мог увидеть его склонность толковать неудобные указы и под тем или другим предлогом откладывать их осуществление.
Сосредоточение шереметевской армии в Минске было только частью общего плана, намеченного Петром. В Литве располагалась другая «большая армия» под командованием Репнина, занимавшая Вильно, Ковно и Гродно. Если первая должна была, по мысли Петра, прикрывать от шведов дорогу на Смоленск и Москву, то вторая – дорогу в Лифляндию и Ингрию, причем в случае нужды Репнин должен был «случиться с фельдмаршалом» в Минске. Положение Шереметева и Репнина, по существу, было одинаково: у каждого – свое войско, действия обоих определялись указами Петра, которыми они взаимно должны были обмениваться, в их ведении находились определенные строго разграниченные территории, с населения которых им было поставлено в обязанность собирать «контрибуцию» на содержание своих частей; наконец, каждый должен был устроить провиантский магазин для своей армии: Шереметев – в Копыси (около Орши), Репнин – в Полоцке. В отличие от них Меншиков пользовался большой свободой: сам выбрал место для своей кавалерии – Тикоцин, пункт, удобный для наблюдения за движением неприятеля, но вместе и опасный, поскольку он мог быть отрезан от главных сил. Меншикову не только была предоставлена инициатива действий, но и – главное – он не знал посредников в отношениях с царем, тогда как сам постоянно исполнял эту роль в отношении других командиров.
У Шереметева вся эта дислокация вызывала скептическое отношение. И не только у него одного: с ним сходился в оценке видный военный сотрудник Петра, тогдашний начальник артиллерии Я. В. Брюс. Военную службу Брюс начинал рядовым Потешного полка. Еще в юности завязались у него личные отношения с Петром, когда его взяли во Дворец в числе «потешных ребяток». Царь всегда был очень расположен к нему и высоко ценил его знания и артиллерийское искусство.
С отношениями между Шереметевым и Брюсом мы знакомимся по их переписке. Письма, относящиеся к 1715 году, рисуют уже установившуюся дружескую связь. «Государь мой милостивый, Борис Петрович! – писал, например, Брюс в мае 1715 года. – Благодарствую за твою, государя моего, милость, что жалуешь – о здравии своем ко мне пишешь. И впредь о том милости прошу и всегдашно слышать желаю…» С течением времени дружеские чувства между ними, несомненно, углублялись и получали в письмах все более яркое выражение, особенно со стороны Бориса Петровича, который, будучи начальником Брюса, не был связан в выражении чувств своим положением. «Государь мой и присный благадетель Яков Вилимович! Желаю тебе всяких благ. Звечливый твой приятель и слуга Барис Шереметев через писания братской руки любезная тварю покланения», – начинал одно из писем Борис Петрович{228}. Или вот в каких выражениях он отвечал приятелю на просьбу в 1707 году о предоставлении ему двора в Слуцке: «…у меня особа твоя и приязнь твоя ныне никогда забвена: и без писания твоего ко мне двор тебе в Слуцку занят и квартира была отведена, с чего бы ваша милость был контент»{229}.
По-видимому, Борису Петровичу Брюс отчасти заменил умершего к тому времени Ф. А. Головина, к которому фельдмаршал мог обращаться с полным доверием в трудных обстоятельствах. Таким чувством продиктовано признание в его письме к Брюсу от 11 мая 1709 года, когда автор чувствовал себя обиженным и искал утешения: «Великий бы дал за то кошт, чтобы я тебя имел видеть персонально, понеже я тебя имею себе целым благодетелем, имея нужные до тебя интересы (нуждаясь в тебе в своих интересах. – А. З.){230}.
Как мог благодетельствовать Брюс фельдмаршалу? Как будто и в этом случае уже знакомое нам явление в жизни Бориса Петровича: нужда в посреднике между ним и Петром I. Не доверяя действию на царя собственных писем в пользу того, чтобы его с корпусом оставить в Слуцке, он делал попытку добиться этого через Брюса: «Ежели ты увидишь государя или какой можешь сыскать способ… чтобы нам с вами быть в Слуцку зело местами сенами и покосами конскими довольны, хотя уже отошли от Слуцка, не [со]скучели бы и опять поворотить же, забыли бы нужду»{231}. Так будет и в других случаях.
Изложив Брюсу в письме от 22 октября 1707 года в общих чертах дислокацию войск, Шереметев заключал все весьма неутешительным прогнозом: «Все то можешь благоразумием раз-судить, ничто сие неосновательно… всему тому будет премена». И вслед за тем загадочная фраза: «…только бы малое что свое желание получить и малым тешится, а время упустит и на конец не смотрет, како кончится»{232}. Фельдмаршал выразил так темно свою мысль, видимо, не решаясь назвать по имени виновника сложившейся ситуации (вероятно, Меншикова), но давая понять, что вина всему – легкомысленная игра тщеславия. Корреспонденты, конечно, друг друга понимали, и оба, кажется, были неправы, по крайней мере в отношении к Слуцку: как показали следующие события, оставаться там Шереметеву до весны – значило опоздать.
Ввиду наступившей осени Петр решил, что поход Карла откладывается до весны следующего 1708 года: «…а в ноябре, сам знаешь, как бывает время…», писал он Меншикову 7 октября 1707 года и потому считал, что неприятелю «весьма невозможно… ныне к нам ближитца…»{233}. В середине октября он уехал в Петербург, но перед отъездом предписал Репнину на время своего отсутствия «о всяких делах и ведомостях сноситца з господином генералом князем Меншиковым и к нам писать»{234}.
Таким образом, в распоряжение Меншикова, кроме всей конницы, передавалась и значительная часть пехоты.
Карл XII, однако, обманул Петра: 29 декабря, перейдя реку Вислу и преодолевая неимоверные препятствия, он подошел к Гродно. Весть, что идет неприятель, разнеслась быстро и многих привела в паническое состояние.
Карл шел в ореоле непобедимого героя, которым окружило его общественное мнение в Европе. Герцог Мальборо, глава английского правительства и сам знаменитый полководец, говорил, льстя Карлу в глаза, что он вызвал своими победами «удивление всей Европы» и что будто бы только пол препятствовал английской королеве лично приехать в Польшу, чтобы увидеть столь необыкновенного государя{235}.
На австрийского императора шведский король навел такой страх, что тот исполнил без сопротивления предъявленные ему Карлом требования о выдаче интернированных в Австрии русских солдат и отзыве из России австрийских офицеров. К России и Петру Карл относился с полным пренебрежением. Присланный в русский лагерь королем Августом польский шпион сообщил со слов своего короля о намерениях Карла, что он «прямым путем пойдет в Московское государство» и, как скоро вступит в столицу, созовет всех бояр и гостей, разделит им царство на воеводства, обяжет их покинуть иноземное ружье и мундиры и учредит войско по-старому, иначе сказать, восстановит московскую старину.
Уверенность Карла XII в победе была так велика, что он уже назначил московским губернатором своего генерала Шпара, который однажды так выразился о русских: «…мы выгоним не только из Польши, но и со всего света московскую каналью не оружием, а плетьми»{236}. Слухи обо всем этом, попадая в широкую народную среду, искаженные и преувеличенные, еще более усиливали тревогу. По словам австрийского резидента Плейера, «москвичи пришли в ужас: никто ни о чем не говорил, как о бегстве или смерти… Ужас здесь еще более увеличился после того, как пришло повеление все валы вокруг города исправить и Кремль укрепить»{237}.
Некоторые из военных историков склонны распространить такое состояние и на армию: между прочим, ложно смотрел на грядущие события будто бы и Шереметев, как утверждает Д. Ф. Масловский{238}. В этой характеристике – несомненное преувеличение; во всяком случае, она не может быть подтверждена документально. Но несомненно, что в ходе войны это был момент, когда надвинувшаяся на страну опасность сознавалась с наибольшей остротой: недаром и Петр еще только в ожидании вторжения шведов готов был отказаться в целях заключения мира от всех своих завоеваний, за исключением одного лишь Петербурга{239}.
В январе Петр был уже в армии. В его отсутствие Шереметев не обнаружил никакой растерянности, готовил свой корпус к зимнему походу, неизбежность которого стала с приближением шведов очевидной. И опять, как было в 1706 году, перед русским командованием вставал вопрос, куда направится Карл от Гродно, занятого им почти без сопротивления. Наиболее вероятным было движение неприятеля или на Полоцк (через Псков к Петербургу), или на Копысь (через Смоленск к Москве). И пока настоящие его намерения не выяснились, следовало стянуть разбросанные русские войска к таким пунктам, чтобы в любой момент двинуть достаточные силы против неприятеля в том или другом направлении. В этих видах Шереметев должен был поставить свои войска согласно указанию Петра «в равном расстоянии» между Полоцком и Копысем, и 31 января он выступил из Минска на Борисов, чтобы отсюда занять указанное положение. По его догадке поход больше «быть склонен к Полоцку, чем к Копыси». По направлению к Борисову же двигался из Вильны и Петр с пехотой Репнина. Карл сделал попытку, вклинившись между двумя частями русской армии, разъединить их и с этой целью спешно направился на Сморгонь; однако русские войска успели сойтись. Тогда Карл остановился и расположил свою армию на широком пространстве между Долгиновым и Борисовым. Соединенная русская армия под командованием Шереметева разместилась против, в районе Витебск – Полоцк – Дубровка (около Орши), причем Шереметев свою квартиру (гауптквартиру) установил в Чашниках. В то же время Меншиков, занявший своей конницей пространство между Могилевом и Борисовом, прикрывал от шведов левый фланг.
Так как дальнейшего наступления в ближайшее время ждать было нельзя, то Петр, чувствовавший к тому же нездоровье, уехал в Петербург. С его отъездом в армии наступило двоевластие. Военные историки выдвигают на первый план роль Меншикова, приписывая по преимуществу ему направление военных операций и даже называя «душой армии» (Масловский), правда, считая эту роль временной, только до возвращения Петра. Шереметеву же отводится в управлении армией второстепенная роль, и попутно он получает малолестные характеристики. Соответственно изображаются и отношения между Шереметевым и Меншиковым: они будто бы обостряются до такой степени, что тот и другой не согласуют своих действий и даже встречаются лишь в случаях крайней нужды. Естественно, что распря «главных генералов» неблагоприятно отражается на действиях русских войск.
Может быть, эта картина и близка к действительности, но все же построена она не столько на фактах, сколько на догадках. Факты же говорят, что в отдельных случаях Меншиков проявлял решительность и способность быстро ориентироваться в меняющейся обстановке. Но этого недостаточно, чтобы оценить его как выдающегося полководца. Чтобы стать «душой армии», нужно обладать большой моральной силой, которая нашла себе признание и чувствуется всеми. А в поведении светлейшего князя моральные ценности играли, как известно, весьма скромную роль. «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой, и если он не исправится, то быть ему без головы»{240} – так говорил о нем Петр, лучше чем кто-либо другой его знавший. Государственная деятельность Меншикова в тех ее проявлениях, где она была, бесспорно, полезна и важна, внушалась личными его отношениями к Петру, за которыми стояли собственные интересы и огромное честолюбие. Над этими мотивами Меншиков не поднимался и потому, по мере того как портилось отношение к нему Петра, он тускнел и терял значение, не вызывая сочувствия среди окружающих.
В действительности развитие военных действий направлялось в отсутствие царя ни Меншиковым и ни Шереметевым, а, по тогдашней терминологии, «генеральными консилиями». В состав их входили начальники дивизий и бригад, но эта часть более или менее изменчивая; постоянно же присутствовали: Шереметев, Меншиков и «министры» – Г. И. Головкин и князь Г. Ф. Долгоруков. Совещания созывались обычно по инициативе фельдмаршала, когда в зависимости от движения неприятеля возникала нужда в соответствующих изменениях общего плана действий, и их постановления считались обязательными для всех, в том числе и для «главных генералов». Министры по-прежнему состояли при «главной квартире», то есть при Шереметеве, образуя как бы постоянный его совет и придавая ему особую авторитетность.
Как и в каком порядке обсуждались вопросы на консилиях, точной картины мы не имеем, но сохранился след такого обсуждения в письме Шереметева к царю о разногласии, которое произошло между ним и Меншиковым на совете в Староселье 26 апреля: «И на том совете, – читаем там, – вышеупомянутый господин князь Меншиков предлагал, дабы быти немалой части от пехоты при кавалерии ко удержанию (противника. – А. З.) через Березу. И я на тот совет мнение свое вашему царскому величеству объявляю…» Мнение же фельдмаршала состояло в том, что при кавалерии должна быть конная пехота – драгуны, так как простая пехота при сильном наступлении неприятеля свяжет конницу и это может принудить к «генеральной баталии»{241}, что в планы русских не входило.
И Меншиков, и Шереметев действовали независимо один от другого и только осведомляли друг друга о своих распоряжениях. Иногда они давали друг другу «советы»: Меншиков – от себя лично, Шереметев – обыкновенно вместе с министрами. Эти советы ни тот, ни другой не считали обязательными для себя. Считаясь, однако, со значением, которое Меншикову придавал царь, а может быть, и признавая целесообразность тех или других его распоряжений, иногда фельдмаршал соглашался на «предложения». 13 июня на консилии было решено перевести артиллерию в местечко Апчуги, приказ об этом в тот же день и дал Шереметев Брюсу. А через два дня он уже писал Брюсу новое письмо: «Сего июня 15 дня получил я от светлей-шаго Князя известие о неприятельском намерении, в котором и о вашем приходе объявлено. Того ради надлежит вашему благородию марш свой чинить, как вам предложено от светлейшего князя… – не в Апчугу, а в Копысь»{242}.
По-видимому, артиллерии при двоевластии приходилось сложнее всего: прошло всего пять дней, и Брюс получил от Шереметева новый категорический приказ, явно устранявший Меншикова от распоряжения артиллерией: «…извольте с артилериею и протчею амунициею марш иметь к Магилеву, к дивизии господина генерала князя Репнина и отлучения от той дивизии не иметь, и где свое в которых числех будете иметь обращение, чинить ко мне извольте непрестанное известие»{243}. Недаром оказывавшийся постоянно между двумя огнями Брюс писал одному из генералов: «…хотя много читал, однакож ни в которой кронике такой околесины не нашел»{244}.
Надо думать, что в это время у Меншикова начиналось с Шереметевым то же, что было перед тем с Огильви. Внешне все как будто оставалось между ними по-старому. Ввиду созыва консилии в Бешенковичах, где одно время находилась квартира фельдмаршала, он писал Меншикову 5 марта 1708 года: «Со охотою вашу светлость ожидаем; домы для прибытия вашей светлости отведены, которых лутчи нет, и я и свой двор очистил, ежели изволишь стать, которой тебе удобен»{245}.
Деловые официальные встречи и теперь иногда имели совсем неофициальный конец. Вот записка Бориса Петровича в январе 1708 года к Меншикову, не требующая комментариев: «Братец, отпиши к [о] мне, как тебя Бог донес. А я, ей-ей, бес памяти до стану даехал, и слава Богу, что нечево мне не повредила на здаровье мое. Сего часу вел икай кубак за твое здаровья выпиваю венегерскова и с прочими, при мене будучими. Да благасловит тебя Бог и з благочестивым домам твоим во всяческом благопалучном пребывани [и] навеки»{246}.
При всем том недоверие, в скрытом виде всегда существовавшее между обоими, усиливалось и вело к отчуждению. Оно не переходило в открытый разрыв, но угадывалось окружающими, и отсюда – преувеличенные слухи об их вражде. Один из таких слухов, невероятный в подробностях, но в основе своей похожий на действительность, записал и Витворт под 12 февраля 1708 года: «Раздор между любимцем царским и фельдмаршалом возрос до того, что Шереметев заявил при целом военном совете, будто готов отказаться от своего поста, так как и его репутации и самой армии государевой грозит гибель, если князь не будет удален от начальства кавалерией»{247}. Не для того ли, чтобы ослабить значение Шереметева, Меншиков внушал Петру отозвать министров из армии, на что получил от него интересный ответ: «Министров наших лутче б не отпускать, понеже, когда я буду, то паки будет переписка, от которой уже и так несносно, ибо не с кем подумать ни о чем»{248}.
При таких условиях протекала наиболее, может быть, напряженная фаза войны. Как раз в это время возникли волнения среди башкир и на Дону[9]9
Имеются в виду восстания башкир в 1705–1711 годах и казаков под предводительством К. Булавина в 1707–1708 годах.
[Закрыть], и у Карла явилась мысль воспользоваться созданными ими для Петра внутренними затруднениями, чтобы покончить с ним быстрым ударом на Москву. По новому плану короля, в то время как сам он двинется к Москве через Смоленск, новый польский король Станислав Лещинский с Левенгауптом должен был пойти на Украину, а оттуда потом также на Москву, присоединяя к себе по пути всех недовольных. Между тем русское командование, вынужденное довольствоваться догадками насчет планов шведов, по необходимости продолжало при размещении своих сил учитывать оба возможные для неприятеля направления, то есть на Петербург и на Москву.
У шведов на пути к Смоленску были две естественные преграды – реки Березина и Днепр. 15 июня Карл переправился через Березину, обманув русских демонстрацией у Борисова. На очереди был Днепр. Перед русскими возникал вопрос: где защищать линию Днепра, на каком берегу? Меншиков настаивал на немедленном переходе на левый берег, но так как две дивизии находились еще «в разлучении» на марше, по правую сторону Днепра, Шереметев и министры считали необходимым подождать их, чтобы неприятель «не учинил» им «какой порухи». А сверх того отход за реку, произведенный без «подлинной ведомости о неприятельском обращении», грозил, по их мнению, опасностью, что неприятель, оставя Днепр в стороне, двинется к Полоцку или к Смоленску, отрезав нас «от наших краев»{249}. 23 июня этот вопрос стал предметом обсуждения на консилии в Могилеве.
Решили, что, если неприятель пойдет к Днепру, наблюдать за ним, оставаясь на правой стороне Днепра, «сколь долго возможно налегке неприятелю чинить препятствие» и Днепр перейти только «по самой невозможности». В последнем случае все дивизии должны были соединиться против того места, где неприятель станет наводить мосты, и общими силами «переход возбранять». А если неприятель Днепр все-таки перейдет? Тогда, отступив от реки линии на две-три, идти в том направлении (или на Украину, или на Смоленск), «куда обращение его будет». Карл сначала взял направление как будто к Смоленску, не переходя Днепра, но своевременно извещенные о его движении русские войска встретили шведов у местечка Головчина, где сошлись Шереметев, Меншиков, Репнин, Голицын, принятый в 1707 году на русскую службу в чине генерал-фельдмаршал – лейтенанта Г. фон Гольц, Ренне.
Бой у Головчина был неудачен для русских. Шведы напали на дивизию Репнина, ставшую на левом фланге и так быстро отступившую перед неприятелем, что посланная Шереметевым помощь оказалась запоздавшей. Устроенный по приказанию Петра военный суд признал причиной поражения нераспорядительность Репнина и приговорил его к смертной казни (позже он был прощен), но военные историки склонны возложить вину на Шереметева.
По словам А. З. Мышлаевского, «со стороны Шереметева и на этот раз выказалась его обычная медлительность и какое-то особое упрямство мысли». Поддавшись ложному сообщению перебежчика и демонстрации шведской кавалерии, он ждал нападения на свою дивизию, стоявшую в центре и, когда пришла просьба Репнина о помощи, отказал в ней: «доклады посланных ни в чем не повлияли на Шереметева»{250}. Еще более резко выражается автор статьи о Шереметеве в «Русском биографическом словаре»: «Репнин посылает к Шереметеву гонца за гонцом, прося подкреплений… По первым выстрелам из обоза, выстроив свою пехоту за укреплениями, Шереметев упорно отказывается подать помощь Репнину»{251}.
Послушаем, как говорят об этом источники. Вот цитата из постановления военного суда: «…июля в 3 числе о третьем часу пополуночи учинилась пушечная стрельба на обоз генерала князя Репнина, которую стрельбу услыша, генерал-фельдмаршал с министрами поехал против неприятельскаго обоза к своей дивизии, а генерал князь Меншиков, видевся с генерал-фельдмаршалом и с министры, сказал, что, взяв конницу с генерал-лейтенантом Реном, пойдет на сикурс к генералу Репнину… И в скором времени от генерала Репнина присыланы к генерал-фельдмаршалу адъютанты Дурной, Волынской да сын ево князь Репнин, – прося сикурсу, которым сказано, что пошла к ним на сикурс вышеупомянутая конница да Иргеманландской полк…». После того с такой же просьбой приехал адъютант Бруконт, «и по той присылке велено к оному итти на сикурс брегадиру Айгустову с двумя полками пехотными и быть в команде генерала Рена…»{252}.
Присылавшиеся Репниным сын его и адъютанты давали на суде показания. Сын Репнина показывал: послан он был отцом «до генерал-фельдмаршалка и ковалера господина Шереметева, и генерал-фельдмаршалк» сказал ему, что «послан генерал-поручик Рен з бригадой да брегадир Айгустов з двемя полки пехотными и приказал мне ехать до господина полковника князя Голицына, которой был у то время в апрошах… и велел ему сказать, дабы он в апрошах переменялся и шел до дивизии своей на сикурс»{253}.
Приезжавшие ранее молодого Репнина адъютанты Дурново и Волынский дали аналогичные показания, причем первый добавил, что, возвращаясь назад к Репнину, он встретил генерала Ренне, который «на сикурс послан был»{254}. Итак, на помощь Репнину пошли генерал Ренне с кавалерией и Ингерманландским полком, за ним – бригадир Айгустов с двумя полками, наконец, князь Голицын со своим полком. Конечно, можно бы требовать, чтобы Шереметев выступил на помощь Репнину всеми своими силами, но это превратило бы частный бой в генеральную баталию, которой так добивался Карл XII и от которой постоянно предостерегал своих генералов Петр.
Шведский король не использовал своего успеха у Головчина, не пошел за отступавшими по направлению к селу Горкам русскими войсками, а занял Могилев – весьма удобное место для переправы через Днепр. Здесь он простоял несколько недель в ожидании Левенгаупта, шедшего на соединение к нему из Риги. Между тем 9 августа приехал в Горки Петр. Считая теперь наиболее вероятным движение шведов на Украину, Петр передвинул Шереметева в Мстиславль, ставя таким образом его «корпус» между неприятелем и внутренними областями России.