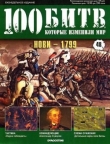Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Может быть, впервые за многие годы Борис Петрович был свободен от военных обязанностей и получил возможность заняться, насколько позволяли болезнь и опасения за свою судьбу, хозяйственными делами. Он исполнил давнее намерение «отделить» невестку и внука (от старшего сына Михаила), выделив на их долю четвертую часть своего имущества. В это же время составил и свою духовную. Но и жизнь «временная» все же не утрачивала для него своего интереса. Об этом лучше всего свидетельствует значительное количество «указов», разосланных им по разным вотчинам в 1718 году и содержащих в себе разнообразные хозяйственные распоряжения: о взятии на откуп кабаков, о сборе оброчных денег и столовых запасов, о сдаче мельниц на откуп, о наказании сбежавших с работы крестьян и т. д.; не забывал он и своих излюбленных лошадей, наказывая «прикащику», «смотреть за конюхом, чтобы лошади были в призоре и сыты». Видимо, несмотря на болезнь, он считал возможным, что еще поживет и в Петербурге. Молодотуцкий приказчик должен был всякие оброчные деньги и столовые запасы на 1718 год, все «без доимочно», отвезти по зимнему пути в Петербург в дом фельдмаршала и там ожидать его прибытия, а также доставить в Петербург и всех лошадей, которые находились в его вотчине.
Между тем отношение Шереметева к царевичу Алексею и вообще его причастность к делу становились предметом разговоров и, можно сказать, легенд. Народная молва по-своему связала имя Шереметева с делом царевича: в народе говорили, что «царевич еще жив, что он уехал с Борисом Петровичем Шереметевым неведомо куда…»{374}. Где-то, вероятно, в придворных кругах, стоявших ближе к действительности, иностранные дипломаты подслушали другую, совсем противоположную, версию: «Говорят также, – сообщал своему правительству голландский резидент де Бие, – что фельдмаршала подозревают в участии в этом деле и что его скоро привезут сюда»{375}. Соблазнительные слухи проникли за границу, сплетаясь, по-видимому, около того факта, что Шереметев во время розыска над царевичем оставался в Москве. Иначе как будто нельзя понять фразу в письме к нему Петра от 9 октября 1718 года, где, разрешая фельдмаршалу ехать на Олонецкие воды, а оттуда в Петербург, царь между прочим писал: «Житье твое на Москве многие безделицы учинили в чужих краях, о чем, как скоро приедешь, услышишь»{376}.
На чем держались эти слухи, равно как и возникшая позднее легенда, что Шереметев отказался подписаться под смертным приговором царевичу? Трудно сказать. Известно, что на следствии царевич показывал о Шереметеве: «А в главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне – друзья»{377}. Этот термин «друг» едва ли употреблен был царевичем в точном смысле слова – вероятно, в его употреблении он означал не больше как сочувствие. Точно так же о сочувствии Шереметева царевичу говорил и данный им Алексею Петровичу совет, чтобы тот держал при дворе «малого такого», который бы «знался… с теми, которые – при дворе отцове…» и чрез которого бы царевич «все ведал»{378}. Наконец, подозрительной становилась ввиду роли Кикина в деле царевича дружеская связь с Кикиным Шереметева, особенно то обстоятельство, что у Кикина были найдены шифры для переписки с разными лицами, между прочим с таким важным «преступником», как В. В. Долгоруков, а также с Борисом Петровичем. Но эти факты, по всей вероятности, оставались известны в небольшом кругу правительственных лиц и не могли послужить источником так широко распространившихся слухов о привлечении фельдмаршала к делу царевича.
Сам Борис Петрович, в известной мере сочувствуя царевичу, держался по отношению к нему с большой осторожностью. Когда в 1715 году у Петра родился сын, фельдмаршал счел нужным поздравить с этим событием и Алексея Петровича, которому, конечно, оно не доставило радости. Несомненно, действительные отношения между Шереметевым и царевичем оставались далеко за пределами зрения широких масс, как, вероятно, и личные свойства Алексея Петровича. Однако было всем известно его равнодушие, если не отвращение, к новшествам отца, и все, для кого эти новшества были тяжелы и неприятны, видели в нем защитника нарушенных традиций и спокойной жизни, своего «надежу-государя». И по каким-то признакам, невзирая на европейский облик Шереметева и его близость к иностранцам, в силу популярности фельдмаршала сблизили его с царевичем больше, чем было в действительности. Сам Петр, без сомнения, понимал, что никакой склонности действовать в пользу царевича у Шереметева не было, хотя собранные факты убеждали его не только в том, что Шереметев сочувственно относился к Алексею, но и в том, что имя фельдмаршала, связываемое с именем царевича, служило в некоторой степени знаменем в руках противников нового порядка. Маловероятно, чтобы фельдмаршала ждал в Петербурге допрос, но вполне вероятно, что царь хотел в предупреждение всяких «небылиц» держать его поближе к себе.
Но эта мера оказалась уже совсем не нужной. 17 февраля 1719 года Бориса Петровича не стало, он умер в Москве, не испытав действия Олонецких вод.
* * *
Тени, омрачавшие временами отношения между Петром I и фельдмаршалом, не мешали Петру видеть заслуги Бориса Петровича. Вспомнив однажды о нем, уже после его смерти, царь сказал окружающим: «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас, но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России»{379}. В оценках военных историков стратегические способности и военное искусство фельдмаршала вызывают разногласия, но его военно-административный и организаторский талант находит у всех полное признание.
Однако не только специальные способности делали Шереметева пригодным к роли главнокомандующего. В этом отношении не менее важное значение имели его нравственные качества. Своими моральными корнями Б. П. Шереметев был крепко связан с настоящим и прошлым страны, а верная и непрерывная служба его была выражением этой связи и, по существу, была службой стране. Нет никаких оснований подозревать неискренность, когда он писал в 1714 году П. П. Шафирову: «Токмо Богом засвидетельствуюся, что по должности моей от всего своего сердца для государственного высокого интересу… елико моя возможность есть, труждаюся и никогда же оное имею забвенно, разве меня Бог умертвит, то забуду и трудитца не стану»{380}.
Что он мог иногда рисковать и своей жизнью ради других, доказывает случай во время Прутского похода. В ходе сражения фельдмаршал, стоявший за рогатками, увидел, что конный турок преследует русского солдата, отделившегося от своего отряда. Он один бросился из-за рогаток на помощь, убил турка и даже захватил его лошадь, которую потом подарил Екатерине Алексеевне. По этому поводу Петр отдал приказ, чтобы впредь фельдмаршала не пускали за рогатки{381}.
Если его образ действий в Польше не был безупречен в отношении польского населения, то допущенные им здесь злоупотребления представляются совершенно ничтожными по сравнению с настоящей эпидемией хищений и казнокрадства, которая охватила тогда чиновную знать и которую нельзя ярче характеризовать, чем это сделал генерал-прокурор Ягужинский, когда по поводу выраженного Петром намерения назначить смертную казнь за всякое казнокрадство возразил ему в собрании Сената: «Разве, ваше величество, хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого»{382}.
Между тем относительно Бориса Петровича Шереметева нет никаких указаний на то, чтобы когда-нибудь он приложил руку к государственной казне, хотя всегда имел к тому полную возможность. Мы знаем, что в течение первых пяти лет войны он не получал ни следуемого ему по чину денежного жалованья, ни обычных в то время земельных наград, тратя во время походов собственные средства. Правда, потом он стал через Меншикова добиваться того и другого, но такие попытки начинаются не ранее как с 1705 года, когда уже он, по его выражению, «все прослужил, а не выслужил».
В этой способности никогда не терять из вида за личными интересами интересов государственных, а часто и подчинять первые последним, надо думать, главный источник особого уважения к Шереметеву окружавших его и той популярности, какой он пользовался в армии и в широких слоях населения. Не жалевший в раздраженном состоянии резких слов для выражения своего неудовольствия фельдмаршалу по тому или другому поводу, Петр I, однако, при личных встречах неизменно оказывал ему исключительные знаки уважения как никому другому: встречал и провожал его, по выражению очевидца, «не как подданного, а как гостя-героя», и только Шереметеву да еще князю Ф. Ю. Ромодановскому, «страшному начальнику тайной полиции», предоставлялось право входить в царский кабинет без доклада…» – преимущество, которое не всегда имел даже сам «полудержавный властелин» Меншиков{383}.
Впечатление, производимое личностью фельдмаршала, от людей, непосредственно с ним соприкасавшихся, неуловимыми путями передавалось в солдатскую среду и здесь ложилось в основу его популярности в армии. Заботливость о солдате, внося в это общее представление конкретные черты, еще более приближала его к солдатской массе, а победы его в Лифляндии, способствуя подъему национального духа, сообщили ему, как показывают народные песни о нем, характер народного героя. Но еще глубже, может быть, была популярность фельдмаршала среди дворянства, образовавшего в полном своем составе по условиям тогдашней дворянской службы как бы самодеятельный военный корпус, особенно же среди высшего его слоя.
Шереметев был знатен и богат. В армии, командный состав которой в огромном большинстве был дворянским, знатность главнокомандующего и логически и психологически была неизбежным требованием, поскольку отношения внутри дворянства определялись родословным принципом. И в петровской армии, как ни боролся царь с этим принципом, он сохранил свое значение. Мазепа, мелкий шляхтич и человек новый на Украине, такой же выскочка, как и Меншиков, особенно был обижен тем, что в 1706 году был подчинен Меншикову. «Не так бы мне печально было, – говорил он, – когда меня дали под команду Шереметеву или иному какому великоименитому и от предков заслуженному человеку»{384}. Шереметеву по его родовитости мог бы подчиниться любой «великоименитый» человек без ущерба для своей фамильной амбиции. Притом же фельдмаршал умел поддерживать в своем доме режим, соответствующий занимаемому им положению: его дом был, можно сказать, открытым общественным местом для столичного дворянства, а его походная квартира – таким же местом для высшего военного состава. Все это делало имя Шереметева «весьма любезным» для дворянских верхов.
Популярность Шереметева, несомненно, играла значительную роль в его военной карьере. Петр в первые годы правления не был, как мы знаем, склонен выдвигать его, но позже, давая ему звание фельдмаршала и высшее положение в армии, вероятно, прежде всего считался с мнением дворянства. С течением времени, без сомнения, он больше оценил качества Бориса Петровича как полководца, в особенности его военно-административный опыт. В то же время росла и слава фельдмаршала, приобретая народный характер и находя признание за границей. В силу этого положение Бориса Петровича упрочивалось еще более, и на нем меньше могли отражаться колебания в личном отношении к нему царя. Складывалось положение, аналогичное тому, какое мы наблюдаем спустя сто лет, в эпоху Наполеона, когда Александр I под давлением дворянства назначил главнокомандующим Кутузова, с тем, однако, различием, что Петр сам сделал выбор, находя его более целесообразным при данном соотношении сил, тогда как Александру I его выбор был едва ли не навязан.
Глава третья

1
Как известно, при Петре I многочисленные «подразделения», на которые распадалось население Московского государства, по тогдашней терминологии – «чины», были сведены в плотные, юридически однородные группы – сословия. В частности, разные категории служилого класса были слиты в одно сословие – дворянство, или шляхетство. Вместе с этим были упразднены «чины» – бояре, окольничие, стольники, дворяне московские, которые образовывали в составе служилого класса правящий слой. Соответствующие звания донашивали лица, получившие их раньше, но вновь они уже не жаловались.
На смену им постепенно складывалась в качестве правящего слоя новая социальная группа из тех элементов дворянства, которые отчасти только что поднялись «наверх» и стали непосредственно у источников власти, – группа, получившая в то время и особое название – «царедворцы». Из кого она состояла персонально? По документам того времени нетрудно убедиться, что важнейшие государственные должности в значительном большинстве занимали представители тех фамилий, которые заполняют боярские списки XVI–XVII веков, – все те же Голицыны, Куракины, Трубецкие, Шереметевы, Черкасские, Одоевские, Репнины, Долгоруковы, Оболенские, Прозоровские, Троекуровы, Головины, Колычевы, Бутурлины, Салтыковы, Плещеевы, Ромодановские, Волынские, Шеины, Лобаново-Ростовские и другие. Однако вместе с ними в тех же рядах стоят и новые люди неизвестных раньше фамилий, частью – из «самого низшего шляхетства», частью – иностранцы. Некоторые из «худородных», как А. Д. Меншиков или Г. И. Головкин, даже возвышаются над всеми в качестве «верховных господ». Все они, и знатные и незнатные, занимают правительственные места по одному и тому же принципу – принципу пригодности, и решительное количественное преобладание среди них родовитых людей объясняется тем, что их выдвигает накопленный в ряде поколений административный опыт, хотя, конечно, сами они могли при этом культивировать и свои фамильные традиции. Неизбежное следствие отсюда – идеологическая пестрота группы, разнообразие наблюдаемых в ней культурных и политических течений.
Такова социальная среда, служившая правительственным орудием для Петра I. Тем важнее становится для нас знакомство с ее настроениями для уяснения исторической обстановки реформы.
Реформа в общем своем значении, открывающемся из совокупности составляющих ее мероприятий и отношений, покрывается понятием «европеизации»: привитии России форм западного быта и западной мысли. Современникам реформы казалось, что русские, в том числе и правящие круги, были ее скрытыми противниками, готовыми при благоприятных обстоятельствах вернуть страну в прежнее состояние. «Все предпринятое царским величеством во время его славного царствования, – доносил, например, своему правительству французский посланник де Лави в 1718 году, – не будет прочно… если он не достигнет преклонных лет и если… он не будет поддержан более преданными подданными, чем настоящие. Он сам знает все это, а также и то, что русские (за исключением немногих) в душе ненавидят все сделанные им перемены. Они ожидают лишь его смерти, чтобы снова погрязнуть в праздности и грубом невежестве»{385}.
С мнением де Лави совершенно совпадает оценка положения и другого наблюдателя, также французского посланника Кампредона: «…и если он (царь. – А. З.) проживет еще десять лет, – читаем в донесении от 14 марта 1721 года, – его правление упрочится соответственно его великим познаниям. Вместе с тем есть основание думать – и это мнение всех здравомыслящих людей, – что эти учреждения не переживут его… Нельзя сомневаться в том, что лишь только царь умрет, государство это снова примет свою прежнюю форму правления, по которой все его подданные втайне вздыхают»{386}.
Выходило, что царь не мог быть уверенным в преданности его делу не только знати вообще, но и ближайших, довереннейших своих сотрудников. Тот же де Лави записал, не сообщив, к сожалению, с чьих слов, разговор Петра с его любимцем генерал-адмиралом Ф. М. Апраксиным, в котором Петр будто бы говорил: «Хотя ты всегда одобрял мои действия… но я все же читаю в твоем сердце, что умри я тебя прежде, ты один из первых осудишь все, что я сделал… После моей смерти, вы, я убежден, откажетесь от завоеванных мною земель и даже согласитесь, лишь бы вернуться к своему прежнему житью, уничтожить этот город (Петербург – А. З.) и флот, который стоил мне столько крови, денег и труда»{387}.
Опасения французских дипломатов и прочих «здравомыслящих людей», о которых говорил Кампредон, а если верить сообщению де Лави, то и самого Петра, не сбылись: по смерти Петра серьезной попытки возврата к отжившей старине не произошло, европеизация России продолжалась. Очевидно, степень ненависти правящих верхов к новому, европейскому, и любви к старому, московскому, была преувеличена.
Что влияние западной культуры началось у нас задолго до Петра I и что первоначально оно затронуло высшие слои населения, это – бесспорный и вполне естественный факт нашей истории. Несомненно, что с наибольшим постоянством культурное влияние шло к нам из Польши, непосредственно и через Украину. Современник, князь Б. И. Куракин, свидетельствовал о времени Федора Алексеевича и правительницы Софьи: «В правление царевны Софии Алексеевны… политес воставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польскаго – и в экипажах, и в домовном строении, и уборах, и в столах»{388}. Но заимствование предметов домашнего обихода и комфорта – только одна сторона культурной эволюции. Важнее и глубже по своим последствиям было личное общение с иностранцами, которое еще до Петра приняло довольно широкий размах. В этом отношении наибольшее значение имели иноземцы разных национальностей, населявшие Немецкую слободу в Москве.
Здесь собрались иноземцы отовсюду: шотландцы, голландцы, англичане, французы, датчане, шведы. Это были в большей своей части искатели «фортуны» различных профессий – военные, ремесленники, торговцы, покинувшие родину или в поисках лучшего, или по нужде, вследствие политических и религиозных преследований. В Слободе же жили резиденты разных стран. При различии занятий ее жителей между ними сохранялись до известной степени и различия сословные.
Генерал П. И. Гордон, в дневнике которого быт Слободы нашел живое отражение, часто говорит о «знатных иноземцах», очевидно, противопоставляя их общей массе. При всем том общественная жизнь Слободы имела демократический склад. В противоположность московской замкнутости здесь жили открыто и весело. Балы и маскарады продолжались иногда по нескольку дней, и в них мог принимать участие всякий, независимо от своей профессии или от своего социального положения. А домашние вечеринки происходили беспрерывно.
Попавший сюда знатный москвич не мог не дивиться тому, как люди весело умели устраивать здесь свою жизнь по сравнению с его собственной. «Тамошние свободные пирушки, где в облаках табачного дыма все было нараспашку: гремела музыка, разыгрывались разные замысловатые игры, раздавались веселые песни, волновавшие кровь; кружились до упаду разгоряченные пары далеко за полночь; где женщины и девицы, одетые не по-нашему, с полуоткрытыми или открытыми грудями и обнаженными плечами, с перетянутой талией, в коротеньких юбочках бросали умильные взгляды, улыбались кокетливо на всякие двусмысленности и не слишком строго относились к вольному обращению, напрашивались почти на поцелуи и объятия, – не чета были чопорным обедам в полдень и ужинам в девятом часу вечера, когда куры на насест садятся, и не чета были чинным казенным собраниям, где ни одного движения не было свободного и печать молчания налагалась на уста, где боярыни играли такую страдательную роль, безмолвные, с потупленными взорами, не смея двинуться с места, где о молодых боярышнях слухом не было слышно…»{389}. Правда, в нравах Слободы было и немало грубого. Часто бывали ссоры, нередко кончавшиеся дракой. В большом ходу были дуэли. А главное: много пили, особенно на торжественных собраниях и обедах. Осторожного Гордона боязнь выйти из «границ» иногда заставляла оставаться дома: «…был приглашен к шведскому комиссару Кристофу фон Коху, – записывал он в дневнике, – однако не пошел из опасения много пить»{390}. Но тогдашнего гостя из москвичей эти недочеты едва ли могли напугать.
Московская знать раньше Петра нашла дорогу в Немецкую слободу и оценила ее культурные возможности. Можно думать, что и со стороны иноземцев в этом сближении участвовали первоначально только верхи: из военных – генералы и полковники, из гражданских – резиденты и комиссары. По-видимому, особенно широкие связи среди придворных чинов имел П. И. Гордон. По его дневнику насчитывается свыше двадцати русских придворных чинов, в домах которых он бывал один или с другими иноземцами, именно: В. В. Голицын, И. М. Милославский, П. В. Шереметев-Большой, В. П. Шереметев, Ф. П. Шереметев, П. А. Голицын, Я. Ф. Долгоруков, Б. А. Голицын, А. А. Матвеев, Л. К. Нарышкин, Т. Н. Стрешнев, Ф. Ю. Ромодановский, Ф. Ф. Плещеев, А. М. Черкасский, И. И. Троекуров, А. С. Шеин, А. П. Салтыков, М. И. Лыков, П. А. Лопухин, В. А. Соковнин, Г. И. Головкин, П. М. Апраксин, Ю. И. Салтыков. Перед нами – весьма значительная, может быть, даже большая часть тогдашней знати.
Вполне возможно, что Гордон, будучи одинаково близок с обеими боровшимися при дворе партиями Милославских и Нарышкиных, играл роль посредника в сближении русских с иноземцами. Мы видим частым у него гостем князя В. В. Голицына, как и его самого – у Голицына, где он бывал не один, а с другими иноземцами, знакомыми боярину: «Гордон и другие обедали у боярина»{391}, – читаем в дневнике Гордона за 1684 год (о себе он всегда говорит в третьем лице). Упоминания: «другие» или «прочие» встречаются в дневнике не раз и наводят на мысль, что у В. В. Голицына и его партии был более или менее постоянный круг знакомых в Слободе. Не менее часто Гордон обменивался визитами и с другим Голицыным – Борисом Алексеевичем, возглавлявшим «партию» молодого Петра. В этих случаях перед нами уже новые лица: «Был Гордон на празднике, – записано в дневнике Гордона под 1688 год, – который давал князь Борис Голицын в своей усадьбе, где было большое общество и сильно пили»{392}.
Под тем же 1688 годом находим запись, где впервые, еще до знакомства Петра с Слободой, выступает Ф. Я. Лефорт и так же, как Гордон, – в роли объединителя иноземцев и русских: «Обедал Гордон у полковника Лефорта, где русские и знатные иноземцы были вместе»{393}. Значит, еще до встречи Лефорта с Петром, некоторые из бояр уже познакомились с женевским выходцем и пользовались его гостеприимством. Еще в 1686 году Лефорт писал брату в Женеву в ответ на его упреки в расточительном образе жизни: «Бояре, старые и молодые, оказывали мне честь… частыми, посещениями; даже в мое отсутствие они не преминут искурить и попить у меня, как будто я и не отлучался»{394}.
Петр был, таким образом, далеко не первым клиентом Лефорта по ознакомлению с «дарами» западной культуры. Но с его появлением пошло сближение, а роли Гордона и Лефорта стали значительнее. В апреле 1690 года молодой царь в первый раз обедал у Гордона. С этих пор записи о его визитах часто встречаются в дневнике Гордона. 2 января 1691 года сделан был и еще шаг вперед: «Гордон был, – читаем под этим числом, – в Преображенском и отпущен его величеством с приказанием устроить в его доме обед, причем его величество сказал, что хочет остаться у него на всю ночь»{395}. Свита, которая сопровождала Петра в этих случаях, имела определенный и постоянный состав. К такому заключению ведет самый способ ее обозначения у Гордона: «…после обеда пришел к Гордону его величество и оставался с своим обществом до ужина», или: «…его величество пришел вечером и сказал мне, что придет ко мне со всеми и на следующий день, действительно, пришел со всем обществом»{396}. Приблизительно в том же составе и столь же часто происходили собрания у Лефорта, для которого построен был вскоре особый дворец в Слободе.
В дальнейшем знакомства расширились: распространились на шведского, датского, голландского резидентов, купцов, ремесленников, офицеров, врачей. Представителям старой московской знати даже казалось, что купцам Петр уделял преимущественное внимание: «И многие купцы агленские и голанские, как Андрей Стельс, Христофор Брант, Иван Любс, – писал князь Б. И. Куракин, – пришли в его величества крайнюю милость и конфиденцию и начали иметь свой свободный вход»{397}. Знатные люди, однако, и независимо от царя продолжали посещать Слободу. «Приходили к Гордону два стольника – князь Андрей Михайлович Черкасский и Ф. Ф. Плещеев и посидели с ним за стаканом вина»{398}, – зафиксировал Гордон.
Пировали на именинах, свадьбах, крестинах, а однажды «играли в обществе его величества и других господ в кегли»{399}. По словам Куракина, «в слободе офицеры, знатные из иноземцов и торговые… не могли единой свадьбы учинить, чтоб его величество не звать и при нем знатных персон на свадьбы»{400}.
Но и русские не оставались в долгу, также приглашали в подобных случаях иноземцев. Вот, например, рассказ голландского путешественника де Бруина о свадьбе одного московского дворянина, будто бы любимца Петра, которого автор называет Fielaet Prinewitz Souskie: «Князь этот пригласил на свадебное пиршество свое всех главных бояр и боярынь придворных, иностранных посланников и большую часть наших (то есть голландских. – А. З.) и иноземных купцов с их женами. Всем приглашенным гостям дан был приказ быть на свадьбе в старинной одежде этой страны, более или менее богатой, по установленному на этот случай правилу. Свадьба самая праздновалась в Немецкой слободе в доме генерала Лефорта… Все общество прибыло туда (из церкви. – А. З.) только в 3 часа после пополудни в количестве 500 человек мужчин и женщин, которые разместились в разных покоях, так что мужчины и женщины не могли видеть друг друга». На второй день празднование повторилось в том же виде. Это был русский стиль. Но на третий день картина меняется: «…решено было праздновать в немецких платьях, и все оделись в эти платья, кроме нескольких русских боярынь, оставшихся в своих платьях… За столом мужчины и женщины сидели вместе, как это водится у нас, и после пира плясали и прыгали для удовольствия его величества и всех гостей»{401}.
Таким образом, де Бруин, бывший в Москве в 1702 году, застал такой момент, когда иноземные обычаи еще не вытеснили в придворном кругу национальных, русских, а находились с ними в мирном симбиозе.