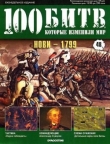Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
11
Наиболее важны и вместе наиболее сложны отношения Шереметева и А. Д. Меншикова.
Они, можно сказать – социальные антиподы, по крайней мере в пределах своего класса: один – родовитый боярин, другой – выходец из самого захудалого шляхетства. Между тем, если судить по их переписке, их связывала глубокая взаимная симпатия. Оба изощрялись в изысканнейших оборотах для выражения своих чувств. «Превосходительный генерал-фельдмаршал, мой особливый благодетель и любезный брат» – обычное обращение их в письмах друг к другу, у Шереметева иногда и еще более сильное: «крепчайший благодетель и брат».
Превосходительные друзья обменивались между собой подарками. В 1704 году Шереметев «челом бьет» «светлейшему» десятью коровами «голанскими» да «быком большим галинским на завод»{495} – вероятно, из лифляндской добычи. А в августе 1711 года в письме из Прутского похода обещал, как мы знаем, аргамаков «ис турецкой добычи. Умеренный и воздержанный, притом же больной Шереметев не только для Петра, но и для Даниловича отступал от своих правил, чтобы вместе с ним славить Бахуса – как полагалось тогда – до потери сознания.
Судя по письмам Шереметева (их сохранилось гораздо больше, и они главным образом служат нашим источником), Меншиков играл в его жизни большую и притом положительную роль. Мы видели уже, что без прямого его участия не обошлось почти ни одно земельное пожалование фельдмаршалу, и от самого фельдмаршала слышим чрезвычайно выразительное признание этих услуг Даниловича. Прося Меншикова в 1704 году «вступиться за него и подать руку помощи» в вопросе о назначении ему фельдмаршальского жалованья, Шереметев подкреплял свою просьбу общим напоминанием: «Как и прежнюю всякую милость получал через тебя, государя моего, так и ныне у тебя милости прошу…»{496}.
Но и в разных других затруднениях Меншиков – обычное прибежище для Бориса Петровича. Получив от царя гневное письмо, он сейчас же вспоминает своего «крепчайшего благодетеля и брата»: «Боже сохрани, – изображал он в письме к Меншикову свое душевное состояние, – дабы от такого гневу не постигла меня вящая болезнь и не убил бы меня паралиж, понеже вам, моему благодетелю и брату, слабость в здоровье моем извесна… Прошу вашу светлость, яко присного моего благодетеля, не остави меня в такой печали и болезни»{497}, то есть Меншиков должен был своим заступничеством смягчить гнев царя. К нему же фельдмаршал обращался и за советом в вопросах военно-административного характера. Царь прислал к нему иностранного генерала, которому велел дать драгунский полк. Зная, как заботливо относится Петр к иностранцам, состоящим на службе, Шереметев был в большом смущении: как бы не сделать по отношению к присланному какой-нибудь неловкости, и курьер везет письмо к Даниловичу: «Пожалуй, братец, подай мне благой совет: который ему полк дать… и вразуми меня, как мне с ним обходитца»{498}. Посредническая роль Меншикова в подобных случаях сделалась до такой степени обычным порядком для обоих, что непосредственное обращение к царю, минуя Меншикова, казалось уже самому Шереметеву как бы нарушением черты, которое может задеть «светлейшего». «Мог бы я о сем просить у царского величества, – объяснял он Меншикову свое обращение к нему с одной просьбой, – токмо не описавшись к вашей светлости по брацкой вашей ко мне любви, того учинить не могу…»{499}.
В исторической литературе установилось другое представление о взаимных отношениях Меншикова и Шереметева: первый изображается гонителем последнего. Приведенные письма это опровергают. В их отношениях, правда, был момент разрыва в самый острый период войны (1707–1708 годы), когда они столкнулись на почве руководства военными действиями. К этому периоду относится разговор Шереметева с польской княгиней Дольской, в котором он будто бы жаловался на Меншикова и на который ссылался С. М. Соловьев{500}. Однако добавим, что разговор этот, если даже считать его достоверным, происходил в доме Мазепы, невзлюбившего Меншикова по личному мотиву. В бесспорных документах нет никаких указаний ни на неприятности, будто бы чинимые Шереметеву светлейшим князем, ни вообще на враждебные чувства к нему. Скорее наоборот: неприязненное чувство можно подозревать у Бориса Петровича к Даниловичу. Вот как писал он о своем «крепчайшем благодетеле» Ф. А. Головину в 1705 году: «Александр Данилович был у меня в Витепску, и, по-видимому, ничего ему противно не явилось, о чем больше Бог будет ведать… И много со мной разговаривал, и ни на которыя мне слова не дал ответу… только я скупым своим разумом не мог разсудить: почто ради. Казал он мне письмо, каково писал к Самому обо мне: все писал доброе, а как то окончится, единому сведущу… О жалованьи я его просил… во всем имеет полную мочь, а о сем будто не имеет…»{501}. Как видим, письмо проникнуто большим недоверием, которое, однако, не оправдалось: «светлейший» исполнил свои обещания. И если мы примем в соображение отношение Петра к Шереметеву, которое Меншикову, без сомнения, было хорошо известно, то должны будем сказать, что далеко не всегда он мог сделать то, чего от него хотел фельдмаршал.
Родовитому боярину, конечно, было естественно подозревать в недоброжелательном отношении к себе поднявшегося из низов «выскочку». Однако этого же боярина фамильная гордость не удерживала от того, чтобы стать открыто в отношения полного равенства с выскочкой, называя его «братом» и другими соответствующими эпитетами и более того: постоянно просить его в течение долгих лет то об одной, то о другой «милости» у царя. Казалось бы, совсем еще недавно немыслим был подобный случай в боярской среде «первейших» фамилий. Между тем никаких следов сознания унизительности такого положения у Бориса Петровича мы не находим. И то же самое можно сказать относительно других представителей знати: они и чувствовали себя, и вели себя по отношению к Меншикову так же, как Шереметев: для всех них он – брат, патрон, благодетель, хотя для большинства, если не для всех, только на бумаге.
Как понять все это? Конечно, Меншиков был любимец царя, а любимец самодержца может сделать многое: и навредить, и облагодетельствовать. Но любимцев осаждают лестью и угодливостью, идут к ним в переднюю. Здесь же видим другое отношение: признание полной равноправности «светлейшего» и его государственного значения.
Плотно приставшее к Меншикову звание фаворита в такой же мере, как и его ненасытное корыстолюбие, мешают историку представить в настоящих размерах его государственную роль. У самого Петра преимущественными названиями для него были: «камарат» и «Herzenkind»[15]15
Дитя сердца (нем.).
[Закрыть], и эти слова, оба взятые, лучше всего дают понять, чем в действительности был Меншиков.
Он пришел к Петру, не имея за собой никаких традиций, можно сказать, никакого прошлого – ни социального, ни культурного, с одной только исключительной по степени и разнообразию восприимчивостью и потому оказался способным целиком, без всяких оговорок и задних мыслей, входить в интересы и намерения Петра. Он мог не только быстро и верно схватывать мысли Петра, но и угадывать их, а в то же время благодаря талантливости и энергии ума и осуществить их с такой точностью, как никто другой. Таким образом, в практической жизни он являлся в собственном смысле alter ego Петра при концентрации реальной государственной власти в руках Петра, замещая его во всяких делах и отношениях и пользуясь долгое время его неограниченным доверием. Это делегирование власти случайному человеку, стоявшему вне системы родовых отношений, сообщало наряду с другими моментами самому самодержавию демократический отпечаток, а с другой стороны, оно поднимало Меншикова на недоступную для подданного высоту. В блеске этой, по выражению Шереметева, «полной мочи» Меншикова в настоящем совершенно исчезала его скромная генеалогия, чему помогал еще и блеск княжеской короны, которой увенчал его голову ревностный хранитель аристократических традиций в Европе австрийский двор. При таких условиях Борис Петрович мог быть вполне спокоен за свою фамильную честь, когда отдавал себя под защиту его «братской любви» и пользовался его представительством в своих трудных отношениях с Петром. Со своей стороны, дальновидный Данилович, окруженный со всех сторон врагами и не имевший, кроме Петра, другой заручки в правящей среде, охотно шел навстречу виднейшему представителю знати, имея в виду, наверное, будущее.
Так выработалась своеобразная фикция братства, прикрывавшая житейские расчеты обеих сторон и оставлявшая в неприкосновенности их идеологические позиции.
Менее сложны и более ясны были отношения Бориса Петровича к остальным названным лицам. С Ф. А. Головиным связывало его, как мы знаем, родство; оба они, сверх того, принадлежали к одному слою московской знати. Головин был при Петре «первым министром», выделяясь среди сотрудников Петра умом и деловитостью. Граф Головин, писал о нем Витворт, «…пользуется репутацией самого рассудительного и самого опытного из государственных людей государства Московского». А в другом месте он добавлял, что Головин «считается самым честным и самым смышленым человеком во всей России»{502}. Головин понял и принял стремления и замыслы Петра. Его письма свидетельствуют о необыкновенном внимании к делам Петра. В свою очередь, и Петр платил ему привязанностью и уважением. «Друг наш от сего века посечен смертию, – писал он Ф. М. Апраксину по поводу смерти адмирала Головина в 1706 году и подписался: – Сие возвестя, печали исполненный Piter»{503}.
Головин не раз оказывал услуги Шереметеву, пользуясь знанием характера и привычек Петра. Обыкновенно он разъяснял, как надо в том или ином случае поступать, «чтоб… его валичества не раздражить…»{504}. Но Головин, по-видимому, неохотно выходил из пределов консультации с тем, чтобы оказать непосредственное воздействие на Петра в пользу Шереметева. Он уклонился от того, чтобы довести до царя известную уже нам жалобу Шереметева на сержанта Щепотьева, вероятно, потому, что жалоба эта затрагивала отношение царя к фельдмаршалу. Письма Головина к Шереметеву отличаются скорее корректностью, чем любезностью, а его напоминание Шереметеву об уплате денег за взятую тем кровать, факт тоже нам уже известный, представляется и вовсе неожиданным. Видимо, между ними нет близости, какую можно было бы предполагать по их социальным признакам и по родству, и при объяснении этого трудно удержаться от мысли, что здесь сказалось различие культурной и политической ориентации. В отношениях с Головиным этот момент не мог не играть роли, как вполне могло быть в отношениях с Меншиковым.
Другие стороны в отношении Шереметева к Петру I вскрывает его дружба с Апраксиным и Кикиным.
Ф. М. Апраксин, генерал-адмирал и граф, был одним из преданнейших Петру людей и очень близок к нему. Человек несильного ума, но широкого добродушия, неблестящий, но полезный, всегда готовый компаньон по части служения Бахусу и на редкость радушный хозяин, он счастливо и без труда избегал в своих отношениях к Петру тех острых моментов, на которые, как на подводные камни, натыкались люди с большей инициативой и притязательностью. Сам Петр не считал его энтузиастом нового порядка, но знал, что из преданности к нему Апраксин всегда будет «верным слугой». В одном только пункте он проявлял неуступчивость: генерал-адмирал крепко хранил дворянские традиции и во имя их иногда протестовал против отдельных распоряжений царя. Известен случай, когда Апраксин в знак протеста против приказа Петра, заставившего однажды дворянских недорослей бить сваи на Мойке в наказание за уклонение от службы, сам стал рядом с ними на эту работу, сняв адмиральский мундир, и тем заставил Петра приказ отменить.
Для Шереметева из всей «компании» Апраксин был наиболее близким человеком; к нему он мог подойти с полной откровенностью. Их деловые в основном своем содержании письма в довольно частых отступлениях и постскриптумах хранят живые следы искреннего чувства. Живя под Москвой, Шереметев умолял Апраксина приехать к нему и нашел даже особый, близкий обоим религиозный мотив в подкрепление своей просьбы: по дороге в селе Деденово (Дмитровского уезда) находится «чудотворная Богоматерь», принесенная из Влахерна, – значит, Федор Матвеевич мог бы «и святому месту поклониться, и нас своим приездом повеселить, и фамилию мою порадовать…». А если уж тому нельзя, он сам выедет навстречу: «Ежели изволишь отлагать за дальностию пути, изволь мне назначить место на полдороге, я туда с охотою прибуду вас видеть неотлагательно…»{505}.
В письмах чувствуется, однако, фактическое неравенство корреспондентов. Сколько можно судить по высказываниям одной стороны, инициатива в изъявлении дружеских чувств идет по преимуществу от Шереметева. Апраксин же как будто больше отвечает на них, проявляет к нему, по выражению Бориса Петровича, «благоснисходительную и милостивую склонность»{506}. Под конец жизни Апраксин начинает писать и совсем редко, может быть, не без влияния дела царевича. Фельдмаршал чувствует себя покинутым, и это крайне огорчает его: «К болезни моей смертной, – пишет он генерал-адмиралу, – и печаль меня снедает, что вы, государь мой, присный друг и благодетель и брат, оставили и не упомянитеся меня писанием братским христианским присетить в такой болезни, братскою любовью и писанием попользовать»{507}. Неизвестно, успел ли он получить ответ на это свое последнее письмо.
Апраксин также, без сомнения, не раз помогал Шереметеву в его затруднениях. Особое значение имела, по-видимому, его услуга в деле по доносу полковника Рожнова. Но едва ли не важнее была для Шереметева психологическая сторона этих отношений – возможность высказать без опасений свои огорчения и обиду перед сочувствовавшим человеком. Этой же потребности, если не сразу, то с течением времени, служила, вероятно, и дружба фельдмаршала с А. В. Кикиным.
Человек острого ума и большой энергии, А. В. Кикин долго пользовался полным доверием Петра I. Вначале бомбардир «потешного полка» и любимый денщик царя, он в 1697 году был в составе «Великого посольства» и вместе с Петром учился кораблестроению на голландских верфях. Но и потом Александр Васильевич не раз бывал за границей, так что мог хорошо ориентироваться в европейских отношениях. Кикин был назначен Петром первым начальником Петербургского адмиралтейства; вместе с тем он был интендантом флота. Кроме того, царь, высоко ценя его деловитость и ум, нередко давал «дедушке», как обычно он называл Кикина, разные поручения поличным делам.
Между прочим, Кикин довольно долго заведовал домашним хозяйством царя и вообще введен был в его домашнюю жизнь, поэтому не без основания Корнелий де Бруин, бывший в России в 1702–1703 годах, называет его «главным дворецким и камергером его царского величества». В то же время Кикин был «своим», «домашним», человеком в семье Меншикова. Естественно, что при таких отношениях к Петру и Меншикову он был деятельным участником и их буйных забав: в одном из писем к царю он так и подписался: «желательный о неумалении шутовств ваших раб ваш Кикин»{508}. Тем сильнее было негодование Петра, когда обнаружилось в 1713 году, что Кикин наряду с другими вельможами – Меншиковым, Апраксиным и Головкиным – виновен в хищениях, главным образом в виде казенных поставок через подставных лиц. Только благодаря заступничеству царицы Екатерины Алексеевны Кикин сохранил тогда голову{509}, но все же подвергся суровому наказанию: потерял часть имущества и был высечен. С этих, несомненно, пор начался поворот в его отношении к Петру. Кикин принял сторону царевича, хотя, конечно, он был слишком умен, чтобы видеть в царевиче средство возвращения к допетровской старине. Первоначально им руководило чувство обиды, но это чувство осложнилось затем другими мотивами и получило через них более широкое обоснование, становилось уже принципиальным протестом против политики Петра. Существует предание, что Петр спросил Кикина в застенке, «что принудило его употреблять ум свой в толикое зло?» Ответ был: «Ум… любит простор, а от тебя было ему тесно»{510}.
С какого времени установились близкие отношения между Кикиным и Шереметевым, мы не знаем. В 1712 году они, видимо, хорошо были знакомы и состояли в переписке: «Я уже чрез многое время, – читаем в письме Кикина от 8 декабря, – не имел от вашего сиятельства ни единого известия о состоянии здравия вашего, о котором с моею радостию непрестанно ведать желаю. Что же я долговременно укоснил к фам, моему милостивому государю, моими письмами, и оное произошло от того, понеже по указу царского величества ездил на Олонецкие петровские железные заводы для осматривания тамошних дел…»{511}.
Едва ли, однако, можно сомневаться в том, что и эта дружба возникла ввиду стремления фельдмаршала иметь опору среди приближенных царя: недаром он и царевичу советовал «держать» при дворе такого «малого», который бы сообщал ему о всем, что там происходило{512}. А Кикин не только годился для такой роли по отношению к Шереметеву, но мог в будущем при своей близости к царю оказать и более прямую услугу.
Переписка между ними за более позднее время, когда всякое письмо могло стать уликой, не сохранилась, и свидетельство об их близких отношениях находим только в письмах других лиц. Имевший широкие связи в правительственных кругах Савва Рагузинский писал, например, Шереметеву 2 июня 1714 года: «Здесь милостию Вышняго все благополучно. О протчем ваше сиятельство изволите известитца из письма друга вашего, а моего благодетеля превосходительнейшего Александра Васильевича Кикина»{513}.
О том, что именно писал Кикин фельдмаршалу, известно и Ф. М. Апраксину: в его письме к Борису Петровичу читаем: «Ныне я к вашей милости пространно писать не могу за скорым отпуском сего курьера, о чем о всем ссылаюсь на письмо господина Кикина, понеже мню, что он обстоятельно писал»{514}. Кикин был близок и к адмиралу, который в письме к Меншикову от 20 июня 1717 года называл его своим «истинным благодетелем»{515}. Трагический конец Кикина был в моральном смысле трагедией для обоих его друзей: 14 марта 1718 года Шереметев и Апраксин подписались под его смертным приговором{516}.
Важно отметить, что в результате постигшей Кикина в 1714 году первой катастрофы, которая подорвала его значение при Петре, дружба его с фельдмаршалом не пострадала. Может быть, даже, наоборот: изменившееся положение Кикина стало почвой, на которой они могли сойтись теснее прежнего, поскольку у обоих в душе оставалось чувство обиды и протеста.
12
Тяжелое моральное состояние Шереметева в последние годы жизни усугублялось дурным физическим самочувствием. Обстановка службы противоречила всем его привычкам. Он не знал покоя, жил под постоянными понуканиями, «чуть жив от суеты», часто ссылался на болезнь, но ему не всегда верили. Вспомним уже цитированное письмо Меншикова к Петру: «Как… господину фелтьмаршалу Шереметеву объявил я вашу милость, а имянно, что пожаловали вы ево селом Вощажниковым и Юхоцкою волостью, то зело был весел, и обещался больше не болеть».
Чтобы заставить поверить своей болезни, фельдмаршалу приходилось вдаваться в подробности: «…ни встать, ни ходить не могу, – писал он Меншикову в 1718 году, – и опухоль на ногах моих такая стала, что видеть странно и доходит до живота»{517}.
Петр неохотно давал ему отпуск, а если и давал, то назначал такой срок, в который отдых невозможен. «Просил ваша милость, чтоб быть вам к Москве, – написал он однажды фельдмаршалу в ответ на такую просьбу, – и то полагаем, на ваше раз-суждение; а хотя и быть, чтоб на страстной или шестой приехать, а на святой – паки назад»{518}. Значит, всего на несколько дней! Несмотря на все недостатки, настоящие и мнимые, которыми Петр наделял Шереметева, у него были серьезные основания дорожить фельдмаршалом, поскольку выбор знающих высших командиров был крайне ограничен. Может быть, много обещали с чисто военной точки зрения воспитавшиеся уже в школе шведской войны В. В. Долгоруков и М. М. Голицын, но они были молоды, что при тогдашних взглядах было важным препятствием.
Сила Шереметева была не столько в стратегических, сколько в организаторских способностях. Из документов известно, какую большую роль он играл в деле снабжения, размещения и комплектования армии. В 1706 и 1707 годах Борис Петрович был занят главным образом военно-административными делами, и ему во многом армия была обязана тем, что к моменту вторжения шведов оказалась, по отзыву специалиста, прекрасно «устроенной»{519}.
Петр I не мог не учитывать симпатий, которыми пользовался Б. П. Шереметев среди дворянства. Это сказалось уже в назначении его «начальником нестроевой поместной конницы», иначе – дворянского ополчения при самом начале войны. Назначая его потом фельдмаршалом, Петр обеспечивал тем самым и дисциплину, и внутреннюю солидарность в армии. С другой стороны, это же назначение развязывало Петру руки в дальнейшем: рядом с одним фельдмаршалом он получал возможность ввести в армию других, своих кандидатов: Огильви, Меншикова, Гольца, причем в целях предупреждения недовольства Шереметев формально провозглашался «первым» или генерал-фельдмаршалом, хотя реально «полную мочь» имел Меншиков.
В своем звании генерал-фельдмаршала Борис Петрович даже после смерти оказался нужен Петру I: желая закрепить за Петербургом роль столицы, Петр между прочим считал нужным собирать в нем могилы выдающихся государственных русских людей и членов царского дома и в этих целях велел перевезти тело фельдмаршала, умершего в Москве, в Петербург, где и было устроено ему торжественное погребение. Это не соответствовало желанию фельдмаршала, который, как мы знаем, хотел быть похороненным в Киеве, однако формально не противоречило его последнему распоряжению. Как бы предвидя, что его имя и после смерти сохранит значение политического аргумента, он выразил в духовной свою волю условно: «…тело мое грешное отвезть и погребсть в Киево-Печерском монастыре или где воля его величества состоится».
Одна эта подробность из духовной фельдмаршала делает ненужными доказательства, что он не был политическим противником Петра I, ни явным, ни скрытым. Тем не менее фельдмаршал никогда не был для него и «своим» человеком. Различие в общем складе их характеров могло не препятствовать их близости в частных отношениях, но легко начинало сказываться взаимным недовольством в деятельности общественной, потому что за ним сейчас же выступало более глубокое различие – в направлении интересов и строе мировоззрения. Переживавшаяся фельдмаршалом жизненная драма становится для нас естественной и неизбежной, как скоро мы начинаем рассматривать ее на фоне общих условий того времени, тех культурно-социальных течений, из которых представителем одного случай сделал фельдмаршала, представителем другого – царя.