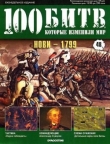Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Как видим, автор «Завета» принимает на себя функции организатора монастырской жизни и охранителя монастырских нравов. Нелегко поверить, что это фельдмаршал, занятый беспрерывными походами, но торжественная подпись под текстом «Завета» не оставляет сомнений. Она гласит: «Аз, учрежденный над войски его царского величества камандующий, первый генерал-фельдмаршал, военный кавалер Мальтийский, св. апостола Андрея и пр. орденов граф Борис Шереметев»{35}.
И Борис Петрович чтил монастыри и в их посещении находил удовлетворение своим духовным потребностям. Особенно глубокая связь была у него с Киево-Печерской лаврой. Отправившись в заграничное путешествие, он специально, на один только день заехал в Киев, чтобы побывать в лавре. Позднее он написал в «духовной», что и сам «хотел быть в оной Лавре жителем» – другими словами, постричься там в монахи.
4
Князь М. М. Щербатов в сочинении «О повреждении нравов в России» относил ко времени Петра зарождение общественной жизни среди дворянства, той «людкости», с которой, по его словам, с того времени «мы исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей»{36}. Несомненно, что сам Петр немало способствовал специальными мерами, такими как обязательные ассамблеи, привитию дворянству общественных вкусов; но, конечно, еще большее действие оказывал пример Запада, с которым многие теперь имели возможность непосредственного знакомства. Правда, «людкость» требовала усиленных расходов, но крепостная вотчина служила, как тогда казалось, неиссякаемым источником для удовлетворения дворянских запросов.
Б. П. Шереметев в этом отношении шел едва ли не впереди других. Общительность была в характере фельдмаршала. Он любил компанию и умел в дружеской беседе поддержать шутливый тон. «Мой брудер Яков Вилимович! – писал он Якову Брюсу из ливонского похода. – …А мы здесь живем, слава Богу: все благополучно, только скучно. А Лука Чириков (его подчиненный, бригадир. – Ред.) стал затворником: живет один, ходит пеш, но всякий день помала питается былием и мало что от хлеба вкусит, а от мяс и рыбы лишился весьма…»{37}.
По письмам из походов, пока Москва оставалась столицей, можно сделать заключение, что он всегда скучал по ней. А когда Петр перевел служилую знать в Петербург, Шереметева потянуло туда, и Москва потеряла для него всякий интерес. «О здешнем московском поведении не могу ничего полезнова доносить, – отзывался он о московской жизни. – Москва так состоит, как вертеп разбойнич: все пуста, только воров множитца и беспрестанно казнят… не хотел бы я в нынешныя времена жить на Москве, кроме ссылки и неволи…»{38}.
Щербатов называет Шереметева в числе тех «первосановников империи», которые ввели широко утвердившийся потом обычай держать «открытые столы»{39}. Эти слова находят себе объяснение в предании о Шереметеве: «…За стол его, на котором не ставилось менее 50 приборов даже в походное время, садился всякий званый и незваный, знакомый и незнакомый, только с условием, чтобы не чиниться перед хозяином»{40}. Подразумевалось, что гость должен быть дворянином. Исключение делалось для иностранных купцов: по описанию голландского путешественника К. де Бруина на обеде, которым Шереметев «угощал» в своем «увеселительном доме» на Москве-реке напротив Воробьевых гор 9 апреля 1702 года, присутствовали следующие лица: царь, царевич, сестра царя, при них три или четыре русские боярыни и «множество знатных господ», голландский резидент, «несколько иностранных купцов» и пятнадцать или шестнадцать «немецких господ»{41}. Возможно, что отсюда произошло получившее широкую распространенность выражение «жить на Шереметев счет» для обозначения дарового существования.
Лично Борис Петрович был, по-видимому, человеком умеренных привычек и довольно расчетливым. «Лишнева ничево для прибытия маево не готовь, – писал он в 1717 году приказчику села Молодого Туда, – только рыбы нечто свежей приготовь, да квасу хорошего арженова и яшнова, да муки – малое же число. И будет умеют ореховаво масла избить – приготовь, а будет ореховава не умеют – льнянова самово хорошева несколько небольшое место изготовить»{42}. «Лишнева ничево», «нечто» (сколько-нибудь), «малое число», «несколько небольшое место» – это все термины из словаря бережливого хозяина.
Но экономия забывалась, когда имелись в виду гости. Один такой случай – у нас перед глазами. В 1714 году фельдмаршал прибыл в Борисовку с компанией «на новоселье», и по этому случаю мобилизуются все гастрономические средства: готовится разных сортов мука («крупичатая», «полукрупичатая» и «оржаная»), яблочная и грушевая вода, орехи, капуста, огурцы, а два борисовских «жителя» отправляются (один – в Изюм, другой – в Рыбное) для закупки более деликатесных яств – «рыбы соленой, белужьих больших теш и бочешной белужины, осетрины, икры и стерлядей свежепросольных, и тарани про людей, и сомов вялых». «Паче же, – беспокоился фельдмаршал, – икры купить, если попадетца свежепросольная добрая или попадутца спинки вялыя добрые»{43}. Как видим, внимание изощрялось на том, чтобы прием гостей обставлен был лучше. В результате – где бы фельдмаршал ни был, его дом или – все равно – временная квартира становились притягательным центром.
Перед нами два документа, неожиданно для своего заглавия освещающие эту сторону жизни Бориса Петровича: его Военно-походные журналы за 1709 и 1710 годы. Сообщая о военных передвижениях и происшествиях, они в то же время, в отличие от дневников за другие годы, описывают порядок дня фельдмаршала – всегда в кратких и однообразных выражениях, но при последовательном повторении, число за числом, приобретающих достаточную изобразительность.
Действие происходит в разных местах: сначала вблизи Полтавы (в Сумах), потом в Москве, в Митаве, под Ригой; но при этой смене мест и обстановки в самом помещении фельдмаршала – в палатке ли, в случайной ли квартире или в собственном доме – картина, по существу, всегда одна и та же: он редко садился за стол один, и сверх того, у него почти ежедневно были посетители по утрам или вечерам – по преимуществу, его боевые сподвижники, среди которых, однако, появлялись и невидные люди под титулом «другие» или «прочие». Иногда, по дневнику, они приходили «для дела» или «для советов», но чаще о цели прихода дневники молчат, предоставляя догадываться о ней по тому, что посетители делали. Вот более выразительные выдержки:
Сумы. 12 января 1709 года: «…царское величество, господин министр граф Головкин, господин адмирал Апраксин были у господина генерала-фельтмаршала для советов с 2 часа…».
13-го: «…царское величество и господа министры и генералы были поутру на квартире у господина генерала-фельтмаршала Шереметева и кушали вотку и разъехались… Ввечеру, во 2 часу ночи, царское величество своею особою изволил быть у фельт-маршала и, кушав вотку и вино венгерское, соизволил отъехать на свою квартиру».
14-го: «…царское величество, граф Головкин, адмирал Апраксин и прочие господа кушали у господина генерала-фельтмаршала на квартире и разъехались по квартирам ввечеру».
16-го: «…царское величество и господа генералы князь Репнин, Аларт, генерал-порутчик Генскин и прочие господа были на квартире у господина генерала-фельтмаршала…».
17-го: «…царское величество в 9 часу пополуночи изволили быть на квартире у господина генерала-фельтмаршала с час».
18-го: «…царское величество и господин граф Головкин, адмирал Апраксин были для советов на квартире у господина генерала-фельтмаршала, и потом царское величество изволил отъехать на свою квартиру. А Апраксин и Зотов кушали у фельтмаршала».
19-го: «…у господина генерала-фельтмаршала изволил быть царское величество и государь царевич, граф Головкин, адмирал Апраксин и прочие господа генералы с 2 часа и разъехались. А ввечеру царское величество и все министры были и забавы имели [до] 6 часов ночи и разъехались по квартирам»{44}.
В январе 1710 года перед походом на Ригу Шереметев провел некоторое время в Москве:
13-го: «Генерал-фельтмаршал ездил из дому своего в Преображенское надвор Генеральной, где был его царское величество и светлейший князь генерал-фельтмаршал Меншиков и прот-чие господа министры и имели смотр воеводам и дворянам… и отбыв с час, разъехались. И он, господин-фельтмаршал, прибыл в дом свой и кушал дома, при нем – господа генералы-одъютанты и одъютанты, и протчие господа».
14-го: «Генерал-фельтмаршал из дому своего никуды не выезжал, токмо у него были многие господа и кушали дома».
15-го: «У генерала-фельтмаршала его царское величество со всем собранным региналом (генералитетом. – А. З.) были и кушали и веселились до 3-го часа пополуночи и разъехались в добром поведении».
16-го: «Генерал-фельтмаршал поутру рано, в 8-м и 9-м часу пополуночи, ездил в Кремль и ходил по всем соборным церквам и по монастырям и прикладывался ко всем святым мощам, и слушав литоргии в Чюдове монастыре в трапезе, где есть гроб чюдотворца Алексея. Потом прибыл в дом свой и кушал в доме своем, при нем – многие господа».
17-го: «Генерал-фельтмаршал из дому своего никуды не ездил, токмо у него были многие господа, и кушал дома».
18-го: «Генерал-фельтмаршал поутру, в 9-м часу, из двора своего поехал в Преображенское и на пути за вороты Мясницкими, у Земляного города, встретил его царское величество и, став на сани его, прибыл с его царским величеством в дом свой. И тут его царское величество, кушав вотку и быв с полчаса, пошол в город, а он, генерал-фельтмаршал, во весь день был в доме своем и кушал у себя».
19-го: «Генерал-фельтмаршал со всем своим домом ездил на свой двор загородной, что под Девичьем, и там кушал; при нем – господа генералы-одъютанты и протчие. И тут… до самого вечеру быв, веселились довольно»{45}.
Готовя осаду Риги, фельдмаршал остановился сначала в Митаве. И здесь дневник дает такую же картину, хотя и с некоторыми новыми чертами:
В марте 1710 года «…у фельтмаршала в Митаве на квартире ево был банкет, а на том банкете были и кушали господин генерал Рен, да нововыезжей генерал Лизберн и при нем полковники и афицеры, кои с ним выехали, да курлянские жители з женами».
22 марта: «…Фельтмаршал кушал в Митаве у себя на квартире. При нем был генерал Гинтер».
23-го: «Был фельтмаршал на своей квартире и кушал, при нем кушали ж: генерал-отъютант господин Чириков и поляки, и другие».
24-го: Такая же запись, но в конце: «…кушали ж брегадир Чириков и протчие»{46}.
Наконец, фельдмаршал – под Ригой.
17 апреля 1710 года: «В Юнфергофе поутру в хоромах у генерала-фельтмаршала Шереметева был светлейший князь генерал-ф. Меншиков и господа генералы: князь Репнин, Рен, Рендель, Айгустов, брегадир Чириков и кушали вотку, а пополудни светлейший князь с княгинею и с протчими персонами были у фельтмаршала…»
18-го: «В Юнфергофе поутру генерал-фельтмаршал Шереметев из своих хором ходил в хоромы к светлейшему князю генера-лу-фельтмаршалу Меншикову и, побыв с полчаса, светлейший князь с своею княгинею кушал у фельтмаршала Шереметева, при том генералы: князь Репнин, Рен, генерал-маеор Боур, брега-дир Чириков и протчие были генералы-отъютанты и офицеры…»
20-го: «Генерал-фельтмаршал господин Шереметев кушал в Юнфергофе у себя на квартере; при нем были: брегадир Чириков и протчие. А после обеда пришел светлейший князь генерал-фельтмаршал Меншиков, сиятельный князь генерал Репнин, генерал-лейтенант Фанвердин, генералы-маеоры Айгустов, Келин и иные афицеры и забавились до самаго вечера».
21 апреля в дневнике, очевидно, в качестве редкого случая отмечено, что фельдмаршал «кушал в Юнфергофе у себя в хоромах, а посторонних при нем не было…» Впрочем, «после кушанья, – читаем дальше, – был сиятельный князь генерал Репнин, генерал Рен, генерал-лейтенант Боур, генерал-маеор Айгустов и протчие афицеры»{47}.
Как видим, в походном дневнике отразился тот же образ гостеприимного хозяина, что и в предании. Только в одном разве пункте дневник несколько предание исправляет – там, где оно хочет представить Шереметева как неумолимого противника Бахуса. По словам одного автора, черпавшего свои сведения из этого источника, при Борисе Петровиче из шереметевского дома «изгнаны были кубки с вином, а место их заступили: образцовая утонченность нравов, поучительные разговоры, приятность и непринужденность в обращении…»{48}. Дневник, однако, убеждает, что таким ригоризмом в отношении Бахуса, пользовавшегося, как известно, большим почетом в кругу петровских сподвижников, Борис Петрович не страдал. Но, преувеличивая трезвость фельдмаршальского дома, предание, может быть, и верно воспроизводит установившийся в нем общий более культурный тон, удерживавший в известных границах тогдашние темпераменты. Возможно, не без задней мысли и составитель дневника, описывая день 15 января 1710 года, подчеркнул, что гости фельдмаршала, повеселившись, разъехались «в добром поведении»: так бывало не всегда и не везде, а может быть, и очень редко.
5
Фельдмаршал был крупным помещиком-землевладельцем. Но таким он стал не сразу. Его отец Петр Васильевич Большой Шереметев, видный боярин царя Алексея Михайловича, не был богат и, имея пять сыновей, старшему Борису, когда тот «отделился» от него после женитьбы в 1669 году, не дал, по-видимому, никакой части из своих вотчин. По крайней мере, сам Борис Петрович впоследствии говорил, что до 1673 года, когда ему был назначен поместный оклад в 700 четей{49}, он имел только «пожиточное поместье своей жены в 100 четей» и, «опричь де того поместья», больше ничего за ним не было{50}. Правда, после отца, умершего в 1690 году, ему досталось родовое: села – Сергиевское в Ряжском уезде, Чиркино в Коломенском уезде и Вершилово в Нижегородском уезде, да по завещанию дяди его, Петра Васильевича Меньшого Шереметева, село Мещериково в Московском уезде, всего не более 200 дворов. Этим как будто исчерпывался фонд наследственных земель в его владениях, если не считать еще села Кускова, которое позднее было куплено им у брата Владимира Петровича{51}.
Таким образом, Борису Петровичу приходилось собственными усилиями, по тогдашнему выражению, «собирать дом». Для него, как для всякого дворянина в его положении, главным, если не единственным, путем к обогащению была служба. Конечно, установленные земельный и денежный оклады не могли быть источником большого богатства. Но для предприимчивого человека служба открывала другие возможности. Речь идет о наградах за особые заслуги в форме пожалования землей, ценными вещами, деньгами и т. д.
В жизни Бориса Петровича эти возможности имели свое значение еще задолго до того, как он стал полководцем. В 1669 году он получил «за усердную службу» 200 дворов в селе Молодом Туде и 4 тысячи рублей деньгами{52}. В 1686 году за участие в переговорах с польскими послами, закончившихся заключением «вечного мира», ему было дано 4 тысячи рублей «на покупку деревни»{53}. В том же году дипломатическая поездка в Вену с извещением о «вечном мире» доставила ему ценный подарок от австрийского императора – разной серебряной утвари до трех пудов, а московское правительство за ту же службу наградило 2 тысячами ефимков и разными ценными вещами, а также переводом из поместий его в Дмитровском, Орловском и Коломенском уездах 515 четвертей в вотчину{54}, то есть из условного владения в наследственную собственность. Но, без сомнения, гораздо больше приносили ему военная добыча и разного рода контрибуции, которых он не чуждался как во время войны с татарами, так и после, в Лифляндии и Польше. В результате к 1690-м годам мы видим в распоряжении Бориса Петровича значительные денежные средства: сумма, которую он потратил на заграничное путешествие, нашлась бы, надо думать, не у каждого боярина.
Часть собранных денег он тратил на расширение своих земельных владений. В промежутке времени между 1687 и 1695 годом он, по собственным словам, «построил… село Борисовку и Поношивку…»{55}. Тогда же были сделаны им земельные приобретения и в других местах, так что в 1696 году, по складной росписи корабельного «кумпанства»[4]4
Корабельные «кумпанства» возникли по указу Петра I осенью 1696 года; царем было предписано с каждых 10 тысяч дворов помещичьих крестьян строить один корабль на Воронежской верфи. Была составлена складная роспись, где значилось, кому и в каком объеме участвовать в этом деле.
[Закрыть], за ним числилось, кроме Борисовки, еще 732 двора{56}.
В первые годы Северной войны произошла остановка в росте шереметевских владений. Война потребовала усиленных расходов. Между тем казенной помощи не было: за победу при Эрестфере Петр дал Шереметеву титул фельдмаршала, но с назначением жалованья или земельной дачи не спешил. В результате фельдмаршал в какой-то момент, по-видимому, исчерпал имевшийся денежный запас. В 1706 году Борис Петрович был не в состоянии, например, сразу уплатить своему свату Ф. А. Головину за купленную у него кровать и поставлен был в большое затруднение, когда тот напомнил о долге: «Изволил писать ко мне, – читаем в его письме к Головину, – чтоб за кровать деньги заплатить, и я ныне писал к невестке (жене старшего сына Михаила, дочери Головина. – А. З.), чтоб хотя последний судишки заложить, а деньги милости твоей заплатить велел…»{57}.
После этого уже не кажется неожиданной просьба, с которой он обратился в 1704 году к Петру перед походом в Польшу: «Умилосерьди нада мной, вели мне дать, чем ехать и чем там жить: ей, оськудаль»{58}. С большей откровенностью изобразил он и свои затруднения, и свою обиду в письме к Меншикову, рассчитывая найти в нем посредника между собой и царем: «Прошу, братец, твоего жалованья: умилосердися надо мной, подай мне руку помощи! За что я опечален? Что мне обещано, до сего времени удержано, а жалованья мне против моего чину нет. Всем его, государева милость – жалованье, а мне нет!.. Ей, государь мой братец, в нищету прихожу. Тебе известно, что ни откуля ни копейки мне не придет… Умилосердися, батька и брат Александр Данилович!.. Если уже вотчин обещанных мне не дадут, чтоб мне учинили оклад по чину моему. А если не буду пожалован, пришло к тому, что странствовать: ужели я все прослужил, а не выслужил»{59}.
В эти годы, по-видимому, выручала фельдмаршала больше других вотчин Борисовка. Она не была еще описана, то есть ее жители не были занесены в писцовые книги по дворам, а потому не несли государственных повинностей и знали только оброк владельца. Какую важность имели доходы от Борисовки в тогдашнем бюджете фельдмаршала, можно судить по тому отчаянию, в которое повергло его известие о предстоящем ее описании. По обыкновению он обратился с просьбой об отмене распоряжения одновременно и к Петру и к Меншикову. Первому писал: «Помилуй меня милостию своею, не вели до указу своего государева описывать деревни моей, которую я по твоей милости поселил… Борисовку и Поношевку; если станут ее описывать, истинно, государь, все разойдутца и будет пусто, а я совсем буду нищий»{60}. Еще выразительнее письмо к Меншикову: «Милости у тебя, батька и брат, прошу: умилосердися ради самого Бога, покажи надо мною отеческую милость, не дай мне вовсе разоритца… Паки малю: умилосердися, чтоб ее (Борисовку. – А. З.) не описывать, а есть ли ее будут описывать… все разбредутца и будет пуста. А мне крайнее будет жить нечем, а тебе, братец, известно, что и вновь хотели меня пожаловать и рукою подписали. И ныне я прошу со слезами, чтоб вместо той милости сим вышереченным меня пожалуйте»{61}.
Зная тогдашние размеры шереметевских владений, трудно допустить, чтобы в этих жалобах не было преувеличения. Так, надо думать, смотрел на них и Петр, не торопясь исполнить просьбу фельдмаршала. Как бы то ни было, щедрые награды 1706 года сразу покончили с трудностями Шереметева. За усмирение бунта в Астрахани ему были даны село Вощажниково и Юхотская волость в Ярославской губернии, заключавшие вместе не менее 10 тысяч дворов, и в то же время было назначено денежное жалованье – 9 тысяч рублей в год. По этому поводу Меншиков не без иронии писал Петру, намекая на усвоенный фельдмаршалом особый маневр добиваться царских милостей: «Как перед отъездом из Киева господину фельдмаршалу Шереметеву объявил я вашу милость, а именно, что пожаловали вы его селом Вощажниковым и Юхоцкою волостью, то зело был весел и обещался больше не болеть»{62}. Болезни Шереметева, на которые он ссылался в разных случаях, действительно обнаруживают подозрительную целесообразность.
С пожалованием Вощажникова и Юхотской волости награды не прекратились. В 1708 году фельдмаршалу даны села Константиново (56 дворов) и Островец (28 дворов), в 1709 году – Черная Грязь, в 1711 году – дом в Риге и Пебалгская мыза в Лифляндии. Эти пожалования, как и предыдущие, вызваны были, скорее всего, просьбами самого Шереметева{63}. Сознание своих заслуг и связанное с ним чувство собственного достоинства проявилось у Шереметева в 1709 году, когда распределялись награды участникам Полтавской битвы. Ему назначено было тогда село Черная Грязь, что по сравнению с другими выглядело скромной наградой, и Шереметев принял ее как унижение для себя. Он написал Меншикову, точнее – через Меншикова Петру, что он очень ценит возможность через жалуемую ему вотчину связать свое имя со славной «викторией» и таким путем обеспечить себе «честь в бесмертии», но примет ее только под условием, если к Черной Грязи будет присоединена «пустошь Соколова с сенными покосы». «А ежели, – ставил он своего рода ультиматум, – вышеупомянутая пустошь не может быть дана, то без оной и Черной Грязью не изволите меня отехчать»{64}.
Ревниво следя за тем, чтобы награды других не затмили его собственных заслуг и таким образом отстаивая свою честь, фельдмаршал в погоне за земельными приобретениями порой оказывался в парадоксальной ситуации, когда его собственные действия никак не соответствовали тому уровню собственного достоинства, которое он всеми силами поддерживал.
Мы не знаем, какой конец имело заявление его по поводу Черной Грязи. Но вот другой эпизод, подтверждающий высказанное положение и вместе с тем характеризующий упорство приобретательских стремлений Бориса Петровича. Сложившиеся в 1709 году на Украине условия оказались весьма благоприятны для быстрого роста земельных владений московской знати. Сменивший Мазепу на посту гетмана Скоропадский, уже по новости своего положения, не мог дать надлежащего отпора притязаниям влиятельных лиц. Среди искателей мы видим и Шереметева. Он знает, что Меншиков, Шафиров, Головкин и Долгоруков уже успели получить «маетности на Украине», и пишет Скоропадскому, упирая на свои заслуги перед краем «в прошедших консиктурах военных»{65}.
Но, по-видимому, Скоропадский не захотел брать на себя ответственности за раздачу украинских земель и предложил важному просителю, чтобы он сам взял себе «маетность» по своему «изволению». Для Шереметева такой способ решения вопроса, конечно, был неприемлем, и он повторил в своем ответе уверенность «в склонной милости» к нему «его превосходительства» и снова, «предавая» дело на его «усерднейшую волю и рассуждение», приложил при этом солидные подарки – не только самому гетману, но и его «всевельможнейшей сожительнице»: Скоропадскому – «6 коней немецких, возников» со всякой сбруей и даже «с возницами», его жене – «часы добрые новой моды, да две материи новой же моды, французские – золотая и серебряная, да маленькую готоваленьку, которая бывает всегда при покоех». Помимо того, для окончательного утверждения «усерднейшей воли» Скоропадского обещана была в недалеком будущем карета: «Притом Вашему превосходительству доношу, что и карета тако ж нарочитая у меня есть, токмо за нынешним неутвержденным путем послать не можно, а когда утвердится зимний путь, то немедленно до Вашей ясновельможности с нарочным пришлю»{66}. Перед этими аргументами гетман не устоял, и за Шереметевым было укреплено гетманским универсалом «вечно и наследственно» местечко Смелое в пределах Черниговского полка, по правую сторону Днепра.
Дело этим, однако, не кончилось. Последовавшие в скором времени за этим события совершенно обесценили приобретение фельдмаршала: по условиям мира, закончившего русско-турецкую войну 1711 года, население правой стороны Днепра стало переселяться на левую, и шереметевское Смелое опустело. Ввиду этого в 1712 году взамен Смелого гетманом были даны фельдмаршалу – конечно, по его просьбе – два других села, и это вызвало со стороны Шереметева новую кампанию. Фельдмаршалу компенсация показалась недостаточной, и он пишет гетману, что удовольствоваться названными селами ему «перед другими персонами есть небезобидно», а потому он «вынужден» просить о восстановлении нарушенного равновесия:
«…дабы к тем данным дву сельцам приказали еще по возможности в награждение придать, которые есть в Киевском полку или в других…»{67}. Азарт его был столь велик, что, не получив еще ответа на это письмо, он предложил новую, им самим придуманную комбинацию, написав, что был бы удовлетворен, если бы вместо Ольшанки и Ершовки получил местечко Баклань «с принадлежащими к нему». «А ежели, – заканчивал он письмо тем же оборотом, какой был употреблен им раньше в вопросе о Черной Грязи, – того у Вашей ясновельможное™ и у всего Малороссийского краю… не заслужил, то в том буди воля Ваша, и прикажите маетности Ольшанку и Ершовку отобрать, дабы я тем Вашу ясновельможность не отяготил»{68}.
Заняв такую решительную позицию, фельдмаршал довольно скоро, однако, отступил с нее – как только из ответа Скоропадского увидел, что своею «докукою не только скучил, но и до гневу привел» гетмана. Теперь он был готов удовольствоваться предложенным ему в дополнение к Ольшанке и Ершовке селом Змерянкой и просил только, «буде возможно и не в малую противность, который к тому селу был хутор, дабы не разделять…» (то есть отдать ему хутор вместе с селом{69}. Если припомним, сколько к тому времени у фельдмаршала было во владении земель, последний пункт его письма получит особую выразительность.
Как видим, жалованные земли доставались Борису Петровичу не всегда легко. Тем крепче держался он за свои владельческие права. В его представлении эти права были им заслужены и потому не могли быть без нарушения справедливости у него отняты или умалены. В 1712 году велено было по каким-то соображениям собирать доходы с данной перед тем фельдмаршалу Пебалгской мызы в казну. Это распоряжение вызвало решительный протест со стороны Бориса Петровича, и, предпочитая, как всегда, действовать через Меншикова, он пытался разъяснить светлейшему князю, что затронут их общий интерес: «Ныне вашей светлости покорно прошу, чтоб оные (мызы. – А. З.) были по-прежнему в моем владении с их доходы; я то у его царского величества выслужил своими трудами. И ежели ныне у меня то заслуженное отымут, то и у вашей светлости отымут же, разве наши службы будут забвенны, о чем я разсуждаю, что его царское величество того не желал бы. И нам все обиды такой видеть не надлежит»{70}.