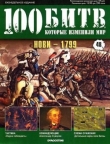Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
К войне с Турцией Россия не готовилась, события застали ее врасплох. Но в то же время все говорило о том, что нельзя ждать, пока неприятельское войско подойдет к русским границам. России обещали оказать поддержку людьми и продовольствием восточные православные области, находившиеся под турецким игом, главным образом Молдавия и Валахия. Но они могли исполнить свое обещание только при условии, если русские войска раньше турок достигнут берегов Дуная. Таким образом, поспеть к Дунаю как можно быстрее было главной задачей русской армии. Разрыв с Турцией произошел 22 декабря 1710 года, а 5 января года следующего Шереметев уже получил царский указ, которым он назначался главнокомандующим.
Последующими указами ему предписывалось снарядить и отправить на юг стоявшие под Ригой пехотные полки, а самому ехать почтой «до конного войска» «как наискоряе». Борис Петрович стал просить, ссылаясь на трудности похода, дать ему больший срок, но получил суровый ответ, чтобы спешил с полками «неотлагательно, оставя все отговорки». К этому в изменение прежнего указа присовокуплялось, чтобы он шел сам при пехотных полках, чтобы «их поспешить и все порядочно управить»{283}.
Шереметев выступил из Риги 11 февраля. Приблизительно в то же время отправлены были к «волошским границам» князь М. М. Голицын с десятью драгунскими полками и генерал Вейде с пехотой. В пути фельдмаршалу доставлялись сведения о движении неприятеля. Между тем наступила весенняя распутица, и в Военно-походном журнале фельдмаршала постоянно встречаем упоминания о «противной погоде» и «воде многой»; в Полесье приходилось перебираться на лодках «через реки и болота великие…».
Войско то и дело догоняли курьеры с наказом от царя: «Маршем поспешить». К 1 апреля были в Минкевичах, а 2 апреля письмом из Луцка Петр требовал, чтобы фельдмаршал ехал «своею персоною» к нему, «где можем, – писал царь, – обще некоторыя дела определить…»{284}. 13 апреля на квартире Петра прошла консилия, на которой, кроме царя и Шереметева, присутствовали Г. И. Головкин, Г. Ф. Долгоруков и П. П. Шафиров. Было постановлено, чтобы всей армии к 15 мая, а по нужде «к 20-му числу мая стать в поле от Брацлава к Днестру» и чтобы сам фельдмаршал, приняв команду над драгунскими полками, был в Бреславле еще в апреле «для лутчего управления». Фельдмаршалу царем было особо добавлено: «Сие все исполнить, не упуская времени, ибо ежели умедлим, то все потеряем… К тому ж, чего здесь и не писано, а интерес наш чего требовать будет, то исполнить как верному и доброму человеку надлежит»{285}.
17 апреля Шереметев выехал из Луцка и в начале мая был в Бреславле. Сюда 12 мая привез ему князь В. Долгоруков царский указ о дальнейшем движении. Шереметев должен был, вступив в Молдавию, поднять местное население против турок, заготовить при содействии молдавского господаря продовольствие и затем скорым маршем идти к Дунаю, чтобы захватить строившуюся турками переправу. Долгорукому было наказано предупредить фельдмаршала, чтобы «немедленно шел в тот поход» и чтобы «сего походу ни за нем и ни за каким разсуждением не отлагать…»{286}.
24 мая Шереметев подошел к Днестру. Здесь он получил от молдавского господаря письмо с просьбой прислать ему войска для защиты Ясс. Из этого следовало, что на помощь господаря нечего было рассчитывать. А через несколько дней после того стало известно, что турки много ближе к Дунаю, чем русские; вследствие этого Шереметев сам 3 июня повернул к Яссам. Между тем 6 июня Петр писал ему, продолжая считать возможным опередить турок на Дунае: «…извольте чинить все по крайней возможности, дабы времяни не потерять, а наипаче чтоб к Дунаю прежде турков поспеть, ежели возможно»{287}.
Когда пришло письмо Шереметева с извещением о движении его вместо Дуная к Яссам, Петр в своем ответе негодовал: «…о замедлении вашем зело дивлюся, понеже первее хотели из Бреславля итить (как вы писали ко мне) в Яворов 16-го числа и тако б возможно было поспеть в четыре дни, то есть к 20 числу, а вы перешли 30 числа, и тако десять дней потеряно; к тому ж на Яссы – криво: и ежели б по указу учинили, то б, конечно, прежде турков к Дунаю были…». И совсем как в письмах из времен лифляндских походов: «…а ныне старые ваши песни в отговорках»{288}.
В свое оправдание Шереметев приводил то, что на прямом пути к Дунаю войска страдали бы от недостатка воды; главное же, все равно: прежде турок прийти к Дунаю было невозможно. Но едва ли фельдмаршал верил в убедительность этих доводов для Петра: «…выразумел вашего величества гнев, в чем буди воля Божия и вашего величества. К оправданию своему многих извинений писать не могу, дабы к большему гневу не подвигнуть»{289}.
Оставалась другая задача, которая теперь всей тяжестью легла на фельдмаршала, – добывать продовольствие для армии. Молдавский господарь из того, что обещал, ничего не сделал, и Шереметев сам должен был изыскивать способы к добыванию провианта в опустошенной стране при порой враждебном отношении со стороны большей части населения.
12 июня на берег Днестра прибыл Петр с гвардией. Здесь уже находились генералы Алларт, Брюс, Вейде, Репнин, Ренне со своими полками. 14-го созван был совет, на котором голосами русских генералов против иноземных было постановлено продолжать наступление. 30 июня перешли Прут и присоединились к фельдмаршалу, расположившему свой корпус под Яссами. Сюда же прибыл и Петр. С этого момента все руководство военными действиями, равно как открывшимися затем мирными переговорами, перешло к Петру, а Шереметев выполнял при нем только знакомую нам представительную роль. Но Петр сделал распоряжение, что «в случае какой крайности» заменить его должен именно фельдмаршал.
Заключенный с турками мир был тяжел[11]11
Автор опускает описание дальнейших событий похода, которые сложились крайне неудачно для русской армии и привели ее на грань полного уничтожения. В результате Петр вынужден был заключить 23 июля 1711 года унизительный Прутский мирный договор, по которому Россия лишалась выхода к Азовскому морю и недавно построенного южного флота.
[Закрыть], особенно в первых двух пунктах, которыми русские обязывались: 1) передать туркам Азов и срыть построенные по азовскому побережью города – Таганрог, Каменный затон, Новобогородицкий и 2) не вмешиваться в польские дела. С берегов Прута армия возвращалась разными путями. Шереметев отвел свои драгунские полки и семь пехотных из дивизии Вейде, согласно полученному им распоряжению, в район Полонного и Острова, то есть в пределы Польши, хотя и близко от границы, чтобы следить за выходом шведского короля из Бендер. Вопрос о том, останется ли здесь Шереметев и дальше или уйдет вглубь России, приобретал исключительно важное значение: со стороны Порты пребывание русских войск в Польше вопреки мирному договору в любой момент могло стать предлогом к возобновлению войны, а в то же время удаление их из Польши грозило усилением шведской партии и даже полной потерей этого союзника для России. Поэтому ставка фельдмаршала в это время сделалась средоточием дипломатических сношений: П. П. Шафиров писал ему из Турции, Г. Ф. Долгоруков – из Польши, и они же через него, и он сам слали донесения царю или канцлеру Головкину.
Соответственно Шереметев получил особые полномочия. «Понеже, – значилось в одном из данных фельдмаршалу «пунктов» от 3 августа 1711 года, – …всего имянно за переменяющимися конъюнктурами подлинно указом описать невозможно, то полагается на разсуждение и волю генерала-фельтмаршала, которому как доброму генералу надлежит чинить с помощию Божиею, не опуская времени, что к прибытку нашему, а к убытку неприятеля надлежит»{290}. Эти полномочия еще более расширились после отъезда Петра за границу: фельдмаршалу предписывалось иметь «частую корреспонденцию» с Шафировым и поступать «по тамошним (то есть турецким. – А. З.) конъюнктурам». Поставленный в необходимость руководствоваться в своих решениях политическими соображениями, Шереметев, естественно, испытывал чрезвычайные затруднения. По его признанию, создавшееся положение, когда он должен решать столь важный вопрос «без указу», было для него более «прискорбно и несносно», чем все перенесенные им «трудности и фатыги[12]12
Фатыги – глупости, производное от латинского fatuus – глупый.
[Закрыть]»{291}.
Самым щекотливым пунктом в тягостных переговорах с Портой был вопрос о передаче Азова и о «раззорении» других крепостей. Шереметев лично был заинтересован в скорейшем выполнении этого условия, так как от этого зависела судьба его старшего сына, оставленного, как и П. П. Шафиров, до исполнений русскими условий Прутского договора заложником у турок. Г. Ф. Долгоруков его успокаивал: «…и всеконечно не изволь печалитца. Здержано будет: Азов с другими крепостьми отдан будет. И изволишь сам разсудить, разве мы сами себе недоброхоты, что не учиним по договору…»{292}. Но как можно было отдать Азов, пока турки держали у себя Карла – тоже в нарушение мирного договора? В конце концов Петр согласился Азов отдать. Но Шафиров из Турции настаивал и на том, чтобы русским войскам, во исполнение Прутского договора, «податься к Киеву» из Польши: в противном случае, по его мнению, «шведская высылка», то есть отправка Карла XII из Турции, может не состояться.
Впрочем, само состояние расположенной в Польше армии не позволяло медлить с этим вопросом. Приближалась зима, а солдаты ничем не были обеспечены: «…мундиром весьма обносились, шуб, обуви и рукавиц не имеют…»; кроме того, «ротныя лошади едва не все померли, а пушечных стало кормить нечем…». При таких условиях «не токмо против неприятеля, но и на квартиры к своим краям, когда будут морозы, итти будет пехоте невозможно…». Наконец, в разоренной долгой войной Польше и провианта будет «взять негде»{293}. Ввиду всего этого фельдмаршал решил в 20-х числах октября отойти со всеми войсками в свои границы. Но на конференции во Львове 7 ноября поляки, представители русской партии, заявили ему, что в случае ухода армии они опасаются «между поляками ребеллии» (то есть бунта). Поэтому фельдмаршал остановился на компромиссе: показывая «вид о выступлении», на самом деле медлил, оставаясь в пределах Полонного, Немирова и Белой Церкви и дожидаясь царского указа.
Местечко Полонное, где Шереметев установил свою «главную квартиру», составляло «маетность» Меншикова; оно, вероятно, было получено им от польского короля. Между обоими фельдмаршалами велась оживленная переписка, с несомненностью удостоверяющая, что тени, легшие было на их отношения под Полтавой, окончательно сошли. К этому времени относится едва ли не единственное сохранившееся письмо Меншикова к Шереметеву. Оно было ответом на письмо Бориса Петровича, в котором тот, выражая своему «прелюбезному брату» благодарность за его «благоприятнейшее писание», между прочим сообщал: «Ис турецкой добычи несколько имею аргамаков, и из оных самого лутчего со всем убором до вашей светлости, моему прелюбезному брату, обещаю»{294}.
А вот ответное письмо «светлейшего»: «Превосходительный господин генерал-фельтмаршал, мой особливый благодетель и любезный брат. Вашего превосходительства почтенное, мне же зело приятное писание, от 24-го дня прошедшаго августа ис Полонного писанное, получил я… за которое вашему превосходительству зело благодарствую, прося, дабы и впредь в таких своих приятных и брацкой любви наполненных писаниях оставлять меня не изволили. Что ж изволил взять из моей конюшни 3-х лошадей, и то за щастие почитаю, а за назначенной мне от вашего превосходительства ис турецкой добычи презент вашему превосходительству паки благодарствую и желаю, дабы сподобил нас Вышний лицевидно за оное благодарствовать и взаимно подобными мерами служить»{295}.
В этом ли стиле, церемонном и сдержанно-слащавом, писались другие письма Меншикова к Шереметеву, мы не знаем, но здесь он выдержан от начала до конца. Впрочем, и письма Шереметева к нему, в общем простые и естественные, местами также страдают высокопарной фразеологией – знак того, что и отношения между «братьями» были не вполне безыскусственными. У «светлейшего» оказалась затем нужда и в более существенной услуге Бориса Петровича. Его маетности – Полонное и Межеричи – были весьма отягчены «провиантскими сборами и подводной повинностью» и, судя по ответному письму Шереметева, Меншиков просил его этим маетностям «учинить награждение», другими словами, освободить их «от тягости». Однако Шереметеву пришлось бы в этом случае нарушить прямое распоряжение Петра, и он был вынужден в исполнении этой просьбы отказать: «А ежели б о том мне имянно было не предложено (разумеется, царем. – А. З.), то я по должности услуг моих, яко брату и другу надлежит, к тем маетностям вашей светлости всякое благоснисходительное награждение чинить готов»{296}. Другими словами, «ради друга и брата» фельдмаршал готов был бы совершить незаконный поступок, если бы не удерживала личная ответственность перед царем.
В декабре Шереметев получил ожидавшийся им указ: Петр из Риги благодарил фельдмаршала за то, что он «добро обошелся» в польском вопросе, но предписывал «выступить» из Польши к Киеву, расположив вблизи его конницу, а самому остаться в Киеве, «пока все о короле шведском турки исполнят…»{297}. 21 декабря Шереметев прибыл в Киев, где совершенно неожиданно для себя нашел здесь царский «ордер» с повелением ехать в Ригу и туда же отправить «дивизию Адамову» (генерала Вейде). Между тем, по убеждению фельдмаршала, «конъюнктуры» в тот момент показывали, что с юга никак нельзя было удаляться. Да и как он мог послать в Ригу дивизию, когда у солдат одни кафтаны: «нет ни епанеч, ни камзолей, ни обуви», и это – на зимний поход; не было также ни фуража, ни провианта в дорогу. В таких обстоятельствах он не видел, как указ мог быть выполнен «без великой погибели людей». «Я не знаю, что делать, – писал он Апраксину. – Ни ангел я, не испытлив дух имею, как могу делать, а велят делать ангельски, а не человечески… и какой бы был прибыток в том маршу, я без очков не могу видеть…» Он просит у своего «приятнейшего благодетеля», как ему поступить: «Покорне прошу: пожалуй на се мое желание – ответствуй благим и дружелюбным советом»{298}.
Возможно, Апраксин взял на себя посредничество в этом деле; во всяком случае, указ был отменен. В конце января 1712 года фельдмаршал получил план расположения армии на Украине, согласно которому сам он должен быть в Киеве и при нем две конные дивизии (Януса и Ренне), две пехотные дивизии (Вейде и Алларта) и гетман с казаками. Под его же команду также поступал «корпус» азовских полков с калмыками и донскими казаками. Все это было рассчитано на случай вторжения турок.
Письмом от 26 февраля царь вызвал Шереметева в Петербург: «…всемерно вам надобно, как наискорее налегке приехать к нам сюда на почтовых подводах…»{299}. 25 марта фельдмаршал был в Москве, где на три дня был «принужден задержаться ради разговоров с господами сенаторами…», до сих пор игнорировавшими его требования по части комплектования армии рекрутами, лошадьми, мундирами и всеми военными припасами{300}, а 28-го выехал в Петербург. По-видимому, Борис Петрович находился в это время в особом душевном состоянии. Известно, что приблизительно в это время у него сложилось намерение оставить не только военную службу, а мирскую жизнь вообще и удалиться в Киево-Печерскую лавру.
Как могло сложиться у фельдмаршала такое намерение? Припомним, что уже больше десяти лет Борис Петрович не знал отдыха за непрерывными походами. В течение этого периода его все время перебрасывали с одного театра военных действий на другой: из Лифляндии – в Польшу, из Польши – в Астрахань, из Астрахани – снова в Польшу, затем – марш под Полтаву, отсюда опять – в Лифляндию, из Лифляндии – на Дунай, с Дуная – в Польшу и на Украину, и все эти передвижения и марши производились с постоянными понуканиями сверху: «не извольте мешкать», «не извольте отлагать», «идите не медля», «как наискорее» – и под таким же постоянным страхом «государева гнева».
Военное командование осложнялось трудными административными и дипломатическими задачами, которые несли свои тревоги. А тут еще добавилась сердечная болезнь, полученная в походах и неуклонно усугублявшаяся. Представив себе все это, мы поверим искренности вырвавшегося однажды именно в это время из-под пера фельдмаршала восклицания в письме к Ф. М. Апраксину: «Боже мой и творче, избави нас от напасти и дай хотя мало покойно пожити на сем свете, хотя и немного жить»{301}.
Но пока фельдмаршал оставался «в миру», служба была «вечным» его состоянием. Он знал, что царь не отпустит его в частную жизнь: если и освободит от военного управления, то найдет ему гражданское. Но царь, по крайней мере такова была традиция, не мог препятствовать удалению человека из мира под конец жизни. Таким образом, монастырь казался Борису Петровичу надежным убежищем. Уход в монастырь даже не особенно круто поменял бы его житейские привычки: богатому и знатному человеку такой благоустроенный монастырь, как Киево-Печерская лавра, мог предоставить все необходимые материальные удобства.
В этом направлении, независимо от его личных впечатлений, вела его и традиция, имевшая вообще над ним большую силу. После Полтавской битвы фельдмаршал основал в своей слободе Борисовке женский Богородицкий Тихвинский монастырь. Это говорит о его верности древнерусской традиции, согласно которой боярские фамилии основывали собственные монастыри, которые служили для них «богомольем», а часто и усыпальницами.
Таким образом, монастырь и в самом деле мог казаться ему наилучшим выходом из его тогдашнего трудного положения, и потому с сожалением о неосуществившейся мечте звучат слова его духовной, где он коснулся этой темы: «…желаю по кончине своей почить там (в Киевской лавре. – А. З.), где при жизни своей жительства не получил»{302}.
Но не монашеский клобук, а совсем другое ждало Бориса Петровича в Петербурге. В признание его заслуг Петр устроил ему при въезде в новую столицу триумфальную встречу, какой не делал ни для кого другого из своих сотрудников. Мы знаем от самого Бориса Петровича впечатление, которое произвело на него это торжество: «По указу его царского величества, государя нашего премилостивейшаго, сего апреля 14-го дня прибыл я в Санкт-Петербурх, – писал он Меншикову, – и принят от его величества с таким гонором, которой свыше моей меры учинен, что за великую себе милость приемлю». Но дальше – едва ли не вполне искренне, уже по адресу Меншикова: «Точию причитаю за нещастие, что вашей светлости персонально видеть и лобызать з достойною честью, яко брата моего и друга, не получил»{303}. Плохо верится, чтобы Меншиков мог вызвать у Бориса Петровича подобный прилив чувств. Не хотел ли Борис Петрович особой любезностью, выраженной в столь изысканной форме, предупредить взрыв ревности у светлейшего князя, к которой тот, по словам современников, был очень склонен.
Уже по встрече, устроенной фельдмаршалу, можно было предвидеть, что мечта о монашестве останется бесплодной. Так и вышло: Петр не хотел лишиться опытного полководца в лице Шереметева и не согласился отпустить его. Больше того, видимо, желая раз и навсегда прекратить подобные попытки с его стороны, царь женил его, сосватав ему свою тетку, молодую вдову Л. К. Нарышкина, Анну Петровну, урожденную Салтыкову. Свадьба была 18 мая, через месяц с небольшим после приезда фельдмаршала в Петербург. В самой быстроте, с какой все произошло, чувствуется властная рука Петра; зато самому Борису Петровичу, как можно думать по всей совокупности обстоятельств, пришлось играть в этом деле пассивную роль – послушного исполнителя царских желаний. Он потерял свою первую жену лет за пятнадцать перед тем; сомнительно, чтобы теперь при своем возрасте мог он вдруг вспыхнуть страстью к Анне Петровне, тем более что, если верить известиям одного иностранца, современники считали ее одной из жертв темперамента царя{304}. По другому известию, она когда-то принадлежала к «веселой кампании» Петра{305}.
Почти два месяца фельдмаршал отдыхал. Но 10 июля он спешно выехал к армии ввиду появившихся слухов о подготовляемом будто бы шведами десанте в Курляндию. Согласно указу Петра ему надо было стать с войском по границе Белоруссии от Смоленска, «дабы… сей край… добрым оком смотрели…»{306}. Но слухи оказались ложными, а в то же время пришло из Вены известие, что «турки мир с нами разорвали…». И фельдмаршалу пришлось двинуться в новом направлении: «…подите, – писал ему Петр, – с армиею на Украину, и расположася там в удобных местах, и чините по диспозиции против неприятеля так, как в нынешнем году, будучи в Санкт-Петербурге положено»{307}. Таким образом, мы видим Бориса Петровича снова на Украине – в Прилуках, в Лубнах, наконец, в Киеве, – теперь уже везде со своей женой. Его главная задача была держать армию в готовности и в соответствующей «диспозиции» на случай действительного разрыва с Турцией, а кроме того, ему было поручено «около Киева и Днепра и Лыбеди многия крепости учинить…». Вторая задача оказалась трудно осуществимой, потому что, как доносил фельдмаршал: «…а инженеров здесь ни одного не обретается и сыскать не мог…»{308}.
Может быть, под влиянием триумфа теперь в поведении Шереметева проявлялось как будто больше независимости: он реже прибегал к ненавистным Петру отговоркам, а чаще высказывал свои мысли в случае несогласия с царем. «Тако ж и сего вашему величеству еще не мог же не донесть, как мне разсудилось, – писал он по одному поводу, – и мнением дохожу в другой образ»{309}. В частности, например, согласно указу Петра, он должен был вступить с войсками в Польшу, если шведский генерал Штенбок двинется через Польшу на соединение с Карлом. Об этом у фельдмаршала было свое мнение, и он возразил Петру: если войска из Украины будут выведены в Польшу, то Карл вместе с турками могут отрезать нас от Киева, а татары вторгнутся в беззащитную Украину и «всякия тамо по своему желанию действы исполнять будут…». Изложив эти свои соображения, он заключил: «Прошу на сие милостивой резолюции»{310}.
К 1 июля 1713 года выяснилось, однако, что мирный трактат с турками «постановлен на прежнем основании» и армию можно распустить по квартирам. Фельдмаршал думал воспользоваться наступившей передышкой, чтобы привести в порядок свои домашние дела, и просил разрешения побывать в Москве: «Вашему царскому величеству известно, – писал он Петру 11 ноября 1713 года, – что в доме моем, хотя я и был в прошлом году, и то мимоездом и не мог осмотреться, и нужду немалую имею…»{311}. Ответ пришел, однако, отрицательный: зимой должна была начаться работа по размежеванию границ с турками, в которой главная роль возлагалась все на того же Бориса Петровича, и царь писал ему: «…весьма невозможно вам оттоль сей зимы отлучаться»{312}.
Следующий 1714 год оказался неожиданно тяжел для Бориса Петровича. Против него было поднято обвинение в «непорядках», будто бы «чинимых» им во время пребывания на Украине. Обвинения выдвинул полковник Рожнов, «доносительное письмо» которого сохранилось в делах Кабинета Петра Великого. Главный пункт обвинения – взятки. Приведено множество случаев, когда брали и сам фельдмаршал, и его домоправитель полковник Савелов. Например: «Взял господин фельтмаршал и коволер граф Борис Петрович Шереметев с полковника Рожнова цук вороных немецких сот в пять рублев, аргомака бурова во ста в двацать рублев, пару велел ис коляски выпречь булана-пегих рублей в шездесят… Господин фельтмаршал сам последней муштук на лошади увидил, серебреная аправа, и велел снять с лошади, аправу обрезал сам своими руками, а ремни сшил, и те ремни с поводами и с удилами отдал ему, полковнику, назат, а оправу себе взял: цена – сорок таралей (талеров. – А. З.). Он же, господин фельтмаршел, просил крушак, четвертин серебреных, серого, вороного меренов немецких и кобыл: за то имеет гнев, что не дал»{313}.
Подобные обвинения, превращающие фельдмаршала чуть не в разбойника с большой дороги, сами по себе представляются вздорными, а если мы примем в соображение, что обвинитель был в 1712 году отдан Шереметевым под суд за разные злоупотребления и при обвинительном приговоре отослан в Петербург, то поймем и источник, откуда они возникли. Тем не менее началось расследование, порученное Петром генерал-майору Глебову. Видимо, оно тревожило фельдмаршала, и он по обыкновению искал помощи у своих друзей. Одного из них – негоцианта Савву Рагузинского, которого привечал Петр, в письме от 30 июня он благодарил «о старании в его интересах» и просил не оставить и впредь «в дружелюбии своем», особенно в деле, которое «взводит на него Рожнов». «А какое, – продолжал он, – оправдание на остальное ево отношение от меня послано, о том прошу снестися з господиным Кикиным (другой приятель Шереметева. – А. З.) и высмотрить обще, а ежели что противное ис того ответствия изволите усмотреть, желаю в том мне благоприятной свой совет приобщить»{314}.
Вероятно, именно это дело он имел также в виду в своих двух письмах от 16 марта и 30 мая 1715 года к Апраксину, где благодарил адмирала за оказанную «братцкую христианскую милость», которою он чувствует себя «облагодетельствованным до гроба», а вместе с тем просил о том же и на будущее время: «…пожалуй, по прежней своей ко мне братцкой милости, где прилучитца, охрани»{315}.
Саксонский посланник фон Лоос, бывший тогда в Петербурге, приписывая счастливый исход этого дела для Шереметева князю В. В. Долгорукову, без которого будто бы фельдмаршал никогда бы не выпутался так хорошо из следствия{316}. Как бы то ни было, все кончилось полным оправданием фельдмаршала. Однако оскорбленный самим фактом назначения следствия, он просил Петра об увольнении. Царь и на этот раз отказал. «Напротив, – сообщал своему правительству английский посланник Д. Макензи, – его л ас кают больше, чем когда-нибудь, и уверяют, что к восстановлению его чести будут приняты все меры, доносчиков же накажут примерно…»{317}.
Гораздо сильнее поразило Бориса Петровича несчастье, происшедшее в его семье, – смерть старшего сына Михаила Борисовича, отправившегося по заключении Прутского мира вместе с Шафировым в качестве заложника в Константинополь. Они оставались там в течение трех лет, перенося тяжелые испытания, – особенно после того, как срок возвращения Азова истек и турки стали было готовиться к новой войне с Россией.
«Посадили нас в тюрьму Едикульскую, в ней одна башня и две избы в сажень и тут мы заперты со всеми людьми нашими, всего 250 человек, и держут нас в такой крепости, что от вони и духу в несколько дней принуждены будем помереть»{318}, – писал Шафиров царю. Такое положение любимого сына крайне удручало Бориса Петровича. Еще в июле 1713 года он писал Ф. М. Апраксину: «Ей братцки тебе, государю моему, намерение свое изъясняю: желал бы я с тобою сам персонально видеться и попользоваться вашим превосходительством, якобы от искуснаго врача медикаменту зажить и на мнение свое иметь цельбу, понеже я отягчен печалью сына своего, будучи у Порты Турецкой»{319}.
Летом 1713 года, когда все стадии мирных переговоров с турками были пройдены и оставалась одна только – размежевание границ на Украине, возвращение обоих зависело оттого, как скоро будет приведено к концу это дело, а значит до некоторой степени и от Бориса Петровича, стоящего во главе комиссии по размежеванию. Однако за промедлением турецких уполномоченных комиссия долго не могла приступить к работам. А между тем терпение заложников истощалось, как видно из письма Шафирова к фельдмаршалу от 12 февраля 1714 года. Оно написано в связи с тем, что на части территории размежевание поручено было вместо Шереметева П. М. Апраксину, и Шафиров выражал сожаление по поводу этой перемены, объясняя, что, когда все дело вручено было Шереметеву, он был уверен, что тот «оное своим мудрым управлением как ради собственного интересу, так и ради любви к сыну своему, его превосходительству Михаилу Борисовичу, також и для особливой своей милости ко мне, последнему своему рабу, изволил бы управить изрядно, и как наискоряе и сам нас освободить из сих варварских рук»{320}.
«Долговременное печальное житие» сына среди «варваров» беспокоило фельдмаршала. Дурное его предчувствие скоро оправдалось: 23 сентября 1714 года Михаил Борисович, отпущенный турками, умер по дороге в Киев. Горе фельдмаршала было тем сильнее, что сын подавал большие надежды по службе: имел чин генерал-майора и был на виду у царя. После получения страшного известия с Борисом Петровичем произошел приступ «несносной и претяжкой сердечной болезни»; он писал Апраксину: «…едва дыхание во мне содержится и зело опасаюся, дабы внезапно меня, грешника, смерть не постигла, понеже все мои составы ослабли и владети не могу»{321}.
Ввиду болезни оставаться при делах на Украине, по-видимому, стало нестерпимо, и фельдмаршал письмом от 19 ноября 1714 года просил Петра разрешить ему приехать в Петербург. «…Понеже сын мой, – объяснял он, – смертию своею меня сразил, и я вне себя обретаюсь…»{322}. Разрешение было дано. Но в Москве болезнь усилилась; «голова и лицо распухли и лом великой чувствую», – писал Шереметев Петру. Пришлось задержаться.
Театр военных действий со шведами в 1712 году был перенесен в Померанию, но военные действия там шли вяло; единственным крупным успехом было взятие русскими войсками под начальством Меншикова Штеттина. В 1714 году к Северному союзу России, Саксонии и Дании примкнула Пруссия, чему в немалой степени способствовала передача ей Штеттина. Одновременно все более активную роль играли Англия и Голландия, усиленно предлагая свою «медиацию» в целях заключения мира со Швецией, рассчитывая таким образом обеспечить в Балтийском море свои собственные интересы. Такую же роль не прочь была сыграть и Франция в интересах союзницы своей Швеции. В связи со всем этим действовали уже не столько пушки и ружья, сколько дипломатия и всякого рода интриги.
Лишь к началу 1715 года согласие между союзниками до некоторой степени установилось, и был выработан общий план военных действий, в выполнении которого должна была принять участие и Россия. В принципе Дания, Пруссия и Польша располагали достаточными силами, чтобы отнять у Швеции ее владения в Северной Германии, но они предпочитали получить их с помощью русских войск. Петр же добивался того, чтобы принудить Швецию к миру на выгодных для России условиях; предоставляя союзникам свои войска, он рассчитывал таким путем направлять их действия и тем самым давить на Швецию.
Особая ситуация была в Польше, поглощенной борьбой партий Августа и Лещинского, или, что то же самое, – партий русской и шведской. Борьба эта осложнялась тем, что саксонцы, на которых опирался Август, вызывали ненависть у поляков, и это обстоятельство вело к усилению партии Лещинского. Из-за этого Польша не могла принимать участие в военных действиях союзников. Но зато Петр считал, что имеет право не только проводить войска через Польшу, но и требовать от нее содержать их на пути в Померанию.