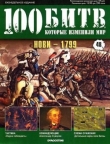Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Итак, враг, который по первым его успехам казался непобедимым, был побежден – и не в небольшой стычке, а в серьезном сражении. Это был момент, с которого начался перелом в общем настроении русских. Наградой Шереметеву за победу был орден Андрея Первозванного.
Может быть, не без влияния успеха при Эрестфере Петр думал уже зимой 1702 года перенести военные действия с запада на север – в Ингрию. «Намерение есть, – писал он фельдмаршалу, – при помощи Божией по льду Орешик доставать…»{100}. Для этого предполагалось употребить войска, сосредоточенные в Новгороде и Ладоге. Шереметеву же предписывалось со всеми войсками, конными и пешими, идти в Сомрскую волость Псковской губернии, чтобы не допустить к Орешку и Канцам «сикурсу» из Ливонии. Борис Петрович, верный своей осторожности, отвечал, что сначала хорошо бы должным образом подготовить драгунские полки. «Есть ли не будут по сей росписи присланы драгунам лошади и припасы, и с ними иттить в поход с безружейными нельзя, чтобы какого безславия не принесть»{101}, – писал он царю 9 февраля 1702 года. Петр не признал соображения фельдмаршала убедительными, но поход все равно не состоялся: его остановили слухи о готовившемся шведами нападении на Архангельск, заставившие Петра отправиться на север. «Зело желали исполнить то («достать» Орешек. – А. З.)… но волею Божиею и случаем времени оное пресеклось до своего времени»{102}, написал он Шереметеву.
Фельдмаршал мог, казалось бы, отдохнуть; ему было разрешено даже съездить в Москву, правда, ненадолго. Скоро он получил указ, отправленный Петром с пути, из Вологды, которым предписывалось выступить в новый поход, на этот раз в Ливонию. Этот указ не сохранился, но по письмам фельдмаршала можно догадаться, что опять не обошлось без обычных неприятных для него сентенций насчет медлительности. И снова Борис Петрович вынужден оправдываться; но на этот раз не перед Петром, а перед Ф. А. Головиным, конечно, в расчете, что тот передаст все царю: «Получил я указ от самого… о походе моем. Богом засвидетельствуюсь, вседушно рад, с великою охотою, и время, по-видимому, удобно бы было, только как Бог поведет, и великою печалью неутешною печалюсь, и щитая дни и часы, что кои прошли, и мешкота моему походу учинилась, только не за мною»{103}. Виновниками «мешкоты» были соединения калмыков, казаков и московских дворяне, которые опаздывали к армии. Прошло почти два месяца, прежде чем фельдмаршал двинулся в поход.
Это был второй «набег» Шереметева. Он был направлен против того же Шлиппенбаха, который, двигаясь от Дерпта к югу, остановился у мызы Санга. Перевес был решительно на стороне русских: у Шереметева было около 30 тысяч, у Шлиппенбаха всего 9–13 тысяч. Узнав о движении Шереметева, Шлиппенбах хотел уйти назад: от мызы Санге пошел «меж рек и болот самыми тесными дорогами…» к мызе Платоре. Фельдмаршал, «не мешкая нигде…», последовал за ним. Тогда Шлиппенбах, бросив обоз, «побежал» за реку Амовжу, но здесь, у мызы Гуммельсгоф, был настигнут посланными ему вдогонку татарами, калмыками и казаками и вынужден был принять бой. Сначала шведы потеснили русский авангард и захватили даже несколько орудий, знамен и часть обоза, но с подходом главных сил под командой Шереметева положение быстро изменилось: Шлиппенбах был разбит и сам он «едва спасся» в Пярнов, «а оставшуюся неприятельскую пехоту, – как сказано в Военно-походном журнале, – наши, отаковав во фланк, многих в полон побрали и порубили…»{104}. После этого повсюду были разосланы отряды, которые произвели страшное опустошение в крае: «…мызы их неприятельские, и деревни, и мельницы, и всякие заводы, которые по дороге и в стороне, потому ж жгли и разоряли, и хлебных запасов и сен пожгли множество, и от Дерпта до рубежа по сю сторону мыз и деревень ничего не осталось»{105}. Было захвачено несколько тысяч пленных и до 20 тысяч голов скота. Шереметев, отрядив генерал-майора фон Вердена с четырьмя полками к Вольмеру, куда намеревался отойти с остатками своего отряда Шлиппенбах, сам осадил Мариенбург, который через несколько дней, не дожидаясь штурма, сдался. Здесь Шереметеву досталась большая добыча, в составе которой между прочим была и Марта Скавронская, будущая жена Петра I.
Поход фельдмаршала заканчивался, когда он получил от Петра письмо с благодарностью за победу при Гуммельсгофе. Вместе с тем Петр выражал желание, которое уже было предупреждено Шереметевым по собственной инициативе, чтобы он еще «довольное время» побыл в Лифляндии и, «как возможно», землю разорил, «дабы неприятелю пристанища и сикурсу своим городам подать было невозможно»{106}. Донося об исполнении этого желания, фельдмаршал доложил, что оканчивает поход: «…августа 31-го числа пойду ко Пскову; больше того быть стало невозможно: в конец изнужились крайне и обезхлебели, и обезлошадели, и отяготились по премногу как ясырем и скотом, и пушки везть стало не на чем, и новых подвод взять стало не откули и во Пскове нет. Чиню тебе известно, что, всесильный Бог и пресвятая Богоматерь, желание твое исполнил: больше того неприятельской земли разорять нечего»{107}.
В результате двух «набегов» Шереметева и действий посылавшихся им партий намеченные ранее операции в Ингрии значительно облегчились, и Петр в августе 1702 года уже мог сообщить своему польскому союзнику, что он намерен, «обретаясь» близ неприятельской границы, «некоторое начинание учинить», то есть осуществить намеченный ранее поход к Орешку (Нотебургу) и Канцам. Сборным пунктом для войск была назначена, как и в предыдущем году, Ладога. В начале сентября здесь находились П. М. Апраксин и А. И. Репнин и при них свыше 16 тысяч солдат. Сюда же «для генерального совету» вызвал Петр письмом от 3 сентября и Шереметева, подчеркнув необходимость его присутствия: «…а без вас не так у нас будет, как надобно»{108}. Затем, через несколько дней, новое письмо от 9 сентября: «…просим: изволь, ваша милость, немедленно быть сам неотложно к нам в Ладогу: зело нужно и без того инако быти не может»{109}. Мы видим совсем иной тон в царских письмах к Борису Петровичу: видимо, успехи в Лифляндии смягчили в глазах Петра недостатки фельдмаршала. 13 сентября Шереметев «пошел» из Пскова, и в Ладоге «его царское величество, – как записано в Военно-походном журнале, – указал з генерального совету ему, генерал-фельдмаршалу и кавалеру с вышеписанными ратными людьми… итить преже к городу Шлюсенбурху и оной с помощию Вышняго Бога отаковать»{110}. По смыслу записи Шереметев назначался главнокомандующим в предстоящей операции. Осажденный в конце сентября Нотебург 11 октября капитулировал. Общая роль главнокомандующего здесь осталась в тени ярких эпизодов, связанных с именами самого Петра и Меншикова. Но прерогатива официального представительства целиком принадлежала Шереметеву – от его лица, например, написан (хотя и с поправками Петра) ответ на условия сдачи, предложенные командованием нотебургского гарнизона{111}.
После взятия Нотебурга явилась мысль сразу же предпринять «генеральный поход» в оставшиеся нетронутыми местности Эстляндии и Лифляндии. По всей вероятности, поход был задуман, как и в предыдущих случаях, Петром, и можно не сомневаться, что Шереметев высказался против, говоря о неготовности армии. Подумав, Петр решил, что «лутче быть к весне готовым, неже ныне на малом утрудиться (как и сам, ваша милость, писал)»{112}. Последняя фраза, несколько неясная по смыслу, становится совершенно ясной при сопоставлении с ответом Бориса Петровича Петру: «А что изволил генеральной поход отставить, от Бога изволил совет принять: все совершенно бы утрудили людей, а паче же бы лошедей, и подводам бы была великая трудность…»{113}. Конечно, Шереметев не мог бы так писать, если бы от него исходило предложение о походе, а с другой стороны, в этой аргументации мы узнаем привычный образ мыслей фельдмаршала.
Чуть раньше, 15 ноября, фельдмаршал почти с отчаянием писал Петру о состоянии материальной части в драгунских полках, составлявших главную силу в его походах: «Великая мне печаль принеслась в лошадях драгунских, зело худы от безкормицы. Сена, которые кошены, тех во Псков и ныне и везть нельзя. Указное сено с архиерея и с прочих без меня не возили ж, а ныне везть стало нельзя за разпутицею; также и овес с дворцовых волостей не собран, а довольствуют меня указами. Посланы указы, а лошади помирают… и впредь, естли такое будет непотребство, все пропадет»{114}.
Из-под Нотебурга Петр поспешил в Москву, где у него много было неотложных дел: «…сам ведаешь, – писал он по пути из Новгорода фельдмаршалу, – сколько дела нам на Москве…»{115}. Но фельдмаршал был крайне нужен ему и там: «…когда не быть походу, нужда есть вашей милости быть сюда великая»{116}. Но у Бориса Петровича были дела в Пскове: поблизости от Нарвы были обнаружены «неприятельские швецкие люди» около трех тысяч человек. «И управя сие дело при помощи Божии, – писал он царю, – сам побреду к тебе, государю, к Москве наскоро»; но и тут не прямо: «…только день или два замешкаюсь в Новегороде для управления драгунских лошедей и забегу в Ладогу, где стоят Малинин полк и новые драгунские полки…», да еще надо ему осмотреть Ладожское озеро: «крепко ли» и в случае, если крепко, послать татар и казаков в Корелу, «чтобы им даром не стоять бездельно»{117}.
В Москве Шереметев пробыл до марта, занятый обучением дворянского войска. Здесь же, уже собираясь в Псков, он, по-видимому, получил приказ Петра ехать в Шлиссельбург ввиду намеченного наступления на Ниеншанц. Но в Шлиссельбурге находились тогда и сам Петр, и Меншиков, а между тем нельзя было оставлять без надежного управления Псков, эту центральную базу для борьбы со шведами. И фельдмаршал написал Петру письмо, ярко рисующее его повседневную военно-административную работу: «Изволишь обо мне помыслить, что мне делать в Шлиссельбурге, все там без меня управлено будет, а когда дело позовет (то есть придет время наступления. – А. З.), я тотчас буду готов. А без меня во Пскове, ей, все станет…
Новоприборные полки кто устроит к великому походу? Подводы кто изготовит? И где кому быть, кто распорядит?»{118}.
Впрочем, в Пскове Шереметев пробыл недолго. Вскоре Петр призвал его к себе, написав, что «все готово»; царь торопил его, «чтоб не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после»{119}. Фельдмаршал явился в Шлиссельбург, и уже 12 апреля под его командой двинулись на Ниеншанц берегом Невы казаки, калмыки и татары, несколько батальонов Репнина и Брюса, два драгунских полка, три солдатских, новгородские дворяне, а 30 апреля подошел Петр с преображенцами. 1 мая после бомбардировки крепость сдалась. Как и под Нотебургом, договор о капитуляции писан от имени Шереметева, и ему 2 мая комендант вручил ключи от крепости.
Итак, «Ингрия в руках»{120}, «заключительное место», как назвал устье Невы Петр, занято и вместе с ним получены, – берем слова дядьки Петра Т. Н. Стрешнева из поздравительного письма царю, – «пристань морская, врата отворенные, путь морской»{121}. Программа, с которой Россия вступала в войну, была выполнена, а как реальный символ этого на берегах Невы был заложен 16 мая 1703 года Петербург, будущая столица. Вопрос состоял теперь в том, как удержать приобретенное. Пока Карл преследовал Августа в Польше, Петр мог выбирать способы обеспечения своих завоеваний.
Первым делом было решено отобрать у шведов ближайшие к Петербургу старые русские города – Ямы и Копорье, которые шведы превратили в крепости. Осада Копорья была возложена на Шереметева, к Ямам был отправлен генерал Верден, который, взяв город, присоединился потом к Шереметеву. Осада Копорья, однако, шла медленно: частью по причине каменистой почвы, затруднявшей осадные работы, частью по отсутствию орудий. С прибытием подкреплений и мортир дело пошло успешнее. 27 мая 1703 года крепость сдалась, и фельдмаршал, уведомляя царя об этом событии, приглашал его и Меншикова приехать в завоеванный город: «Пива с собою и рыбы привозите: у нас нет…»{122}, – наказывал он Петру. Видно, что с царем у него за это время установилась не совсем обычная короткость.
Тогда же решено было укрепить Ямы (Ямбург), и Шереметев поехал туда для наблюдения над фортификационными работами. К 15 августа работы были закончены. «…Новопостроенный город Ямбург, – доносил Шереметев Петру, – снаружи пришел в совершенство, и ворота замкнули у города»{123}. Окончание работ праздновали шумно, но недолго. Еще 24 июля Петр писал Шереметеву, что как только «город совершится», ему следует предпринять «некакой поход»{124}. А 18 августа царь напутствовал фельдмаршала общим пожеланием: «…чтоб не зело скоро возвратиться оттоль, но соверша хорошенько…»{125}.
Это был третий «набег» Шереметева. По плану он должен был захватить Гдовский уезд, Ракобор, Колывань, поселения на Рижской дороге и выйти к Печерскому монастырю, то есть обойти кругом Эстляндию и Лифляндию. В поход шли девять драгунских полков и около четырех тысяч «нестроевых» и «низовой конницы» – татар, калмыков и донских казаков; к ним Петр разрешил прибавить «пехоты разве полк или два…», но не более, чтобы «медления в походе» не было{126}. 22 августа отряд выступил и 29-го подошел к мызе Торменкюле. Стоявший там шведский «караул» при подходе русских отступил к Ракобо-ру, где в то время находился неудачливый противник фельдмаршала генерал Шлиппенбах со своими полками. «И я, – писал Шереметев Петру, – шел с великим поспешением, чтоб его застать, и он, не дождався меня, оставил табор, что в нем ни было, и побежал к Колывани и за собою мосты разметал, и обняла нас ночь, и лошади наши томны стали…» Шереметев становился на отдых, а Шлиппенбах «во всю ночь бежал…». Наутро снова пустились в погоню, но скоро от дальнейшего преследования пришлось отказаться: «…пришли переправы и болота великия, и места пустыя»{127}.
Шлиппенбах благополучно ушел, но цветущие ливонские города ожидала горькая участь. В первую очередь испытал ее Ракобор. Видимо, у самого фельдмаршала было в душе сожаление, когда он описывал этот город в письме к Петру: «И домы тут великие были каменные, слободы большия, строение немалое, ратуша гораздо хороша и кирка каменная, и всяких припасов во всех обывательских домах было много…». Все это – и не только город, а и его окрестности – было разорено и сожжено. Конечно, разорение сопровождалось грабежом: «…все ратные люди удовольствовались как в харчах, так и в конских кормах…». И вдруг в тоне письма – неожиданная шутливость, объясняющаяся общим стилем придворных петровских нравов: «…только мне учинили великую обиду: где я стоял в королевском доме, все ренское и шпанское вино выпустили за посмех.
Такой негодный народ! Только довольствовался аптекарьскими водками…». А дальше опять в прежнем тоне: «…и каков тот Ракобор был жильем и богат припасами, и какия места, изволишь уведомиться от посланного моего и от языков, а всего истинно, государь, не описать»{128}.
В письме называется еще ряд городов: Панда, Вильнев, Руин, Карнус, и о каждом из них упоминание оканчивается одной и той же короткой, но от повторения приобретающей особую выразительность фразой: «и тот город разорили ж». В заключение ко всему отчету читаем: «…и пришел на те же места разоренные, где прошлова года был. И больше того чинить разорения и всего описать невозможно». Но у фельдмаршала не было сомнения в целесообразности произведенного разгрома: «И как им, неприятелям, нынешную зиму остальныя свои войска чем прокормить, Бог знает, можете, ваше величество, сами лучше рассудить…»{129}. Петр мог быть доволен достигнутым результатом.
В конце октября царь и фельдмаршал отправились в Москву. 11 ноября состоялся их торжественный въезд в город. Войска проходили через семь триумфальных ворот в сопровождении огромного «полона». По обыкновению Петр отвел себе в процессии скромную роль, а первую предоставил Борису Петровичу: пышный фельдмаршальский поезд был центром торжественной процессии.
Вот какой вид он имел по описанию современника барона Г. Гюйссена: «Вначале генерал-фельдмаршал Шереметев в санях пространных с дышлом о шти возниках в бронях немецких, на которых шоры зело пребогатые и изрядные были. Перед ним ехали в убранстве французском дворовые его походные люди 30 человек и конюшей его верхами. И прежде тех дворовых людей ведены его ж, фельдмаршала, три лошади простые (без всадников. – А. З.) во всем конском немецком изрядном наряде, а за теми простыми лошадьми его ж, фельдмаршала, сани походныя везены шестернею»{130}.
Что любопытно: заслуги фельдмаршала получили признание не только царя. Из всех сотрудников Петра Борис Петрович – единственный, кто стал героем народных песен. Они возникли, без сомнения, в солдатской среде: об этом говорят встречающиеся в них названия мест, даже даты, памятные только участникам походов. Многочисленность вариантов песен и широта их географического распространения означает, что этим сюжетом овладело народное творчество, применив к его обработке свои приемы и сообщив московскому боярину черты былинного героя. Это могло случиться только при условии, что Борис Петрович чем-то стал близок простому народу. В большинстве своем песни относятся к лифляндскому периоду войны и самые богатые из них вариантами – к битве при Эрестфере. Как ни странно это, но по сравнению с ними даже песня, посвященная Полтаве – лишь бледное подражание.
Для народного сознания в лифляндских походах Шереметева как будто центральный интерес Северной войны; с точки зрения народной психологии последующий ход событий представляется только как их следствие. Если поражение под Нарвой произвело сильное впечатление в Европе, то еще более сильное впечатление должно было оставить оно в России – в ущерб чувству нашего национального достоинства. Упадок духа грозил стать источником дальнейших бедствий. Петр понял это и, может быть, потому, не давая укорениться упадочническим настроениям после Нарвы, настойчиво требовал тогда от Шереметева скорейшего выступления против торжествующего врага. И шереметевские успехи, можно сказать, спасли положение. Благодаря им воспрянула русская армия, а непобедимость шведов отошла в прошлое.
Поэтому песни о победе при Эрестфере, или Красной мызе, проникнуты особенно бодрым настроением. Вот в каком виде рисуется выступление в поход:
Не грозная туча восставала,
Не част-крупен дождик выпадает:
Из славного из города из Пскова
Подымался царев большой боярин
Граф Борис сударь Петрович Шереметев.
Он с конницею и со драгуны,
Со всею московскою пехотой.
Не дошед, он Красной мызы становился
Хорошо-добре полками приполчился,
Он и пушки и мортиры все уставил.
Не ясен сокол по поднебесью летает,
То боярин по полкам нашим гуляет:
Что не золотая трубушка вструбила,
То возговорит царев большой боярин
Граф Борис сударь Петрович Шереметев:
«Ой вы, детушки, драгуны и солдаты!
Мне льзя ли на вас надежду положите, —
Супротив неприятеля постояти?».
Тут возговорят драгуны и солдаты:
«И мы рады государю послужите
И один за одного умерети!»
…Не две грозные тучи на небе всходили —
Сражалися два войска тут большие,
Что московское войско со шведским.
Запалила Шереметева пехота
Из мелкого ружья и из пушек.
Тут не страшной гром из тучи грянул,
Не звонкая пушка разрядилась:
У боярина тут сердце разъярилось.
Не сырая мать-земля расступилась,
Не синее море всколебалось,
Примыкали штыки тут на мушкеты,
Бросали все ружья на погоны,
Вынимали тута вострые сабли,
Приклоняли тут булатные копья,
Гналися за шведским генералом
До самого до города до Дерпта…{131}
Форма обращения к солдатам, приписанная песней фельдмаршалу, дает указание и на другую причину, по которой народное творчество избрало его своим героем, – хорошее отношение к солдатам. Недаром войска, состоявшие в его ведении, обычно находились, по отзывам свидетелей, в хорошем виде. Важнее среди всех показания Меншикова.
В начале 1705 года он был послан царем в Витебск, где стоял в то время Шереметев со своими полками, для осмотра их состояния. Борис Петрович не очень-то доверял его беспристрастности. Но вот как формулировал свое впечатление Меншиков в донесении к царю: «В Витепске зело-зело изрядно солдаты убраны и во всем довольны и здоровы, також де и в Полоцку тем же подобны, только не так одежны…»{132}. Находившийся при русской армии в Литве Витворт вынес такое же впечатление. «Московскую пехоту всюду очень хвалят, – писал он, – и полк, который при мне вступал в город два дня тому назад, шел в отличном порядке: офицеры все были в немецком платье, а рядовые хорошо вооружены мушкетами, шпагами и штыками»{133}. Заботливость Шереметева по отношению к солдатам, конечно, должна была придавать ему популярности в народной массе.
* * *
До определенного момента Петр только в общем плане учитывал интересы своего союзника – польского короля Августа II; военные операции обоих были раздельными, и русские войска, за исключением одного незначительного случая, не выходили из пределов Ингрии и Лифляндии. Но к началу 1704 года положение Августа сделалось крайне тяжелым. Карл, задумав лишить его короны, нашел поддержку среди самих поляков. Для России замена Августа ставленником шведского короля означала потерю Польши как союзницы. По словам Петра, «мы и сысканая (то есть территории, приобретенные в Ингрии и Ливонии. – А. З.) потеряти можем», если Август «не точию от неприятеля, но и от бешеных и веема добра лишеных поляков с срамом выгнан и веема престола лишен быти может»{134}.
При таких обстоятельствах собственный интерес диктовал Петру непосредственно вмешаться в польские дела. Вместе с тем он понимал, что помощь Августу будет тем вернее, чем прочнее русские войска будут чувствовать себя в Лифляндии. Но у шведов там оставалось еще несколько крепостей – Дерпт, Нарва, Рига. Логика подсказывала, что следует в первую очередь изгнать оттуда шведов. Некоторое время Петр колебался между двумя решениями.
Сначала он склонялся ко второму решению, и Шереметев получил приказ готовить новый поход. Но известие о низложении Августа заставило Петра передумать, и Шереметеву 23 марта 1704 года дан был указ «итить в польскую сторону… буде с конницею трудно, хотя бы пехоту подвинуть к рубежу». Впрочем, речь шла не о выступлении, а только о «немедленном приготовлении» – выступить Шереметев должен был по получении нового письма, но зато уже «трех дней не мешкать»{135}. 12 апреля, однако, походу «в польскую сторону» был дан отбой: Петр писал, что по «подлинной ведомости» шведская партия в Польше потерпела разгром и потому вместо «великого похода» фельдмаршалу предписывалось «как возможно скоро иттить со всею пехотою… под Дерпт и осаду з Божиего помошию зачать»{136}.
Между тем обстоятельства внесли в подготовку похода осложнение. От пленных шведов узнали, что Шлиппенбах собрался идти к устью Наровы, чтобы ударить по стоявшему там русскому отряду, который не пропускал корабли с припасами для Нарвы. Поэтому от царя пришло новое поручение: если сведения о планах Шлиппенбаха верны, то надо путь ему «пресечь» и «на то изготовить сколько полков пристойно…»{137}. Шереметев как будто даже обрадовался возможности новой встречи со своим старым знакомым, и, хотя Петр этого не требовал, готов был лично отправиться в поход против Шлиппенбаха: «…благодарил бы я Бога, чтоб он пришел в тот угол… Сколько Бог мне да поможет, поищу я ево и сам, где он ни будет…»{138}. А осада Дерпта? 20 мая фельдмаршал получил категорическое напоминание: «…немедленно извольте осаждать Дерпт, и зачем мешкаете, не знаю… Еше повторяя, пишу, не извольте медлить»{139}. Так что мечты о новой встрече с Шлиппенбахом пришлось оставить.
К моменту получения последнего письма Петра полки к Дерпту уже были отправлены: одни – сухим путем, другие – водою. В Дерпте был сильный гарнизон, около трех тысяч человек. И имелось одно обстоятельство, о котором фельдмаршал не говорил, но которое можно предполагать: он сознавал свою недостаточную опытность в осаде таких крупных крепостей, как Дерпт. Правда, под его командованием были взяты Нотебург и Ниеншанц, но там действительное руководство осадой принадлежало, без сомнения, не ему.
9 июня Шереметев прибыл под Дерпт. Всего здесь было сосредоточено 24 полка (15 – пехоты и 9 – кавалерии), около 23 тысяч человек; при них 27 пушек, 15 мортир, 7 гаубиц. Сразу по прибытии фельдмаршал приказал начать осаду. Город ответил ожесточенным сопротивлением. Некоторая наивность заметна в письме Шереметева к Меншикову из-под Дерпта: «И не можем по се число (21 июня. – А. З.) пушечной, и мортирной и стрельбы отбить, и зело нам докучают, залбом стреляют на все наши шанцы, пушок из восьми и из двенатцати бомб по десяти сажают… в самые батарей бомбы сажают, и две пушки медные двенатцатифунтовые ранили. Я, как и взрос, такой пушечной стрельбы не слыхал». Конечно, и наша бомбардировка им «шкодит гораздо», «только, – оговаривался фельдмаршал, – они непрестанно дочинивают»{140}.
Прошло три недели, а заметных результатов не было. 2 июля приехал Петр. Он нашел, что люди «в добром порятке»: «зело бодры и учреждены», но осадные работы ведутся неправильно – старались пробить брешь там, где крепостная стена не позволяла. «Просто сказать, – писал царь Меншикову, – кроме заречной батареи и Балковых шанец[5]5
Имеются в виду окопы полка, которым командовал полковник Ф. Н. Балк.
[Закрыть] (которые недавно пред приездом нашим зачаты), все – негодно, и туне людей мучили. Когда я спрашивал их: для чего так, то друг – на друга, а больше – на первова (который только ж знает)»{141}.
Петр взял дело в свои руки. В результате в разных местах стены были пробиты три бреши. В ночь с 12-го на 13-е произошел упорный бой, и 13 июля Дерпт капитулировал. Оставив фельдмаршалу инструкции, Петр тут же уехал под Нарву, которую тоже осаждали русские войска.
Некоторое время Шереметев оставался в Дерпте, налаживая порядок в городе и принимая меры к исправлению поврежденных бомбардировкой городских укреплений. «Чуть жив от суеты, – писал он Ф. А. Головину, – не имею ни от кого помощи»{142}. Между тем пришло письмо от Петра: он желал, чтобы фельдмаршал как можно скорее шел с войсками к Нарве.
24 июля Шереметев сообщил Меншикову, который вместе с Петром находился под Нарвой, что пехота уже выступает, конница выступит завтра, «а я останусь на день для крайней своей болезни… зело я, братец, болен и не знаю, как и волотца, рад бы хотя мало отдохнуть»{143}. Но отдохнуть не пришлось: вероятно, в тот же день, когда это писалось, было получено новое письмо от Петра: царь требовал идти к Нарве «днем и ночью… с конницею и пехотою…» и добавлял: «А естли так не учинишь, не изволь на меня пенять впредь»{144}.
Все это не мирится с нашими представлениями о положении главнокомандующего: Борису Петровичу оставляли слишком мало простора для проявления самостоятельности. И чем глубже Петр входил в военное дело, чем шире раскрывался его военный гений, тем теснее становилась сфера самостоятельной деятельности фельдмаршала. Ни одной по существу значительной операции он не «смеет» – употребляя его выражение – начать или предпринять иначе, как по указу царя или без доклада ему. И не только в вопросах стратегического, но и чисто хозяйственного характера он обращался за указаниями к царю. Если, например, получал указ сделать запас провианта, то считал необходимым спросить «сколько класть и как ево возить: нынешнею ль зимою или весною, и буде весною возить, также и анбары, во что те провианты класть, и люди, кем и на каких подводах возить…»{145}.
Можно сказать, все действия фельдмаршала регулировались инструкциями или «статьями», исходившими от Петра. Яркое изображение вытекающих отсюда последствий, в частности душевного состояния Бориса Петровича, дает его письмо к Петру из Пскова от 29 января 1702 года: «Премилостивейший государь, получив твой государев указ, что за волею твоею не быть мне к Москве, нужные имею дела в доношение, без чево пробыть невозможно. Об ыных делех сколько крат писал и сам тебе, государю, доносил – на многое указу не получил, и естли в таком неуправлении весна застанет, крайней худоба будет, от чево, сохрани Боже. И я, последний раб твой, смертно печалюсь, чтобы вместо милости не понесть на себе гневу и не причтено бы было в некакое нерадение и в оплошку. Прикажи ко мне прислать статьи: что мне делать…»{146}. Может иногда даже показаться, что фельдмаршал сам не хотел самостоятельности и вполне удовлетворялся ролью исполнителя.
Когда он бывал вместе с Петром или Меншиковым, как, например, под Нотебургом и Ниеншанцем, то руководящая роль, а с нею и вся ответственность обыкновенно переходила к тому или другому, и это время рисовалось Борису Петровичу, судя по его письму к Петру от 22 мая 1704 года, как самое беззаботное. «Известно тебе, государю, – писал он, – ни от ково помощи не имею; лехко мне жить при тебе, государе, да при Даниловиче: ничево я за милостию вашею не знал не только в управлении, но и в самых главных делех, везде ваша милость – своею особою да отвагою…»{147}.
Меншиков, как ближайшее доверенное лицо царя, приблизительно с 1704 года приобрел большое значение в армии; к нему обращались с просьбами и за указаниями в военных делах люди, состоявшие в самых высоких рангах, в их числе был и Борис Петрович. Тон его писем к Меншикову говорит не менее чем самое содержание: «Милости у тебя, братец, прошу, умилосердися не для меня, для лучшего управления: если не во гнев будет государю и тебе не в противность… И о том, государь, не прогневайся»{148}.
Насколько искренен был фельдмаршал, оценивая так свое положение при Петре и Меншикове? Может быть, вполне верить его искренности в данном случае нельзя. В июле 1703 года, поздравляя Петра с одержанной при его непосредственном участии победой над шведами под Петербургом, Шереметев писал: «А я особливо, хваля и благодаря Бога, радуюсь, что такое дело тобою, премилостивейшим, самим, а не чрез повеление твое совершилось»{149}. Что хотел этим сказать фельдмаршал? Что распоряжаться издали легко – совсем не то, что быть лично на месте боя? Если так, то в этом двусмысленном пассаже можно увидеть отзвук затаенного неудовольствия, которое у Бориса Петровича вызывал постоянный контроль со стороны Петра. Да и Петр как будто всегда подозревал в нем склонность сделать по-своему и, может быть, к ней столько же, сколько и к медлительности фельдмаршала нужно относить то раздражение, которое слышится в окриках царя по адресу Бориса Петровича: «Не отговаривайся, не толкуй, делай, как указано».
13 июля Нарва, «которою, – по выражению, приписываемому Петру, – четыре года нарывало, ныне прорвало», была взята штурмом. Далее в истории Северной войны начался новый период, который вместе с тем был до известной степени новым периодом и в жизни Бориса Петровича.