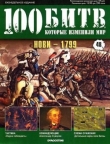Текст книги "Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев"
Автор книги: А. Заозерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
5
В процессе европеизации России было бы неправильно противопоставлять без всяких ограничений боярство (понимая этот термин в бытовом смысле как совокупность придворных чинов) Петру I как консервативную, противодействующую социальную среду. За исключением разве отдельных лиц, боярство в целом также повернулось лицом к Европе, куда смотрел и Петр. Но Европа сама как особый культурный мир – весьма сложное явление. В европейской культуре и тогда имелось большое разнообразие стилей и направлений, располагающихся в двух основных разрезах – по странам и классам, и самый выбор образцов для подражания должен был определяться в каждом отдельном случае совокупностью классовых и индивидуальных условий, воспитывавших те или иные душевные расположения и делавших неизбежными встречи и пересечения в пределах одной и той же страны, даже одной и той же социальной группы, различных культурных течений. В этом разнообразии восприятий была почва для расхождений и борьбы.
Можно принять за факт, что к концу XVII века Россия прочно вошла в систему европейских государств. Правда, на нее продолжали смотреть как на «варварскую» страну, но с нею уже не могли не считаться: одни стремились использовать ее военные силы, другие – ее экономические средства. Москва становится объектом дипломатической «обработки», и перед ней открывается широкий выбор политических друзей, одинаково среди как католических, так и протестантских стран.
Своими внутренними отношениями Немецкая слобода как бы воспроизводила в малом масштабе различия и противоречия, разделявшие тогдашнюю Европу на католическую и протестантскую. Здесь представители разных наций и государств образовали две соперничавшие между собой общины по вероисповеданию: католиков и протестантов. Эти общины боролись между собой, между прочим, и за влияние в московской правящей среде, и каждая, естественно, старалась склонить русских на сторону близкой ей политической группировки в Европе.
Община католиков количественно была слабее, но силу ее составляли иезуиты, присылавшиеся сюда чаще всего правительствами Австрии и Польши со специальными задачами, а виднейшим ее членом был генерал Гордон. Из протестантов главной фигурой был Франц Лефорт, самый близкий друг царя и ярый противник католиков. Иногда столкновения между представителями той и другой общины происходили в присутствии русских. Гордон сообщает, например, что на банкете у Лефорта он отказался пить за Вильгельма, «узурпатора Великобритании», и в противность его протестантским сторонникам провозгласил тост за католического короля Иакова II{440}.
К кому склонялись симпатии русских и прежде всего какое значение имели для них религиозные различия между католиками и протестантами?
Сами по себе ни католицизм, ни протестантизм в то время не находили в России сколько-нибудь значительного числа приверженцев. Но будучи системой вероучения, каждое из этих вероисповеданий означало вместе с тем определенную систему прикладной морали и санкционировало определенный социальный режим. Именно этими своими сторонами они оказывали воздействие на русских людей, и здесь – источник тех опасений, которые они вызывали у фанатических приверженцев православной старины. Но при этом католицизм и требуемой им моральной дисциплиной, и скрытыми в нем социально-политическими тенденциями гораздо был ближе к православию, чем протестантизм. Как в православии, так и в католицизме над человеком стоит кодекс внешних, формальных предписаний, которыми должно определяться его поведение, с тем лишь различием, что в католическом кодексе отсутствует аскетический принцип, которым проникнута мораль православия. Таким образом, в нравственном учении католицизма не было ничего, что бы могло оттолкнуть русского человека, потянувшегося к чужеземной культуре и хотевшего вместе с тем сохранить в моральном укладе своей жизни традиционность.
Не то – в протестантизме. Противопоставив в религиозной жизни внешним формам внутреннее чувство, он и в поведении человека выдвигает на первое место, в противоположность формальным требованиям других вероисповеданий, внутреннее настроение и самоопределение. Это именно положение и имел в виду русский обличитель протестантизма Посошков, восставая против установленных Лютером «слабых и развращенных законов». По его мнению, Лютер и от католической веры «отпал» потому, что она «явилась ему тяжелоносна» и потому взамен ее «устроил себе самую легкостную веру, иже без всякого труда: из роскошного жития и из блудного пространный вход в царство небесное показал». Отсюда – главная заповедь лютеранства в формулировке Посошкова: «…еже есть на свете, то все чисто и свято, и они вси святи, и греха ни в чем несть у него…» А подлинный источник, откуда все произошло – гордость: Лютер в «разуме своем вельми вознесся» и даши простор своему «умничеству» «законами» своими «древних святых отец, в посте и во всяких добродетелях просиявших, уничтожил и вся уставы церковные отринул…». Поэтому, желая предостеречь сына от гибели, автор «Завещания» дает ему последний совет: «Сыне мой, не буди ты горд, яко Лютор»{441}.
Еще важнее различие между католицизмом и протестантизмом со стороны их социальных программ. За каждым из них стоял особый социальный строй. Католицизм веками срастался с феодальной аристократией и вырабатывал свою социальную политику, сообразуясь прежде всего с ее интересами. Поэтому он был господствующим вероисповеданием в странах феодальной структуры – таких как Австрия, Италия, Испания, Франция, Польша, – сообщая своеобразный отпечаток их быту и культуре. Наоборот, протестантизм исторически тесно связан с ростом буржуазных отношений и укрепился в чистом виде там, где возобладал буржуазно-демократический порядок, например в Голландии.
6
При этих различиях тот или другой настрой, феодально-католический или буржуазно-протестантский, мог бы один целиком привлечь симпатии русской знати в том случае, если бы она была совершенно однородна. На самом деле, как мы знаем, в ее составе выделялись разные группы с неодинаковым социальным положением, тем самым заставляющие предполагать различные интересы, а следовательно, и различные оценки.
Старые титулованные удельные и нетитулованные московские фамилии – Голицыны, Куракины, Долгоруковы, Шереметевы, Трубецкие, Репнины, Салтыковы, Прозоровские, Одоевские, Волконские, Бутурлины и др. – в ряде поколений образовывали правящую среду в Московском государстве и вместе с тем в большей своей части представляли собой крупное землевладение. Местническая система, сдерживая вторжение в эту среду неродовитых элементов, долгое время охраняла ее значение наследственной аристократии при московском самодержце.
В XVII веке в связи с экономическим оскудением многих старых родов, а отчасти и по другим причинам политическое значение аристократии поколебалось, и в одном ряду с нею на политической сцене появились отдельные представители рядового московского и даже провинциального дворянства; наконец, в 1682 году и формально нанесен был ей удар упразднением местничества. Однако родословные традиции продолжали поддерживаться в кругу аристократических фамилий. Лишенные возможности отстаивать родословный принцип при служебных назначениях, бояре крепко держались его в частных отношениях. Князь Б. И. Куракин по поводу брака племянницы с А. П. Апраксиным замечал в автобиографии, что невестка его «…фамилии своей уничтожение великое сделала, что за так низкую фамилию выдала…»{442}. А ведь А. П. Апраксин был брат царицы Марфы Матвеевны! Но род Апраксиных пошел от дьяка, и в глазах Гедиминовича Куракина значения этого обстоятельства не могло ослабить и родство с царем.
Известно, какая важная роль отводилась знатнейшим фамилиям в составленном князем Д. М. Голицыным плане государственного устройства при избрании Анны Иоанновны. «Он по-аристократически ненавидел Меншикова» и с презрением смотрел на семейные отношения Петра I, называя иногда его вторую жену непечатным словом. Просвещенный по-европейски человек, князь в частном быту соблюдал старые, казалось бы, несообразные с новыми условиями жизни привычки московских бояр: «…своим младшим братьям, из которых один был фельдмаршал, а другой – сенатор, не позволял в своем присутствии садиться без специального приглашения, а всех младших родственников заставлял целовать себе руку»{443}. От таких привычек, может быть, уже освободился князь В. Л. Долгоруков, этот по отзыву голштинского посланника Бассевича «самый благовоспитанный и самый любезный из русских своего времени». Но его принципиальные воззрения также были проникнуты аристократизмом: «…политические симпатии влекли его к старой, монархически-феодальной Европе, – писал профессор Д. А. Корсаков, – и близкое знакомство с тогдашними государственными порядками Франции, Польши, Дании и Швеции оставило глубокий след в его политических воззрениях, выяснив ему значение аристократии. Честолюбивый и надменный, он считал свою фамилию самою аристократическою в России…»{444}.
Эти люди по социальной природе своей были консерваторами, и самое стремление к новому у них регулировалось мыслью о сохранении их настоящего социально-политического положения. Обратившись за образцами на Запад, признав преимущество западной культуры вообще, московский боярин отдавал предпочтение такой стране, которая представляла наиболее сходства в основах социального существования с его собственной. Ясно, что это не была буржуазно-протестантская страна, и это подтверждает Б. И. Куракин своим отзывом о Голландии. Его отталкивало скопидомство голландцев: здесь «народ не приемлив, гораздо только ласковы к деньгам…»{445}, – писал он. «Воистину, – жаловался он А. Ф. Лопухину, родственнику его жены, – такой маркации, где ни был, не мог видеть, как здесь в Амстрадаме, а иной забавы ниже что, кроме биржи и кофейного дому. И каждому кавалеру истинно больше месяца жить нельзя: ни малого плезиру нет, кроме что кому закупать». А между тем Куракину пришлось жить там годы, и вот в каком состоянии мы находим его под конец: «Ей, мой милостивой, – взывал он в том же письме, – как отцу своему объявляю сим письмом без всякой фальшивости: так мне здешняя бытность противна и скучна, что и сие письмо до вас, моего государя, пишу, ей, при своих слезах»{446}.
Надо думать, что далеко не один князь Куракин был такого мнения о Голландии. Зато, по-видимому, и тогда уже русскую знать привлекала феодально-монархическая Франция, в частности Париж. Еще в 1689 году, как мы знаем, Я. Ф. Долгоруков оставил в Париже учиться своего племянника В. Л. Долгорукова, несмотря на то что французский король оскорбительно обошелся с русским посольством. Знаем также, что и другие представители того же круга – князья: Б. И. Куракин, И. И. Троекуров, Д. М. Голицын, граф Г. И. Головкин – предпочитали французские школы и французских учителей для своих сыновей. Может быть, они понимали, что французская аристократия поддерживает свое политическое значение не такими средствами, как местничество, а просвещением и блеском культуры.
По отзыву А. А. Матвеева можем судить о том, что именно все они особенно ценили во Франции: «Город Париж, – писал Матвеев в 1705 году Ф. А. Головину, – нашел я втрое больше Амстердама и людства множество в нем неописанное, и народа убор, забавы и веселие его несказанные. И хотя обносилось, что французы утеснены от короля, однако то неправда: все в своих волях без всякой тесноты и в уравнении прямом состоят, и никто из вельмож нимало не озлобляется, и ниже узнать возможно, что они такую долговременную и тяжелую ведут войну»{447}.
Как видим – полная противоположность Голландии: там экономия и скука, здесь – роскошь и «веселие несказанные». Русские умели ценить приятные стороны французской культуры, и недаром секретарь французского посольства Либуа, сопровождавший Петра I во время его поездки во Францию в 1717 году, сообщал своему правительству об его свите: «…вельможи любят всё, что хорошо, и знают в этом толк…»{448}. Но еще важнее, что Матвеев считал нужным опровергнуть, видимо, распространившиеся в том кругу, к которому он принадлежал, слухи об «угнетениях» французов со стороны достигшей абсолютизма королевской власти и засвидетельствовать полное благополучие французских вельмож.
Ясно, что внутренние отношения тогдашней Франции живо интересовали русскую высшую знать, и, судя по тону письма, с ее стороны полное одобрение встретила жизнь «в своих волях», без всякой «тесноты» и «озлобления», какой пользовалась там феодальная верхушка. Этот факт тем красноречивее, что официальные отношения между Россией и Францией при Петре, по крайней мере до 1716 года, были очень натянуты. Остальные католические страны Европы остаются в восприятии русской знати как бы на втором плане, вероятно, потому что русского вельможу привлекала главным образом придворная культура, а французский двор и тогда своим блеском затмевал все другие европейские дворы.
Разность вероисповеданий, по-видимому, никого не смущала. Русские путешественники осматривали католические храмы, поклонялись католическим святыням. С католической стороны очень хорошо было подмечено ослабление, если не исчезновение, традиционной вражды к католицизму среди русской знати, и этим, надо думать, объясняется возобновление именно в Петровскую эпоху настойчивого стремления римского престола к соединению церквей. В Москве, впрочем, береглись церковного сближения, и, может быть, по внушению не только религиозного, а и национального чувства, поскольку вера с давних пор стала служить здесь национальным знаменем. Во всяком случае, старшее поколение знатных фамилий держалось того взгляда, что настоящее христианство – только в России.
Чужеземное влияние находило для себя предел и с другой стороны: среди знати некоторую реакцию против него вызывало появление иностранцев на русской службе. Принято считать, что Петр I, не желая создавать для иностранцев господствующего положения, обыкновенно ставил во главе учреждений русских и только уже в качестве помощников давал им иностранцев. Но такое представление правильно лишь для второй половины царствования, а в более ранние годы Петр при назначении на должности руководствовался, несомненно, исключительно соображениями пригодности людей, не придавая значения национальности. Гордон, Лефорт, де Круа, Огильви, Паткуль, Крейс, Брюс, Вейде, Остерман – эти иностранцы получали самые ответственные поручения и должности и имели в подчинении у себя представителей виднейших русских фамилий. Отсюда – у иностранцев заносчивость, а у русских – чувство обиды, которое принимало вид оскорбленного национального чувства, а в результате были взаимное недовольство и столкновения.
Раздражение, вызываемое положением иностранцев, в отдельных случаях легко превращалось во враждебное отношение к иностранной культуре. По словам испанского посла де Лириа, князь Д. М. Голицын будто бы любил говорить: «К чему нам нововведения? Разве мы не можем жить так, как живали наши отцы, без того, чтобы иностранцы являлись к нам и предписывали нам новые законы?» Однако известно, что составленный тем же Голицыным план государственного устройства не только не возвращал порядков, бывших при «отцах», но в основных своих положениях заимствован был как раз из иностранного – шведского – законодательства, причем составитель пользовался советами иностранца же Генриха фон Фика{449}. Очевидно, в подобных заявлениях сказывалось не убеждение, а протест затронутой национальной гордости.
7
Если католическая религия и государства-монархии находили себе сочувствие среди московских вельмож, то для кого в той же среде могли быть привлекательными буржуазно-протестантские настроения? На этот счет есть свидетель – царевич Алексей Петрович, и его показание – самое важное. Царевича занимал вопрос, чем объяснить исключительное расположение царя к Феофану Прокоповичу, и он высказал догадку: «…разве-де за то батюшка его любит, что он вносит в народ люторские обычаи и разрешает на вся»{450}. «Разрешение на вся» – центральный пункт протестантизма в понимании русского человека роднило Петра I с Феофаном Прокоповичем и делало его почти протестантом в глазах царевича. Но если иметь в виду «слабое и блудное житие» как признак протестантизма, то Петр будет не один: то же самое придется сказать о всей «компании» Петра.
«Компания» была постоянным и важным фактом в жизни царя, особенно первой ее половины. Она образовалась сама собою, путем естественной кристаллизации вокруг Петра разнородных социальных (но с решительным преобладанием дворянских) элементов на почве общих вкусов и наклонностей. Ее первыми участниками надо считать сверстников Петра, с которыми он начинал свои военные игры и которых он, по его собственному выражению, «с молодых лет с собою розстил»{451}, а по мере того как ширилась его государственная деятельность, в «компанию» входили все новые и новые лица разного звания и положения, русские и иностранцы. Никто не составлял их общего списка, но некоторые имена мы знаем по подписям под шуточными письмами. С уверенностью можно назвать А. Д. Меншикова, Ф. А. Головина, Ф. М. Апраксина, Б. А. Голицына, Ф. Ю. Ромодановского, Т. Н. Стрешнева, И. А. Мусина-Пушкина, Г. И. Головкина, А. М. Головина, М. П. Гагарина, Ф. И. Троекурова, М. Г. Ромодановского, И. И. Бутурлина, Ю. Ф. Шаховского, Г. А. Меншикова, Ф. Ф. Плещеева, А. В. Макарова, А. И. Петелина, Н. М. Зотова, А. В. Кикина, Ф. М. Скляева, А. И. Дубасова, И. Кочета, О. Ная, П. Зверева, Ф. Я. Лефорта, П. Гутмана, Я. В. Брюса, А. А. Вейде, А. А. Виниуса, И. Любса. Сомнительно, чтобы существовал какой-нибудь формальный акт их кооптации: вероятно, друг друга узнавали и сближались «за делом и на потехе».
В 1697 году к «компании» принадлежало уже свыше ста человек: в этом году, в именины Петра, хотя и в его отсутствие, князь Ф. Ю. Ромодановский, как писал царю за границу А. А. Виниус, «великую нам трапезу и богатую даровал: в столовой генеральской в Преобр[аженском] сидело за розными столы больши 100 человек»{452}.
Самый термин «компания» или «наша компания» часто встречается в переписке Петра начиная с 1694 года. Иногда этот термин заменяется другим, соответствующим по смыслу: «наши товарищи» или «наши приятели и знакомые», наконец, просто – «все наши». Таким путем «компания» явно выделялась из окружающей среды, как бы противопоставлялась ей.
Петр был живым центром «компании», связывал всех в одно целое, частью – чувством преданности к себе; частью – политическим значением, которое получала связь с ним. Несмотря на тяжелые приемы его обращения с людьми, его присутствие, как выходит по письмам, несло с собой бодрость и веселье. «…Ей-ей, зело скучно жить без милости вашей»{453}, – жаловался один из довереннейших сотрудников Петра, потом ему изменивший А. В. Кикин. Еще убедительней звучало такое же признание со стороны Ф. М. Апраксина: «Зело, государь, вскучно на Воронеже; естли тебе, государю, не в гнев, повели мне быть к себе, государю, видеть твои государевы очи, или, пожалуй, ко мне милостиво изволь отписать, как нам тебя, государя, ожидать; не дай нам в продолжительной печали быть»{454}.
Переписка Петра, охватывающая огромное число корреспондентов, – памятник таких отношений. Для членов «компании» письма Петра были прежде всего знаком его расположения. Нередко они и писались им с единственной целью сообщить о каком-нибудь радостном событии, вроде удачного сражения со шведами, обыкновенно сразу нескольким членам «компании» и только по каким-то причинам – кому-нибудь одному, но всегда с извинением и с просьбой передать другим: «…а особых писем, всякому особ, за скоростию и недосужеством путным, написать не мог»{455}.
Петра прельщала простота отношений, которую он наблюдал в Немецкой слободе, и он стремился привить и своей «компании» такие формы общения. «Порода» и чины не должны были играть в ней никакой роли. Когда Ф. М. Апраксин написал однажды в письме к Петру царский титул, то получил следующий ответ: «За письмо твое благодарствую, однако ж, зело сумнимся ради двух вещей: 1) что не ко мне писал, 2) что с зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать (для того, что ты нашей компании), как писать»{456}. А писать надо было, как разъяснялось в другом письме, «без великого»{457}, то есть без пышного царского титула.
Чинопочитание требовалось только шуточное и по отношению к шуточным фигурам, например, к князю-кесарю Ф. Ю. Ромодановскому и «всешутейшему патриарху» Н. М. Зотову. Вероятно, это различие главным образом и имел в виду Петр, когда писал Меншикову: «Пожалуй, поклонись всем, кому как надлежит»{458}. Раз было так, что Петр, посылая поклоны, рядом с именами двух потешных «генералиссимусов» Ромодановского и его «брата» И. И. Бутурлина назвал в своем письме несколько человек «ниских самых чинов», за что князь-кесарь сделал ему выговор: «…непристойно с нашими лицы вобще (вместе. – А. З.) писать…», и Петр, прося прощения, оправдывался тем, что «карабелщики, наша братья, в чинах не искусны»{459}.
В письмах «из компании» был товарищеский, даже дружеский тон. Во время заграничного путешествия царя в 1697–1698 годах ему давались поручения. А. М. Головин писал: «Да у тебя ж прошу: пожалуй, промысли мне табаку, а у нас здесь хорошова нет…»{460}. Г. И. Головкин хотел бы получить от Петра «лондонской работы зепныя часики»: «…на знак милости твоей и бытности во Британии»{461}, – объяснял он свою просьбу. Иногда писали с подчеркнутой фамильярностью. Автоном Головин выговаривал царю в письме за границу: «Да я ж на тебя досадую в том, что не подписываешь имяни своего (под письмом. – А. З.). Откуды такую спесь взял? Хотя и науку принял высокую, а нас бы, старых друзей, не забывал»{462}. Б. А. Голицыну Петр жаловался на дурной почерк его писем, но сам писал еще хуже, и получил ответ: «У меня не можешь прочесть, а я от твоих и писать не хочю пи[сь]мах: всё из головы разумей (то есть догадывайся. – А. З.)»{463}.
При таких отношениях звучало естественно звание «товарищ», которое часто встречаем в письмах членов «компании». Самого Петра называли по большей части служебным чином, и по мере того как он двигался по службе, менялось и обращение к нему: шипор или шипгер, бомбардир, капитан, командир, шаутбейнахт с присоединением обычного: «господина». Конечно, все помнили, что эти звания носит самодержец и, желая подчеркнуть исключительность его положения, часто присоединяли к служебному чину эпитет «большой»: «большой бомбардир», «большой капитан», даже «большой товарищ». Вообще непосредственность обращения имела в «компании» свои границы, и сам Петр считал их обязательными для себя, хотя и грешил против них в состоянии опьянения и раздражения. «Я, как поехал от вас, – писал, например, он Ф. М. Апраксину, – не знаю, понеже был зело удоволен Бахусовым даром. Того для всех прошу, есть ли какую кому нанес досаду, прощения, а паче от тех, которые при прощании были, и да не памятует всяк сей случай»{464}.
В повседневной жизни «компания» представляла собой деловой кружок, руководимый царем. В расплывчатой социальной обстановке, где все смотрели в разные стороны и никто не хотел, по выражению царя, «прямо трудитца»{465}, сплоченный кружок служил для него своего рода политическим рычагом в самых различных областях жизни. Здесь каждый выполнял доставшееся ему назначение с чувством ответственности лично перед царем, и воля Петра была законом. «Воистино имею печаль немалую, чтобы спроста не погрешить против воли вашей»{466}, – писал ему генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, которого царь сам называл своим другом. Действительное значение каждого определялось в первую очередь степенью доверия «самого», как часто называли Петра I в переписке между собой его сотрудники.
Быть участником этого кружка – значило порвать с вековыми привычками праздного существования, сложившимися в боярском быту. Сам Петр в работе видел смысл жизни и требовал такого ее понимания от других. Его письма к сотрудникам насыщены категорическими требованиями: «тотчас», «без замотчанья», «без всякого мотчания», «немедленно». Иногда человек еще старой задачи, по выражению Ф. М. Апраксина «не осилил», а ему уже давалась новая{467}. Не одного Б. П. Шереметева постоянные понукания приводили в отчаяние. Более близкий к Петру человек, И. И. Бутурлин, тоже устал от них: «Только бы с чистым покаянием, а не худа и смерть», – признавался он в письме к дочери Анне{468}.
Но «компания», помимо делового, имела еще и другое лицо – праздничное, или «гулящее», по тогдашней терминологии, и современникам оно, может быть, бросалось в глаза сильнее, чем первое. Из ее членов составлялась шуточная иерархия, получившая название «всепьянейшего и всешутейшего собора». Можно сказать даже, что «собор» был одной из ее функций. На первом месте стояло служение Бахусу, но не оставлялись в забвении и другие боги, прежде всего Венера.
Служение Бахусу и Венере пришлось по вкусу многим: переписка царя полна отзвуками происходивших на этом поле событий. Было бы ошибочно, однако, относить все излишества к инициативе и темпераменту Петра: его самого иногда смущало чрезмерное усердие по этой части его сотрудников. Однажды он, например, писал А. В. Кикину о генерал-адмирале Ф. М. Апраксине: «…прошу и от меня партикулярно донеси, чтобы мернее постился, понеже зело нам и жаль и стыдно, что и так двое сею болезнью адмиралов (имеется в виду смерть, как считалось от пьянства, Лефорта и Ф. А. Головина. – А. З.) скончалось. Сохрани, Боже, третьего»{469}. Получил от царя предупреждение и другой видный член «компании» канцлер Г. И. Головкин, как видно из его ответного письма: «В письме, государь, ваша милость напомянул о болезни моей подагры, бутто начало свое оная восприяла от излишества Венусовой утехи, о чем я подлинно доношу, что та болезнь случилась мне от многопьянства: у меня – в ногах, у господина Мусина – на лице…»{470}.
Исторически важны, однако, не столько размеры, сколько характер этого явления: люди допетровской Руси в своей повседневной жизни были далеки от святости, но они прятали свои грехи в четырех стенах, а теперь сцены пьяного веселья были вынесены на улицу, ему придавались публичные затейливые формы («всепьянейший собор», маскарады, шутовские свадьбы); оно как будто перешло в демонстрацию. Несомненно, перед нами – реакция против того церковно-аскетического режима, который воспринят был на Руси из Византии и который разрешал принимать радости жизни не иначе, как со вздохом об их греховности, являясь чрез то неиссякающим источником лицемерия и ханжества. Теперь благодаря общению с Немецкой слободой, а затем и Европой русский человек мог наблюдать иной стиль жизни, строившийся, как всюду в протестантских общинах, на чувстве внутренней свободы. Фальшь церковно-аскетической морали должна была выступить перед ним с особенной ясностью. И никто, кажется, не чувствовал ее так остро, как Петр, ненавидевший ханжей и лицемеров.
Происходило окончательное и открытое крушение аскетического принципа, уже давно подготовлявшееся логикой жизни. Русская мысль принципиально узаконила «светское житие», а вместе с тем начинало формироваться в сознании и в языке людей и соответствующее мировоззрение. Религии и ее заповедям стало отводиться свое место, природе и ее законным требованиям – свое. Отсюда становились возможными в письмах того времени сочетания совершенно немыслимые под пером древнерусского человека: без всякого чувства неловкости Петр, например, мог написать такую фразу: «…принося жертву Бахусу довольную вином, а душою Бога славя»{471}, или А. В. Кикин: «…воздав благодарение Богу, торжествую з Бахусом»{472}. Бахус, как символ чувственности, стал рядом с христианским богом: князь-папа И. И. Бутурлин даже водрузил статую Бахуса на крыше своего дома, как бы символизируя тем возвращение к принципам язычества, то есть природы.
Какая же из европейских стран была ближе по своему быту и культуре этой группе, и в частности Петру? По сообщению цесарского посла Игнатия Гвариента, в компании царя потешались над строгими и чинными церемониями австрийского двора, которые наблюдались «Великим посольством» в 1698 году. «Несмотря на то, – доносил Гвариент в Вену, – что его царскому величеству и его бывшим в Вене министрам были оказаны великая честь и… во всяком случае необыкновенные учтивости, тем не менее у вернувшихся московитов нельзя заметить ни малейшей благодарности, но, наоборот, с неудовольствием можно было узнать о всякого рода колкостях и насмешливых подражаниях относительно императорских министров и двора. От самого царского величества ни о чем таком невыгодном не слышно; тем не менее ни Лефорт, ни другой (имеется в виду Ф. А. Головин. – А. З.) не могут удержаться, чтобы не прокатывать (durchzulassen) презрительнейшим образом императорский двор в присутствии его царского величества… Ставят они себе в большое удовольствие честить наш императорский двор, который они считают слишком по-испански натянутым»{473}.
Сложнее было отношение Петра I и «компании» к Франции. Вместе со всей знатью они не могли не ценить французской культуры. В то же время быт и нравы придворного французского общества претили Петру. «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел видеть это у себя, – говорил он, – а в прочем Париж воняет»{474}. Несомненно, буржуазная Голландия более отвечала его деятельной натуре, и симпатии царя разделяли в той или иной степени и другие. Продолжительное пребывание в Голландии во время первого заграничного путешествия сопровождалось для Петра всесторонним ознакомлением с ее бытом. По ряду последующих фактов мы можем заключить, что его впечатления были вполне благоприятны: во-первых, в продолжение всего царствования Петр всего охотнее и чаще посылал русскую молодежь учиться в Голландию; во-вторых, для своего любимого Петербурга он принял за образец голландский город Амстердам, и на первых порах Петербург действительно имел голландский вид. В противоположность князю Б. И. Куракину, находившему скучной голландскую жизнь, Петр с удовольствием бывал в Голландии. Во время своего путешествия в Европу в 1716–1717 годах, имевшего главной целью Париж, царь по пути надолго, однако, останавливался в Амстердаме. От Петра не укрылось скопидомство голландцев, столь неприятно действовавшее на русских вельмож: «…не чаю, чтоб галанцы переменились так скоро и денег не любили…»{475}, – писал он в 1719 году князю Б. И. Куракину. Но для бережливого царя буржуазные свойства вообще не были недостатком.