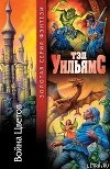Текст книги "Столь долгое возвращение… (Воспоминания)"
Автор книги: Эстер Маркиш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Эстер Маркиш
Столь долгое возвращение…
Воспоминания
Памяти расстрелянных 12-го августа 1952 года
Выражаю дружескую благодарность Эте и Мите Мейлехзон, без помощи которых эта книга не увидела бы света.
Автор
Предисловие к русскому изданию
С того времени, как эта книжка вышла впервые – по-французски – прошло пятнадцать лет. Немало воды утекло с тех пор – мутной и кровавой, соленой и пресной, – но никак не прозрачной и не сладкой. Многое изменилось в мире – и в Советском Союзе, откуда я уехала, и в Израиле, куда я вернулась. Но вряд ли человек, или, если угодно, Человек, стал за эти годы лучше, совестливей и добрей. Поэтому те страшные времена, которые я описала в этой книге, хоть и ушли в историю, но не окаменели, не омертвели. Они не только напоминают о вчерашнем – они говорят о завтрашнем, потому что сегодня решается судьба одной шестой части мира, на которой расположен Советский Союз. И от этого решения отчасти зависит и судьба остальных пяти шестых.
Возврата к прошлому нет – в этом сходятся мнения советологов и экономистов, футурологов и гадателей по кофейной гуще. Но кто возьмет на себя ответственность сказать, что будущее не может стать еще более страшным, чем прошлое? У властолюбия нет границ, у порока нет дна, и эти две столь человеческие черты, слитые воедино, способны породить новое чудовище, с новыми отменными зубами и стальными когтями. Дай Бог, чтобы этого не произошло!
Сегодня, спустя пятнадцать лет, я ничего не меняю в моей книге, ничего не добавляю и ничего не убавляю. Пусть читатель воспримет ее такой, какою она была написана – и, все же, сделает в своей душе поправку на время.
АвторМай 1989Тель-Авив
Предисловие
Мои воспоминания и моя жизнь – лишь производные от жизни Переца Маркиша, от его оставшихся ненаписанными воспоминаний. Вся моя жизнь, – до того, как его увели в ночь на 27 января 1949 года, и после того. Вплоть до нынешней минуты, когда я пишу эти строки в своем новом доме, на своей древней родине, вплоть до того мига, который станет моим последним.
Дело не в том, что Маркиш «создал» меня, сформировал мои взгляды и убеждения, приобщил к еврейской культуре и еврейскому миру. Это само собой разумеется и не требует объяснений. Но есть, по крайней мере, три обстоятельства, которые надо объяснить с полной ясностью.
Маркиш любил свой народ. В этой любви не было ничего показного, ничего истеричного или аффектированного, как у многих великих и искренних народолюбцев минувших и настоящих времен. Не было в нем и ни крошки пренебрежения к другим народам. (Вспомним, для примера, хоть Достоевского, особенно в «Дневнике писателя» – с его почти шаманскими вещаниями о «новом слове», которое русский народ изречет прогнившей Европе, с неистощимой бранью по адресу «жидов» и «полячишек»).
Маркиш любил свой народ, как любят большую и разномастную родню, радуясь доброму в ней, не прощая худого, но нуждаясь в ней повседневно и повсечасно, потому что она дала ему все – ум, чувства, юмор, честь, сознание собственного достоинства, самое умение отличать добро от зла, наконец. И как невозможно себе представить, чтобы можно было простить убийцу, решившего извести всю твою семью, как не мог забыть Маркиш шести миллионов евреев, убитых германским фашизмом, так никогда не мог бы он простить преемников своих убийц. Пуля, пущенная ему в затылок, отняла жизнь не только у него, но и у той культуры, которая была смыслом всей его жизни. Если бы Маркиш мог подняться из пепла, развеянного палачами по ветру почти четверть века назад, он расстался бы с Россией навсегда, как бы тяжело и горько ни было это расставание. Вот почему я в Израиле – не вместо него, но вместе с ним.
Я сказала, что расставание было бы и горьким и тягостным. Всеми силами, всей нежностью души Маркиш был привязан к еврейской культуре диаспоры, верил в ее жизнеспособность и большое, долгое будущее российского еврейства. Он воспевал советскую власть не из личной выгоды и не из соображений текущей минуты, но по непоколебимому убеждению, что эта власть раскрепостила его народ, разрушила стены гетто ради нового, вольного цветения и вольного полета. (Отсюда, в первую очередь, революционное бунтарство Маркиша и его пафос). Маркиш заблуждался. Он заплатил за свое заблуждение кровью и мозгом, разбрызгавшимся по стенам подвала, где его застрелили. Но и это не искупает заблуждения. Если бы пепел мог ожить, Маркиш был бы сегодня там, где зеленеет и крепчает молодой побег от древнего ствола еврейства, – в Израиле. Вот почему я в Израиле, и я уверена, что он одобряет мое решение: «Правильно, Фирка, молодец!»
И третье. В повести Кацетника «Часы над головой» есть такой эпизод: в гитлеровском лагере смерти, на пороге газовой камеры хасидский цадик говорит своему ученику, что и в их мученичестве есть Божий промысл: из их праха родится новый Израиль. Так и смерть Маркиша и его товарищей: убийцы рассчитывали, что это будет началом физического и духовного истребления российского еврейства, но погром 49–52 годов стал в конце 60-х одним из самых мощных источников нашей решимости (горькой решимости, позволю я себе повторить!) расстаться с прошлым бесповоротно.
Маркиш – его имя, память о нем – самый деятельный и влиятельный участник движения, охватившего российское еврейство, российской «алии», как говорят в Израиле. Вот почему я в Израиле – вместе с Маркишем.
Я в Израиле, и я счастлива не только ощущением свободы, но и сознанием исполненного долга. Тех, кто помог мне исполнить мой долг и без чьей помощи наша мечта о свободе не сбылась бы никогда, я благодарю, жалея лишь о том, что не могу увидеть и обнять каждого из них. Их очень много, они принадлежат ко всем расам и национальностям, это поистине «интернационал добрых людей», о котором мечтал герой рассказа Исаака Бабеля местечковый мудрец Гедалье, размышляя о жестокости революции.
Пятеро из них встретили нас в Вене – Барбара Оберман из Англии, Джоел Спрайрегн с женой из США, Алекс Бюшенжер из Франции, Ицхак Кац из Западной Германии.
Я благодарю умного и обаятельного отца Мишеля Рике – французского католического священника, навестившего нас в Москве. Он пришел к нам в трудные для нас дни, и его мудрые слова и действенная помощь вернули нам почти утраченную было надежду. Я хочу помянуть добрым словом покойного Андре Блюмеля – мужественного человека с добрым сердцем, проявлявшего искреннее сочувствие к «московским израильтянам» и помогавшего им. Я выражаю благодарность госпоже Ванклер, которая, встретившись со мной в Израиле в первые дни моего приезда, предложила мне написать эту книгу и помогла ее опубликовать по-французски. С благодарностью буду я всегда вспоминать Грейвеля Джанера – члена палаты депутатов Великобритании, чьи телефонные звонки из Лондона каждую пятницу раздавались в нашей московской квартире, вселяя в нас бодрость и веру.
Я хочу вспомнить особо удивительную встречу в Бостоне, которая потрясла меня до глубины души в самом прямом смысле этого слова. Перед одним из выступлений, в фойе театра, ко мне вдруг бросился юноша со словами: «О, госпожа Маркиш, неужели это, в самом деле вы? Неужели мы дождались?» И он обнимал меня и плакал навзрыд, и я тоже плакала, конечно. Я так и не узнала его имени, и перед этой безымянной и бескорыстной любовью, воплощением которой он был в ту минуту, я склоняюсь в благоговении до земли.
Да, мы дождались, а Маркиш не дождался. И памяти всех недождавшихся я посвящаю свою книгу.
Автор1974Тель-Авив
Часть первая
1. Погром в Екатеринославе
И по сей день Баку разделен на две части: Черный город и просто Город. Нынче нет границы между двумя этими частями, и Черный город так же зелен, как и «Белый». В начале века Черный город был средоточием зарождающейся нефтяной промышленности. Буровые вышки и нефтекачалки торчали там из земли, подобно голым железным кустам и деревьям.
Там, в Черном городе, стоял дом моего отца Ефима Лазебникова – нефтепромышленника, владельца нефтяной земли. Там бы и появилась я на свет, если бы моя мать, Вера Марковна, не решила за несколько месяцев до родов отправиться к своим родителям, в Екатеринослав.
Вера Марковна не случайно отправилась к родителям – Марко и Ольге Кричевским. Родственные связи в семье Кричевских были на редкость крепки и сердечны. Мудрая и деятельная Ольга Львовна Кричевская до конца своих дней оставалась незыблемым авторитетом для детей – пятерых сыновей и дочери Веры, моей матери. К бабушке Оле обращались за советом, приходили в беде и в радости. Такие же отношения сложились впоследствии между мной и моей матерью, между моими детьми и мною. Наши мужчины умирали рано, и женщины занимали места мужчин.
Бабушка Оля работала вместе с дедом Марко – управляющим домами и складами екатеринославского богача банкира Кофмана. В квартире одного из его домов они и жили.
Там я родилась 6 февраля 1912 года.
Через несколько месяцев моя мать вместе со мной вернулась в Баку.
Мы жили богато – нефть приносила отцу большие доходы. Отец любил широкую жизнь, красивые вещи. Получив техническое образование во Франции, он хорошо разбирался в нефтяном деле. Во Франции он и познакомился с моей матерью, изучавшей там медицину. За год до знакомства с моим отцом мама приехала на Юг Франции вместе со своей семьей, спасаясь от российских погромов 1905 года. Родители мои поженились в 1907 году, и мама так и не закончив курс учения, уехала с отцом в Баку. Спустя год родился мой брат Александр.
Многие бакинские евреи относились неодобрительно к образу жизни нашей семьи: мы жили слишком роскошно. В 1914 году мой отец одним из первых в Баку приобрел автомобиль. Толпа зевак глазела на это детище технической революции – особенно, когда лошади вытаскивали из жирной нефтяной грязи вдруг застрявшую нашу машину.
Напрасно Ефим Лазебников купил эту машину, – говорили бакинские евреи. – Напрасно Лазебников так балует жену и во всем ей потакает – ее бриллианты еще больше привлекают внимание к ее красоте. На нее заглядываются и христиане и мусульмане…
Моя мать, действительно, была очень хороша, и когда кто-нибудь называл фамилию моего отца, то немедленно следовал вопрос: Какой это Лазебников? Тот, у которого красавица-жена?
Но отец мой не обращал внимания на эти разговоры и жил по своему собственному усмотрению. Наш дом в Черном городе, а потом квартира на Биржевой всегда были полны гостей, наша кухарка Кондратьевна славилась на весь Баку своим кулинарным мастерством.
Родители мои не отличались религиозностью – хотя отец, естественно, имел постоянное место в синагоге и давал немалые деньги на ее содержание. Единственным праздником, отмечавшимся в доме торжественно и с соблюдением традиции, была Пасха. Отец читал Агаду, я искала спрятанную мацу. Рассказы об исходе из египетского рабства еще много дней после Пасхи занимали детское воображение моего брата и мое…
Брат мой Александр или Шура, как звали его в семье, к удивлению родителей, стал крайне религиозным. В доме восстановили нарушенную было кашерную кухню – к большому одобрению наезжавшего в гости моего деда по отцу, синагогального кантора Мойше. Кухарке Кондратьевне растолковали законы кашрута, и она, поворчав, смирилась. Не вникнув в суть дела, она считала разделение пищи на мясную и молочную барским самодурством.
Русская революция опрокинула наш уклад, вывернула жизнь как перчатку – наизнанку. Отец воспринял революцию как свершившийся факт, к которому следовало приспособиться ради дальнейшей жизни. А приспособиться было сложно: нефтяной промысел отобрали.
Отец шутил горько:
– Я все-таки был прав, а не те евреи, что меня осуждали. У них все отобрали точно так же, как и у нас. Но мы хотя бы успели пожить по-человечески.
В 1918 году, захватив меня и брата, мама отправилась в Екатеринослав навестить своих родителей, от которых давно уже не было вестей. Отец остался в Баку.
Великие события в России – обе революции и последовавшая вслед за ними гражданская война – прибавили хлопот и забот евреям приднепровского города Екатеринослава. Евреи не строили радужных планов по поводу происшедших изменений: многовековая история их существования неопровержимо доказывала, что любые изменения в окружающем обществе приводят к травле евреев, к грабежам, погромам и убийствам. Поэтому, когда на екатеринославские улицы высыпали разгоряченные водкой, потрясенные безнаказанным попранием вчерашних запретов люди, – наученные опытом поколений евреи стали полегоньку готовиться к погрому. Начали с малого: разобрали и растаскали деревянные заборы, отделявшие дом от дома. Это незначительное на первый взгляд действие продиктовано опытом прошлого и имеет немалое практическое значение: бежать и спасаться от погромщиков куда легче по открытой, очищенной от заборов местности. Перелезать с малыми детьми через деревянные частоколы – дело трудное, почти невозможное.
Наша семья – моя мать, мой девятилетний брат и я, младшая – отсиживались в дворницкой дома банкира Кофмана на Широкой улице. То была улица, населенная преимущественно евреями – и толпа погромщиков направилась именно сюда. Зазвенели выбиваемые стекла окон, пух вспарываемых перин поплыл в воздухе. Потянуло запахом гари – где-то что-то подожгли…
Дворник Гаврила, служивший верой и правдой моему дедушке, проявлял нервозность. С тревогой вслушивался он в пронзительный, приближавшийся с каждой минутой крик толпы людей: «Караул!»
– Шибко нынче бьют… – сказал, наконец, Гаврила. – Пойду гляну, – и вышел.
А крик «караул» все приближался, бился где-то за соседними домами.
– Гаврила нас не выдаст, – сказала мама. – Но если они ворвутся сюда… – она надеялась, что бандиты пройдут мимо – ведь не в каждый дом они заглядывали.
Вернулся Гаврила – озабоченный, мрачный.
– Бегите, – сказал Гаврила, – спасайтесь… Рабиновичей уже поубивали.
Рабиновичи были наши соседи, жили в нескольких домах от нас.
Мама поднялась, крепко взяла нас за руки:
– Идемте, дети!
Мы вышли из жарко натопленной дворницкой – в черную сырость ночи. Грязь осени хлюпала под ногами, и мне казалось, что эта грязь замешана на крови старого Рабиновича, бородатого, с большим добрым животом… А может, это мне сейчас кажется так. Может, в ту осеннюю ночь я только дрожала от страха.
…Много лет прошло с тех пор – больше полувека. События давнего времени окаменели в моей душе, приобрели резкие очертания постоянства. Дворник Гаврила кажется мне сейчас порядочным человеком – может, так оно и было…
Мы бежали по чужим дворам, подгоняемые этим жутким, извивающимся как бич стоном: «Караул!» Один из домов был, как будто, покинут хозяевами. Мама втащила меня и брата в распахнутую дверь первого этажа и вбежала в комнату.
В углу комнаты, наполовину закутанный, как в саван, в сорванную гардину, лежал человеческий труп. Погромщик стоял над ним на коленях – обшаривал карманы. Обернувшись на шум наших шагов, он заметил бриллиант, сверкнувший в кольце на маминой руке. Поднявшись с пола, он схватил маму за руку, за палец – стаскивал кольцо.
– Убери руку, – спокойно сказала мама. – Сама отдам.
Тут кто-то окликнул погромщика из другой комнаты:
– Эй, Пашка!
Пашка пьяно повернулся, побежал, топая сапогами, на зов.
А мы выпрыгнули в окно и побежали дальше – в поисках угла, норы, где можно было бы укрыться хотя бы до утра.
Воспоминания об екатеринославском погроме – это, пожалуй, первое, что я запомнила в своей жизни достаточно стойко. Мой отсчет времени начинается с той осенней, хлюпающей грязью и кровью ночи. Первая память – как первый оттиск гравюры: самая отчетливая, самая резкая. Светом памяти озаряются почти все сколько-нибудь значительные события в жизни. И это озарение – не солнечное, не лунное. Это озарение пожара, зажженного руками убийц еврейских стариков.
Кто убивал? Белые? Зеленые? Красные? Петлюровцы? Бандиты всех мастей и цветов?
Люди убивали людей.
Нелюди убивали евреев.
Тогда каждый день менялись власти в Екатеринославе. А бывало и так: в одном квартале монархисты, а в другом – анархисты. Нынче иным молодым людям это кажется даже несколько забавным. Но выстрелы, стучавшие всю ночь то здесь, то там – они были направлены не в небо, а в людей.
Уходили анархисты – приходили красные. Потом красных выбивали белые, а к городу уже подтягивались с подводами банды крестьян, соблазненных перспективой грабежа.
Все передвижения, все перемещения происходили по ночам. Две группы мужчин схватывались, переплетались в яростном передвижении смерти – и одна отходила, оставляя убитых и раненных. Шла гражданская война.
Погромы тоже происходили ночью, И молчаливая, сосредоточенная беготня из дома в дом, по ничейной, не исковерканной более символом собственности – заборами – земле, тоже ночью. Днем отсыпались и победители, и побежденные, и мы, евреи, спасшиеся от радости победителя и ярости побежденных.
В один из таких дней за нами приехал из Баку мой отец. Он намеревался всеми правдами и неправдами втолкнуть нас в поезд, вывезти из обезумевшего Екатеринослава и вернуть домой.
Сделать это, однако было не просто. Целыми днями отец ходил по городу, добывая всевозможные «охранные грамоты». Однажды ранняя осенняя ночь застала отца за этим его занятием.
Ночь была черна – как будто тушь разлили. Выбитые окна зияли чернотой на фоне далекого пожара. На одной из близких улиц слышался цокот конских подков и топот ног. Где-то стреляли. Никто толком не знал, в чьих руках находится город – даже те, кто наступали, и те, кто оборонялись.
Прижимаясь к стенам зданий, отец пробирался домой. До дома оставалось не больше квартала, когда топот копыт за спиной заставил отца врасти в землю и застыть. И в следующий миг удар нагайки упал на его спину, и наехавший конь упруго и сильно толкнул его, чуть не сбив с ног.
Всадник, наклонившись с седла, заглянул в лицо отца. Пахнуло запахом лука и водочного перегара.
– Жид… – словно подтверждая свою догадку, сказал всадник. – Ну, пойдем, жид.
И еще раз несильно ударив нагайкой, он погнал отца перед собой.
Бежать было некуда, и спастись было невозможно. Скользя по глинистой грязи и оступаясь, отец бежал перед конем. В конце улицы завернули влево, в подворотню. За ней открылся проходной двор, и дальше – тупиковый.
В тупиковом дворе горел высокий, яркий костер. Десяток солдат в разномастной одежде – красных галифе, зеленых и синих френчах, тулупах и дорогих дамских манто, смушковых шапках с красными лентами и без лент – сгрудился у костра. Здесь же стоял пулемет на станине. Чуть поодаль кружком сидели на грязном снегу около двадцати евреев. Некоторых из них отец знал: то были уважаемые в городе люди, состоятельные и знатные. Отец кивнул старому бородатому еврею – директору еврейской гимназии. Второй, владелец краскотерной фабрики не ответил на поклон: глаза его были закрыты, лицо залито одним сплошным синяком.
Около пленных топтался, куря папиросу, часовой,
– Кончаем, что ли? – окликнул приятелей всадник, пригнавший моего отца. – Скоро светает… А ну, вставай! – гаркнул он, наезжая на сидящих в грязи евреев.
Те медленно поднялись, гуртясь.
– Одежу-то сымите! – лениво, без нажима приказал часовой, сбивая пленных поплотнее стволом винтовки с примкнутым штыком. – И обувку тоже. И к стеночке становитесь рядком… Ну, ты, Абрашка! – грозно крикнул он на средних лет еврея, замешкавшегося с раздеваньем.
Пригнавший отца всадник, все так же не слезая с седла, содрал с него пальто. Отец скинул туфли с галошами и, увязая по щиколотку в жидкой грязи, пропитанной конской мочой, подошел к стене.
– За что? – еле шевеля губами, сказал отец. А потом крикнул: – За что?
Один из солдат уже ложился, подстелив кожух, за пулемет.
Повернувшись лицом к кирпичной стене забора, несколько евреев молились, раскачиваясь. Один сполз в грязь, и его не подымали.
И вдруг во двор въехал, влетел на коне коренастый всадник с длинными темными волосами. По быстроте и угодливости, с какой солдаты оборотились к нему, можно было заключить, что приехавший – их начальник.
Отец мой отпрыгнул от стены, подбежал к всаднику.
– За что, господин начальник? – спросил отец, вцепившись в конский повод. – За что они нас хотят расстрелять?
– Действительно, за что? А? – шутя, подыгрывая голосом, спросил всадник у солдат.
– Так они ведь жиды, батько! – объяснил тот, что лежал за пулеметом. – Кончаем мы их!
– Отпустите нас, господин… батько, – сказал отец, не отпуская повода. – В чем мы виноваты? Только в том, что мы – евреи?
– Отпустить их, что ли? – словно бы за советом обратился батько к своим людям. Те молчали, не смея говорить.
– Идите, пожалуй, по домам! – сказал батько, заворачивая коня. – Ну, быстро! Побежали!
Отлепившись от стены, евреи побежали прочь. Одежда их черным комом громоздилась посреди двора.
Побежал и отец, отпустив, наконец, повод.
– Эй, еврей! – закричал вслед ему батько. – Стой!
Отец остановился, оледенев. Что мог означать этот окрик?!
– Галоши надень, еврей, а то простудишься! – довольный, засмеялся батько.
Отец добежал до подворотни и исчез в темноте улицы.
Человек, спасший его от казни и смерти, был, Нестор Махно.
Отцовское спасение от смерти было, несомненно, случайностью и фактором временным. Бессмысленная, дурацкая гибель висела над нами, как камень. И отец ломал голову, выискивая щелку спасения.
– Нам бы добраться до Кисловодска, – говорил папа мечтательно. – Оттуда до Баку рукой подать.
– Нас всех убьют в дороге, – говорила мама. – Придумай что-нибудь!
И папа придумал.
– Мы найдем русского генерала, – сказал папа. – Или, на худой конец, полковника…
Генерала не нашли – пришлось удовлетвориться полковником. Поскольку путь на Кисловодск пролетал по областям, контролируемым белыми войсками, то и полковник, естественно, был белым полковником. Папа разъяснил ему его задачу: он, полковник, будет выдавать себя за нашего дедушку или папу – как ему больше нравится – и стоять в дверях купе в полковничьем мундире, когда погромщики появятся в вагоне. Полковник согласился, и папа вручил ему денежный аванс за предстоящий труд.
Через несколько дней мы пустились в дорогу. Полковник приехал за нами в экипаже. Грудь полковничьего мундира украшали многочисленные ордена, усы его с подусниками были приведены в идеальный порядок. То был интеллигентный человек, с чувством собственного достоинства. Ему, видно, было несколько неловко, что он – в его годы и в его положении – зарабатывает деньги столь необычным образом. Поэтому он предпочел – быть может, скрывая смущение – смотреть на нас как на багаж. Когда в вагон, гремя сапогами, ввалились очередные «проверщики», полковник приоткрывал дверь купе, становился на пороге и, покуривая, пускал колечки дыма.
– Я еду с семьей, – безразличным голосом сообщал полковник, когда погромщики подходили к нашему купе. Никому и в голову не могло прийти, что полковник белой русской армии везет в своем купе евреев.
На Кисловодском вокзале полковник получил от отца вторую половину своего гонорара, и мы распрощались с ним.
– Мы поедем в самую лучшую гостиницу! – решил отец. – Так безопаснее.
Войдя в роскошный гостиничный номер в сопровождении администратора и коридорных служащих, отец оглядел стены номера, а потом, переведя негодующий взгляд на прислугу, грозно стукнул тростью об пол.
– Негодяи! – взревел отец. – Русскому человеку жизни нет!.. Иконы где?!
Распорядитель лепетал извинения, коридорные побежали за иконами. По гостинице пополз слух, что в двенадцатом номере поселился «сибирский купец-миллионер, большой самодур».
А отец, укрепляя наши позиции, требовал самовар, бублики, черную икру и водку.
Мы вернулись в Баку, потрясенные пережитым, привыкшие к виду крови, к смертельной опасности, – но не к новой жизни. Да и в Баку многое изменилось за время нашего отсутствия… И отец принял решение уехать из России. Оформление документов требовало множества хлопот и еще больше денег. Следовало решить, куда ехать – и отец долго над этим не раздумывал: не Америка влекла его, а Палестина. Еще в 14 году брат моей мамы Натан уехал в Палестину и примкнул к халуцианскому движению. Он жил в Петах-Тикве, близ приморского городишки Тель-Авива. Отец дал ему знать о своих планах и намеревался встретиться с ним по дороге в Палестину, в Константинополе.
Однажды в дверь нашей квартиры, ранним утром, замолотили кулаками. В Баку правили тогда большевики – 26 бакинских комиссаров, расстрелянных впоследствии англичанами. Мы привыкли к внезапным посещениям, и мать, открыв дверь, впустила в переднюю группу солдат с винтовками.
– Очищайте квартиру! – приказали солдаты. – Наш начальник будет здесь жить!
– У меня дети! – сказала мама. – Куда я с ними денусь? На улицу?
– Ладно, – решили солдаты, посовещавшись. – Вы – буржуи, поэтому надо вам страдать. Переходите в две комнаты, а наш начальник будет жить в четырех!
К вечеру пришел начальник. Им оказался один из 26 комиссаров – правителей города, Алексей Джапаридзе. То был идеалист, наивно веривший, что всем людям на земле может быть одинаково хорошо. О том, что всем людям на земле под властью идеалистов может стать одинаково плохо – над этим комиссары не задумывались. Уничтожить людей, сомневающихся в будущем «всеобщем счастье» или противившихся ему – это был первый, святой долг революционеров-идеалистов. Вначале они делали свое страшное дело – веря. Так же веря – потом они умирали под пулями своих друзей и своих врагов. Джапаридзе расстреляли англичане. Его семью – жену и дочерей – Сталин продержал в лагерях до самой своей смерти.
Алексей Джапаридзе оказался человеком приятным и даже застенчивым. Ему видно, было неловко нас стеснять.
– Оставайтесь в четырех комнатах, – решил Джапаридзе, – а я и в двух умещусь…