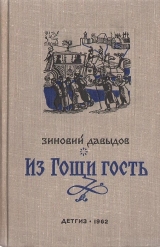
Текст книги "Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
XIV. Губной староста Никифор Блинков
Толстоголосый, после того как сбросил Кузёмку в орешник, зашагал вперед быстро, не разбирая ни сухомежья, ни грязи. Ноги его шаркали по осклизлым корнищам, он падал, поднимался и снова шел, подчас пускаясь даже бежать, чтобы настигнуть своих и убраться подальше от того места, где лежал убитый Кузёмка. Шуба была толстоголосому совсем впору: не жала в проймах и сходилась на груди, хотя в ногах и была коротковата. Толстоголосый все норовил ее застегнуть, но это ему не удавалось, то ли потому, что руки у него дрожали, то ли оттого, что они заняты были у него орясиной и Кузёмкиной коробейкой. Отбежав изрядно, он остановился, приладился, надел поверх шубы свою тяжелую суму и нагнал «слепцов» за поворотом дороги.
– Кхе-кхе… – закашлялся Пахнот, завистливо глянув на толстоголосого. – Клёв был лох, да и чух не плох! [162]162
Староворовское наречие: хорош был мужик, да и тулуп не плох.
[Закрыть]Тулупу ж все едино, что Кузьма, что Прохор.
– «Гой, была да шуба – шубу нашивали», – затянул Пасей.
– «Нетути шубы – да в шубе хаживали», – подхватил Дениска.
Но толстоголосый не огрызнулся и даже не сбавил шагу. Он обогнал своих товарищей, которые тотчас же вприпрыжку рванулись за ним, и устремился далее, размахивая орясиной и лубяною коробейкой. Хождение «слепцов» затянулось, с беспутицей у них выходила промашка, а всем им нужно было попасть в Можайск на ярмарку хотя бы в канун воздвиженьева дня.
В канун воздвиженьева дня поутру рано выехал из Можайска по Вяземской дороге губной староста Никифор Блинков с губным палачом Вахрамеем и с небольшим казачьим отрядом. Разбойники, лазутчики, корчмари одолевали округу; они во множестве плодились и в державе нового царя Василия, и был Никифору наказ ловить их и искоренять. У Никифора бродягами набита была вся татиная темница, но лихие люди не переводились; они разбивали обозы, грабили проезжих, тянулись к Москве из-за рубежа со всяким запретным товаром.
В Можайск на воздвиженскую ярмарку со всех сторон по кривым и хлипким колеям тащились обозы. Лужецкие монахи волокли на Можайку питейную рухлядь. С полным возом хомутов проехал купчина, сняв перед Никифором шапку еще за версту. А под Никифором играл диковатый конек, и Никифор, покачиваясь в седле, зорким оком прощупывал мешки с конопляным семенем, солому на возах и целые горы кож, с которых бычьи хвосты свисали во все стороны. Позади, за казаками, плелся пешком палач Вахрамей в красном зипуне, опоясанный веревкой. Он подходил к мужикам, поторапливавшимся в город.
– Дайте кату [163]163
Кат – палач.
[Закрыть]плату, – требовал он своё.
И мужики, не споря, раскошеливались по грошу.
Никифор ехал шагом, уперши ноги в высоко поднятые стремена, сдвинув набекрень зеленую свою шапку с собольим околышем.
– Стой! – крикнул он, заметив между возами ватажку слепцов; она вытянулась за высоким плосколицым поводырем, у которого желтела в ухе медная серьга. – Что за люди?
– Знаменского монастыря сироты, нищая братия, – ответил поводырь.
Голос его прозвучал поистине диковинно: толсто, хрипловато и с заглушиной, и Никифор вспомнил, что губной дьячок Ерофейко, которого он несколько дней тому назад вкинул в темницу, читал ему что-то в московской грамоте о трех мужиках с толстоголосым вожем.
– А игуменские листы прохожие яви.
– Нету, боярин, у меня листов. Соберем на ярманке милостыню и побредем восвояси к Знаменью.
– Почему да на новом тулупе у тебя брюхо драно? – не унимался Никифор. – А полу у тебя не черт ли съел?
– И-и боярин… – улыбнулся толстоголосый, показав свои желтые, длинные, как у лошади, зубы. – Черту в пекле работа, а мы во келейке спасаемся. Мыши полу и отъели, боярин. Их, мышей, у Знаменья – сила!
– Отойди!
Толстоголосый отошел в сторону. Никифор подъехал к стоявшим у обочины «слепцам». Они стояли в ряд, с клюками в руках, с разбухшими торбами через плечо. Эти и впрямь были слепы: у одного глаза навыкате, у другого – одни бельма, у третьего очи, видимо, никогда не разверзались.
Из оправленных медью красных ножен вынул тихонько Никифор саблю. По лицам «слепых» пробежала смутная тень.
– Гахх! – резанул Никифор булатом, едва не отсекши носы «слепцам».
И чудо снова свершилось. «Слепцы» хоть и покатились в лужу, а снова прозрели все: Пахнот с глазами навыкате, и Пасей, у которого на бельмах опять заиграли зрачки, и Дениска, барахтавшийся в грязевище с широко разверстыми очами.
Казачьими плетьми и ударами Вахрамеева ослопа [164]164
Ослоп – дубина.
[Закрыть]ватажка с толстоголосым поводырем была подогнана к Богородицким воротам. Никифор послал вынуть из темницы губного дьячка Ерофейка, и тот в губной избе читал ему из московской грамоты строку за строкой.
– «Голосом толст, нос примят, борода пега, в ухе серьга медная. Зовут его Прохорком».
– Уж чего толще!.. И борода пега… – молвил Никифор, вытирая рукавом ус после ендовки квасу.
– «Козьмодемьянец Пахнот, – читал далее подслеповатый Ерофейко, водя перстом по бумажному столбцу, – прозвище его Фуфай, нос горбат, борода раздвоена».
– Да это, никак, ты? Так и есть! – сказал Никифор, вглядываясь в Пахнота.
– «И с ними, с тем Прохорком и Пахнотом, два других вора, в приметы не взяты, скитаются по посадам и селениям и дорогам и, прикинувшись слепыми, грабят и разбивают».
– Будет, Ерофейко! Видно, что те самые. Прощупай их промеж ребер, Вахрамей.
Вахрамей подбежал ко всей четверке и, оглушив ее всю оплеушинами, сорвал со всех четверых их толстые торбы. И на стол, на котором стояла осушенная Никифором ендова, посыпались ржаные преснушки, засохшие пироги, заплесневелые корки; а вслед за ними – золотая цепь, жемчужное ожерелье, женская бобровая шапка, шелковый обрывок от рукава, перстень золотой с изумрудом, серебряный крест и кошели денег – польских, московских и всяких.
Ерофейко сделал роспись вещам и деньгам и снова пошел в темницу вслед за толстоголосым и «слепцами», прозревшими от мановения Никифоровой сабли.
– Ты ужо, Ерофей, посиди в темнице до после просухи, – сказал ему на прощанье Никифор. – Ведомо мне стало, что ты изменник великому государю: за рубеж отъехать хочешь. А ежели что, так я тебя кликну.
Вечером в доме своем, в жарко натопленной горнице, сидел в одной рубахе и шелковых портах губной староста Никифор Блинков. На столе горела сальная свеча. Пламя ее играло по изразцовой печке, на атласных покрывалах, на лавках, на серебряных окладах икон. Никифор наклонился над росписью, которую утром составил вынутый на время из тюрьмы дьячок Ерофейко. Губной староста не столько разбирал написанное, сколько брал догадкой: ведь то, о чем писал Ерофей, было здесь же, на месте.
– «Цепь зо-ло-тая», – прочитал Никифор по Ерофейкиному списку. – Есть, – подтвердил губной, взвешивая в руке тяжелую цепь и опуская ее в приготовленную на столе шкатулку. – «О-же-релье жем-чужное…» Есть. «Перстень зо-ло-той с и-зум-ру-дом…» Есть.
За дубовым ставнем, внизу на торжке, замирала ярмарка, и уже пересвистывались ночные дозоры. Тюремный сторож вертел трещотку где-то недалеко от Никифорова двора. Никифор прислушался и, хлебнув из братины квасу, опять принялся за дело.
– «Об-ры-вок шел-ковый…» Есть. «Крест се-реб-ря-ный…» Есть.
Никифор проверил всю роспись. Все было налицо, и все он бережно уложил в свою шкатулку, обитую зеленой кожей, с забранными в медь углами. Оставалась еще женская шапка, бобровая, с парчовой тульей. Никифор встряхнул ее и оглядел: бобёр был с сединкой, а исподнизу к желтой камке [165]165
Камка – шелковая цветная ткань с узорами.
[Закрыть]пристал длинный русый волос. Никифор примял шапку поверх всего уложенного в шкатулке и прихлопнул крышку. И, глянув еще раз на роспись, зажег ее о свечку. Столбец вспыхнул в руке губного и рассыпался по подносу желтыми язычками. Горница осветилась, как фонарь, но Никифор плеснул в догоравшую бумагу квасом, и все сразу потускнело. И, заперши шкатулку на ключ, Никифор задвинул ее за образа, туда, где лежал у него в глиняном горшочке клад, найденный им вместе с дьячком Ерофейком на казачьих огородах.
Никифор прошелся по горнице, зевнул и почесал спину. Потом обратился снова к образам и стал творить молитву на сон грядущий.
XV. Судили и рассудили
Толстоголосый чуть с полатей не свалился от Кузёмкиного толчка. Кузёмка успел сорвать у него с плеч тулуп, но толстоголосый сидел на тулупе да еще с перепугу ухватился за один из болтавшихся рукавов. Тулуп затрещал, и словно дым от него пошёл.
Смятение толстоголосого возросло еще больше, после того как он узнал в обнаженном до пояса приземистом мужике Кузёмку. Уж не с того ли света явился за своим тулупом Кузьма?
– Да ты, братан, с ума сбрёл! – пришел наконец в себя толстоголосый. – Чего тебе от меня надо?
Но Кузёмка задыхался и только скрипел зубами. Тогда толстоголосый, улучив время, лягнул его босой пяткой в лицо. Кузёмка выпустил из рук тулуп, и толстоголосый метнул его от себя к стенке.
– Ты где ж это спозаранок вина натянулся, на людей кидаешься?.. – молвил толстоголосый как ни в чем не бывало.
Но Кузёмка с воем лез на него снова, и вокруг них стали уже собираться тюремные заточники.
– Отдай тулуп! – выдавил наконец из себя Кузёмка. – Тулуп мой. Отдай, разбойник!
– Коли он был твой, пьянюга?.. Поди проспись, не морочь людей!
– Я голову с тебя сорву, разбойник! – наскакивал Кузёмка на толстоголосого, который продолжал отбрыкиваться от него ногами. – Тулуп мой, отдай!
– Может, тебе еще и шапку горлатную [166]166
Горлатная шапка – высокая, расширявшаяся кверху, обшитая дорогим мехом от горла лисы, куницы или соболя.
[Закрыть]на придачу? – оскалил толстоголосый свои лошадиные зубы.
– Дай ему еще и боярскую цепь, – посоветовал толстоголосому Пахнот, усевшийся с ним рядом на полатях.
– Будет у нас в шапке и с цепью воевода, – отозвался откуда-то с полатей Пасей.
– Не ты ли у меня намедни угнал мерина чалого? – показал с полатей свою лопоухую голову Дениска. – Так и есть: вор тот самый. Надо быть, за рубеж угнал, к литвякам.
Однако на помощь к Кузёмке подоспели мукосеи.
– Голову проломил человеку и тулуп с него сограбил, – объяснял Нестерко сгрудившимся у полатей тюремным сидельцам.
– Ну, снял так и снял, – вмешался рыжий колодник, хотевший накануне сорвать с Кузёмки на влазную чарку. – Была шуба его, – ткнул он пальцем в Кузёмку, – а теперь уж не его. Теперь уж его, – показал он на толстоголосого.
– Известно: не передуванивать дуван, – поддержал рыжего колодник с лицом, изрытым оспой. – С твоего возу упало – пиши пропало, – обратился он к Кузёмке.
– Ты, такой-сякой, не шалуй! – крикнул толстоголосому Милюта, когда разобрал наконец, в чем дело. – Богу молись только, что на колу не насидишься. А шубу верни.
– Какая такая шуба, божий ты человек?.. – взмолился толстоголосый, разглядев Милютины кулачищи. – Тулуп, он мой! С самой с опричнины владею я сим тулупом! Кровный он мой, купленный.
– Разбойник! – завопил снова Кузёмка, задыхаясь и потрясая кулаками. – До полусмерти меня убил! Тулуп снял!
– Братцы! – воззвал толстоголосый к стоявшим у ног его колодникам. – В другой раз мужик этот на меня кидается. Дался ему мой тулуп! Сироты мы, Знаменского монастыря нищая братия. Брели на ярманку за милостыней, а он увяжись за мной в Вязьме: дойду, говорит, с тобой – веселей дорога, легче путь. Известно, хотел тулуп мой скрасть!
– Разбойник!.. Душегуб!.. – стал снова наскакивать на толстоголосого Кузёмка, но колодники оттащили его в сторону.
– Стой, мужик, не петушись, рассудим мы вас, – сказал Кузёмке похожий на попа плешивый колодник с длинной седой бородой. – Сказывай дале, – обратился он к толстоголосому.
– Пошли мы на Можайск, – начал снова толстоголосый, – а он отстанет ли, вперед ли забежит, али около трется, тулуп мой щупает.
Кузёмка забарахтался в своем углу, но его крепко держали за руки, а потом и вовсе повалили наземь. Кузёмка выл, скрежетал зубами, из губ его выбивалась белая пена, но рыжий колодник в сермяжной однорядке сел ему на грудь и заткнул ему рот его же бородою.
– И как шли мы лесом, – гудело толсто с полатей, – Пахнот с Пасеем и Дениской ушли далече, а он почал кидаться на меня, тулуп с меня сбивать – дался ж ему мой тулуп! – а потом стал кидаться, душить меня почал. Я глянул, вижу – мужик шалый, задушит до полусмерти. Тут я его стукнул маленько посошком и побежал.
Когда толстоголосый кончил, колодники загорланили все сразу. Один только Милюта остался стоять посреди темницы. Он недоуменно развел продетыми в цепи руками и, выпучив глаза, поворачивал голову то к Кузёмке, то к полатям, на которых, свесив ноги, рядышком по-прежнему восседали толстоголосый с Пахнотом.
Кузёмка не метался больше, не вопил. Он лежал потный и красный в углу, куда его затащили колодники, и ребра его распирались и снова опадали, как у загнанного вконец коня. Широко раскрытыми глазами сквозь сетки кровавых жилок, молча, не поворачивая головы, поглядывал Кузёмка на седобородого колодника, толковавшего что-то тюремным сидельцам, на Милюту, словно окаменевшего с растопыренными пальцами, на тщедушного Нестерка, который кричал и метался из стороны в сторону – от седобородого колодника к полатям и обратно.
Седобородый ходил в разбойничьих атаманах лет сорок, еще с Грозного царя. И здесь, в темнице, седобородого, как и встарь, почитали атаманом воры, тати и душегубы, и дано было ему и здесь судить и рядить. И седобородый при помощи исщипанного колодниками губного дьячка Ерофейка рассудил. Поскольку оба стоят на том, что тулуп сызвечна Кузьма говорит Кузьмин, а Прохор – Прохоров, и поскольку свидетели и очевидцы, Прохоровы и Кузьмины, стоят на том же, дела этого законно рассудить не можно. Но поскольку тулуп теперь на Прохоре и на нем же и тегиляй, а Кузьма вовсе гол, без креста на шее и рубахи на плечах, и хоть о тегиляе никто не спорится, а спорятся о тулупе – рассудить так: тулуп – Прохору, а тегиляй – Кузьме.
Снова поднялась тут завируха, всяк кричал свое, никто не хотел друг дружку слушать. Но толстоголосый оскалил лошадиные зубы и метнул Кузёмке с полатей свой латаный тегиляй, из которого в разных местах торчала пакля. А Кузёмка остался по-прежнему на земляном полу, мокрый и красный, с широко раскрытыми глазами, налитыми кровью.
XVI. Мир вам!
Колодники, погалдев немного, разбрелись по своим углам, где у каждого нашлось свое дело: кто штопал себе одежину, кто грыз ржануху, кто в кости играл, кто карты метал. Мукосеи тоже развязали мешки, и Нестерко отрезал Кузёмке ломоть, круто посыпав его солью. Кузёмка сел в своем углу, натянул на себя тегиляй и молча стал жевать хлеб, которого не брал в рот целые сутки.
Тулуп, думал Кузёмка, бог с ним, с тулупом. Доберется Кузьма и в тегиляе до Москвы. И не то беда, что сидит он теперь в клетке. Может, и не снимут еще с него головы за то, что он, выпиваючи в кабаке, с хмелю, пьяным, можно сказать, обычаем, лишившись ума, крест с себя пропивал. Но вот грамотица, грамотица Заблоцкого пана, которую пронес Кузёмка из-за рубежа в рукаве тулупа!.. Вон он, тулуп, и левый рукав, и не в рукаве ль этом грамотица? Кузёмка сам ее запрятал под накладным кусочком овчины и зашил потайной карман скорнячьей иглой.
Кузёмка глядел на толстоголосого, который растянулся на полатях под его, Кузёмкиным, тулупом, и на трех «слепцов», шептавшихся о чем-то на полатях же, в темноватом углу. Но крик и брань, и лязг замка, и скрип открываемой наверху двери оторвали колодников от их дел, и сам Кузёмка, как ни был он погружен в свою думу, глянул вверх и увидел человечка, который осторожно спускался по приставной лестнице, фыркая и отплевываясь, перебирая одной рукой перекладины, а другой прижимая к груди какую-то рухлядь. Дверь наверху захлопнулась, стукнул засов, щелкнул замок, а человечек тем временем со ступеньки на ступеньку спустился вниз, обернулся и поставил на пол пустую кадушку.
– Дельце!.. – хлопнул себя по ляжкам человечек, и Кузёмка сразу узнал в нем монастырского старчика, с которым они вместе пили вчера в кабаке. А к старчику уже подбирались рыжий в сермяжной однорядке и колодник с рябым от оспы лицом.
– С тебя, отче, на влазную чарку, – сказал рыжий. – Не отбояришься: не нами установлено – при отцах наших и дедах повелось.
– Полезай в зепь [167]167
Карман.
[Закрыть], доставай мошну… – дернул старчика рябой.
– Ась?.. – откликнулся старчик. – Чего?.. Не слышу… Мошну?.. В зепь?..
– Мошна у тебя где?.. В зепи ж?.. – молвил рыжий и, громыхая оковами, стал ощупывать на старчике зипун.
– И, милый! Моя зепь – что твоя чепь: и звон и гуд, а толку что?.. – И старчик вывернул свой карман, из которого посыпались крошки, стружки, мусор. – Вона!..
– Чего ж ты, пес, без влазного в темницу лезешь?.. – рассердился рыжий. – Впервой тебе?..
И рыжий нахлобучил ему его шапчишку на лицо, а рябой прихлопнул ее сверху. От такого шлепка старчик, наверное, пал бы наземь, если бы не оказавшаяся позади квасная его кадушка, на которую он так и сел, расставив широко ноги.
– Дельце-то, дельце!.. – стал сокрушаться старчик, кое-как стащив с себя шапку. – И всю-то вот ноченьку одолевали меня черти. Би-ился я с ними!.. А они, диаволы, изодрали на мне зипунец и давай хватать меня за что гораздо. Насилу отбился, а гляжу – уже свет в окошке, к заутрене благовест, и пора мне на торг. Сотворил я молитву, попил кваску и побрел по рядам. Прошел седельный, прошел мясной, иду солодяным, а на перекрестке, гляжу, Никифор Блинков, губной староста, а за ним поодаль – Вахрамей-палач. Ну, думаю, пронеси господи; не зря, думаю, меня черти ночью одолевали, зипунец на мне драли. А Вахрамей, уж он тут, уж ему подавай: дай, говорит, плату ему, кату.
«Нетути у меня, – говорю, – платы».
А он как почал бородёнку мне мочалить да как зыкнет:
«Сучий ты хвост! На что, – говорит, – у тебя есть, а мне, для государевой моей службы, нету у тебя платы…»
«Не наторговал еще, – говорю, – Вахрамеюшко. Торги-т, сам знаешь, ноне охудали. Какие ноне торги!..»
«А ты, – говорит, – сучий хвост, чем в кабаке сидеть целый день, ходил бы по рядам да торговал бы да государеву человеку плату давал бы…»
А я ему:
«Вот попей, – говорю, – кваску, Вахрамеюшко, у тебя от сердца и отойдет».
И отчего это от слов тех моих он раскручинился так и уж и вовсе осерчал?
«Захлебнись, – кричит, – сучий хвост, твоим квасом!..»
Махнул ослопцем и кадушку с меня сбил. Затычка выскочила, и квас мой вытек.
«Вахрамей, – говорю, – волен меж нами бог да государь; добру моему отчего гинуть? Покорыстоваться ты хочешь моим сиротством? Прямой ты, – говорю, – мучитель, Вахрамей».
А он меня ослопом да ослопом… В бок да в ляжку, в холку да в гриву…
«Вахрамей, – говорю, – есть на вас указ… Слышно, указал уже государь приказных по городам побивать каменьем…»
Тут он и вцепился в меня и поволок… Добро, я кадушку свою подхватил! А он зипунец на мне изодрал, что тот черт во полуночи, и кружки мои переколотил.
И вот я – в чертоге сем, – закончил старчик. – Мир вам, люди и звери, тараканы да жуковицы, огурцы да луковицы. Вона!.. Эва!..
XVII. Нож
Из всех колодников прослушали старчиков рассказ только Нестерко да Кузёмка. Остальным не было дела до захудалого старчика с его пустой кадушкой. А старчик как кончил, вытер шапкой лысину, взял с полу свою кадушку и полез было на полати. Но его сразу же столкнули оттуда шлепками и пинками, и старчик стал тыкаться во все углы в поисках свободного места.
– Дельце!.. – вскричал он, разглядев Кузёмку в углу против окошка.
Но Кузёмка ничего не молвил в ответ; только подвинулся и дал старчику место у стенки.
– Ну, теперь не найтить тебе твоей шубы, – сказал старчик, сев на пол рядом с Кузёмкой и устроив кадушку у себя между ногами. – Погуляет твоя шуба на пиру без тебя.
Кузёмка продолжал жевать хлеб, поглядывая временами на полати, где под его тулупом грелся толстоголосый.
– А чего не кинулся к губному?.. – не унимался старчик. – Ударил бы челом губному, авось сидел бы ты тут в шубе. Дай-ко пососать мне корочку.
Кузёмка отломил ему немного, и старчик попытался капнуть на хлеб из своей кадушки, но та была и вовсе суха, и как ни встряхивал ее старчик, ничего не потекло оттуда.
– Вона!.. – показал он Кузёмке. – Видал?.. Был ячный квас, а где он?.. В поганую лужу весь и вытек. Рассудят нас с Вахрамеем на страшном суде, а в земном царствии не найтить мне, видно, на него управы.
Старчик всхлипнул и принялся обсасывать хлебную корку, норовя даже погрызть ее беззубыми деснами. Он и к ушату пошел зачерпнуть водицы, но и ушат был пуст. Старчик вернулся на место; щербатым ножом, добытым из висевшей у него под зипунишком калиты [168]168
Калита – сумка.
[Закрыть], искрошил он на кадушке хлеб и заправил его себе в рот щепоть за щепотью. Пообедав так, он растянулся на полу отдохнуть, пристроив себе в головах кадушку. И он не храпнул еще ни разу, только веки успел сомкнуть, как Кузёмка тронул его за плечо. Старчик вздрогнул и присел у кадушки.
– А?.. Чего?.. Нетути, нетути, – залепетал он отмахиваясь.
– Да это я, – улыбнулся невольно Кузёмка. – Не пугайся… Экий ты пугливый!..
– Это ты?.. – вздохнул облегченно старчик. – А мне почудилось – диаволы меня опять хватать починают: плату им надо. Чего тебе?
– Ножик мне свой дай. Я те верну вечером или завтра.
– Ножик?.. А тебе зачем?..
– Одёжину мне настроить. Вишь, тегиляй треплом пошел.
– Треплом, говорить?.. Ножик?.. Да ты отдашь ли?..
– Ну вот те!.. – смутился Кузёмка. – Да отдам же!.. Только одёжину настроить: где подрезать, где заткнуть… Завтра нож сызнова у тебя в калите.
– Ну бери… Бери уж… Бежать тебе с моим ножиком все едино некуды.
Старчик полез в калиту и передал убогий свой нож Кузёмке. Потом снова припал к кадушке и скоро захрапел громко и мерно.
Кузёмка оглянулся. Вся темница была погружена в послеобеденный сон. Тускловатый свет еле проникал в темницу сквозь бычий пузырь. В сумраке, в пару, видел Кузёмка человеческие тела в армяках, зипунах, тегиляях – вытянутые, согнутые, скрюченные. Вот совсем близко мукосеи; вот там, поодаль, упрятал бороденку в шубейку губной дьячок Ерофей. На полатях спали старые сидельцы, крепко закованные в цепи, и с ними вновь прибылые «слепцы» со своим толстоголосым поводырем. Вон лежит он совсем у края, плосколицый, пегий, страшный, как Кузёмкина смерть.
Возле полатей большая печь, давно не топленная, полуразвалившаяся, заняла темницу на целую четверть. Кузёмка подошел к печи, оглядел ее со всех сторон и добыл из запечья запавшую туда кирпичину. Он вернулся в свой угол, погладил кирпич, поплевал на него тихонько и принялся бесшумно точить на нем полученный от старчика нож.
В темнице все спало по-прежнему. Только раз встрепенулся Нестерко-мукосей, оторвал от армячка свою всклокоченную бороду, глянул на Кузёмку ничего не видящими глазами и снова повалился на армяк. А Кузёмка все поплевывал на кирпичину, все тер об нее старчиков нож, все пробовал заблестевшее, как добрый булат, лезвие о лохмотья своего драного тегиляя. И, когда кирпичина была уже сточена на целую треть, а нож горел, как заправская бритва, Кузёмка отставил стертую кирпичину, зажал в руке нож и, медленно ступая, пошел к полатям.
Толстоголосый лежал спиною к Кузёмке, под Кузёмкиным тулупом, и вверх и вниз ходил на нем дубленый Кузёмкин тулуп. А Кузёмка подвигался все ближе и ближе, один только шаг ему нужно было сделать, чтобы стать у самых полатей, но вдруг почудилось ему – точно провалилось что-то у него в груди, захолонуло сердце, и темница медленно поплыла перед его глазами, завертелась плавно в кольчатых клубах белого дыма. Но Кузёмка вздохнул глубоко, и карусель с колодниками, полатями и печью остановилась. Тогда Кузёмка сделал еще один шаг и поднял нож.
Толстоголосого словно кто-то огрел плетью во сне. Он дернулся, но остался по-прежнему под тулупом, только рукав тулупа соскользнул с полатей и повис. Кузёмка мгновенно опустил руку и прижался к печи. Грудь его распирало, оттого что сердце там прыгало и билось, как бесноватое. Но Кузёмка глядел во все глаза на свесившийся с полатей рукав. Кузёмка стиснул зубы, в голове его разрывалось толчками раз от разу:
«Рукав!.. Тот он!.. Левый!..» Вон и швы на нем в совсем неуказанном месте, известном только ему, Кузёмке! А толстоголосый спит?.. Спит! Тулуп на нем ходит вверх и вниз, вверх и вниз…
Кузёмка подвинулся и коснулся пальцем рукава: ничего – спит. Кузёмка взял рукав в руку: спит. Кузёмка помял рукав у, еле заметного в неуказанном месте шва: есть! Есть грамотица! И носит ее с собой толстоголосый в Кузёмкином тулупе, вот в этом вот рукаве!
Кузёмка поднял руку и быстро провел ножом по овчине. И сквозь щель в рукаве глянула на него бумага, обмотанная красной тесьмой. Кузёмка запустил в прорешину пальцы и выхватил оттуда заветное письмо.




