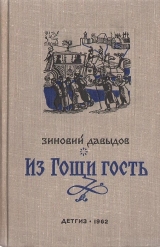
Текст книги "Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
XLIV. Кузёмкины россказни
Старый дьяк уже не бегал больше от Кузёмки. Всё как будто определилось, и даже раньше, чем можно было ожидать. Был теперь царь на царстве, и бояре были на боярстве, и дьяки на дьячестве. И, как всегда, была при новом царе и новая ссылка. «Кто уцелел, – думал дьяк, – тому господь бог – покров и спасение; кто в ссылку пошел, тот сам виноват».
Подле тына на пустой бочке укрепил дьяк скамейку, усаживался на нее, и по целым дням веяла под легким ветром дьячья борода, перекинутая на улицу через тын. Дьяк заговаривал с прохожим и с проезжим. Дьяку было теперь известно все. И от него же и узнал Кузёмка, что повелел великий государь Василий Иванович бывшему посольскому думному дьяку Афанасию Власьеву ехать в ссылку к башкирцам, в Уфу.
Скула у Кузёмки зажила, но его одолевала новая кручина. И не одна.
Князь Иван уже вставал с постели. Босой, в шубе, накинутой поверх исподнего, бродил он по покоям, из комнаты в комнату, выходил на крыльцо, глядел на кремлевские главы – они мелькали, точно золотые яблоки, в зеленой листве. Кузёмка поднимался на крыльцо и шепотом докладывал князю Ивану обо всем, чему очевидцем был и что слышал от добрых людей. Узнал тогда князь Иван о новом царе, «иже бе от римского кесаря»; узнал, что опустел Аристотелев двор – кроме старой татарки, нету там живой души; узнал и о том, что пошел Афанасий Власьев в ссылку в Уфу. Ну, а Кузёмке стало известно, что белый хворостининский бахмат, коему цены не счесть, уведен из Аристотелевой конюшни, где оставил его князь Иван.
Ходил некогда белый бахмат под тарковским шамхалом [136]136
Шамхал – титул бывших правителей Тарковской области в Дагестане.
[Закрыть]. Разбитый и плененный, ударил в Тарках челом шамхал государеву воеводе, старому князю Андрею Ивановичу Хворостинину-Старку, саблей своей турецкой и бахматом татарским. Сабля была в бирюзе и алмазах. На бахмате не было и простой попонки. Но и десяти таких сабель не стало бы жалко за одного такого коня. Через горы, через дебри, пустыней и степью, полем и лесом – больше тысячи верст провел под уздцы Кузёмка бахмата из Тарок и вывел нерушимо в Русь. А теперь… Не под Пятунькой ли ходит бахмат этот? Но нет. Пятунька ездил по Чертолью на вороном коне, и было теперь на Пятуньке стрелецкое платье. Услышал Кузёмка топот на улице, пыль поднялась выше тына столбом, пошел глянуть и увидел Пятуньку.
Пятунька носился по улице взад и вперед, кистенем размахивал, бил им в тын и в ворота. Кузёмка ж стоял у калитки, руки назад заложил и молча глядел на озорного мужика.
– Мужик охальный! – не стерпел наконец Кузёмка. – Чего кистенем машешь, кого воюешь? Поезжай отсюдова, нечего!
Пятуньке, видно, только того и надо было. Вздыбил он коня, подлетел к Кузёмке, кистенем махнул раз и другой, прошиб Кузёмке голову, грудь рассек, в руку угодил. Наклонился Кузёмка камень поднять, но Пятунька уже ускакал, а Кузёмка уж и выпрямиться не смог. Кое-как пополз он по двору; взвыла Антонида-стряпея, увидев окровавленного Кузёмку, сбежались работники, прибежала Матренка, князь Иван спустился с рундука на двор. Отнесли они Кузёмку в избу, омыли ему раны, уложили на лавку. И долго сидел князь Иван на лавке у Кузёмки, потом вернулся в хоромы и заперся у себя. И пил всю ночь один на один с чарой своей.
В углу покоя догорала лампада, зажженная с вечера Матренкой. Подстерегающая и вкрадчивая, таилась под окошком ночь. Князь Иван не помнил уже, который раз припадал он губами к чаре, да и что было считать! Ничего не хочет он помнить из того, что расползлось, рассыпалось между пальцами, развеялось в прах. Петухи поют? И ладно. «Пускай поют, – думает охмелевший князь Иван. – Но не так шибко. А то и оглохнуть недолго. Кричите, петушки, поодиночке, друг за дружкой, на разные голоса». Но куда там – сразу вместе надрываются, проклятые, сплошным хором, далекие и близкие, малые и большие: кука-реку-у-у!
И мерещится князю Ивану светлый кочет, белый, как пламя, худой и трепаный, с окровавленным клювом. Он выскочил вперед, бросился на князя Ивана, как на курицу, стал долбить его в затылок, клевать его в темя. Князь Иван трясет хмельной головой, чтобы сбросить с себя кочета, но тот только хлопает крыльями и, вытянув шею, кричит истошно. Насилу оторвал его князь Иван от себя и с размаху шибанул в угол. И, подскакивая в углу, стал кочет клевать самого себя в зоб и выщипывать из себя перья. И заклевал себя насмерть.
Еле дотащился князь Иван до своей лавки, все опрокидывая на своем пути. Проснулся на другой день поздно от стука в дверь, от голоса Матренкиного за дверью:
– Жив ты, князь Иван Андреевич?
– Жив, жив, Матренка. Чего тебе?
– Сколько времени стучусь!.. К обеду пора приспела. Да и письмо тебе… Та самая давеча прибегала, письмо кинула да и дале убежала. Всплакалась она было слезой горючей: на кого-де меня покидает…
Князь Иван вскочил с лавки, шубу на себя набросил… Письмо! Всего пять строчек: «Задал я драпака в отчизну. От Москвы на Можайск, на Смоленск, на Баёв да на Оршу. Рогачовский уезд. Деревня Заболотье. Это путь кратчайший. Прощай, князь, до лучших дней».
Так. Опять один остался князь Иван. Никого из друзей подле. «Не о царях, но о царстве», – сказал князю Ивану Афанасий Власьев. С кем же князю Ивану царство строить – с Шуйским, с Пятунькой?
– Что Кузьма? – спросил князь Иван, не оборачиваясь к Матренке, складывая письмо вдвое, вчетверо, ввосьмеро, уже совсем малый комочек остался у князя Ивана в руке. – Приходил Арефа?
– Приходил, Иван Андреевич. Дул, шептал, дымом дымил, стихом говаривал.
– А питье давал, зелье, мази?
– Давал и питье и травы к ранам прикладывал.
– Легче Кузёмке?
– Ништо ему, к завтрему встанет.
Князю б Ивану и самому нужны зелья и мази. А то в голове гудит со вчерашнего и петухи кричат в ушах, как и в ночь накануне. Князь Иван долго слонялся по дому, выходил в сени, постоял на крыльце и забрался наконец в горенку свою, где дитятей играл, где рос, где прожил до того, как умер отец. Вот и игрушки детские на полке над окном – волчки да сабельки, лошадки и барашки. На столике угольном лежит костяная указка и самодельная азбука, под столиком – серый мешок, покрытый пылью. Что за мешок? Ах, так! Забыл о нем князь Иван, вовсе забыл. От Григория остался мешок этот, от Отрепьева. Вытряхнул князь Иван на стол все свитки и тетрадки Григорьевы – искусная скоропись, чистая, четкая. Стал князь Иван читать из середины:
«…Воевода Петр спросил его, есть ли в том царстве правда. И Васька Марцанов молвил ему: «Сила воинская, господин, там несчетная и красота велика, а правды нет: вельможи худы, сами богатеют и ленивеют, богу лгут и государю, мужиков себе записывают в работу навеки, дьяволу угождая». И воевода Петр заплакал и сказал: «Коли правды нет, то ничего нет».
Вгрёбся князь Иван в тетрадки, не оторваться ему. И пошло теперь: ночью пьет князь Иван, днем Григорьевы тетради читает; ночью пьян от вина, днем ходит хмельной от книжных словес. И летят дни. Что за домом, что за тыном, что было, что будет – не знает, не хочет знать князь Иван. Будет, верно, и ему от Шуйского ссылка, узы будут, заточение. Может, еще и поболее того станет? Приходил же намедни Кузьма, рассказывал, что ездит Пятунька Шуйских по-прежнему по Чертолью охально, кистенем бьет, грозится: скоро-де вам и не то будет. И Кузёмке его не унять. Вот скрипит он снова по лестнице, Кузьма непоседливый, опять идет докладывать князю Ивану. Так, верно: Кузёмка.
Он вошел робко, дверь прикрыл за собой плотно…
– Князь Иван Андреевич, не знаю, что и подумать…
– Ну, подумай, Кузёмушко; подумай и молви.
– Врали тут всяко – кто что… Ходит он будто по Москве ночью в дымном облаке, а как петух пропоет, так дымом и исходит. Кинулись туда раз люди, ан на месте дымном как бы отсырело.
– Кто ходит? Что ты, Кузьма?
– Царь вот Димитрий ходит; скучно ему на Котле [137]137
Тело убитого Лжедимитрия было сожжено за Серпуховской заставой, в местности, которая до сих пор называется Котлы.
[Закрыть], в золе.
– Иди, Кузёмушко, ступай уж. Никто не ходит, никто не дымит. Пустословие и враки.
– Я и то думаю – враки, и всё.
Кузёмка потоптался, оглянулся…
– Ходил я давеча по Чертолью, встретил ямщика, Микифорком зовут, пьяненький бродит. И проболтался мне тот Микифорко. Возил он недавно на Вязьму гонца. И сказали ему ямщики порубежные, что-де жив царь Димитрий стал. В сокрыве находится, в Литве. Живет необъявлен.
– С хмелю стал ямщик твой безумен. Ступай!
Но Кузёмка не уходил.
– Торговал я в горшечном ряду латку. Гончары – народ прибылый, по дорогам ездят, по торгам, все им ведомо. Сказывали, годить надо, объявится-де.
Побрел Кузёмка к двери, но в дверях обернулся, чуть дрогнул его голос:
– Не кручинься, Иван Андреевич. Годить надо, вон что.
И вышел за дверь.
XLV. Кузёмкина путина
Годить? Но доколе? И какого добра князю Ивану ждать? К башкирцам замчат его приспешники Шуйского или в Сибирское царство, к монголам, к калмыкам, туда, куда и ворон костей не заносил?
Глядит князь Иван в окошко, видит – солнце играет на Иване Великом… И шепчет князь Иван:
«Вот-де, – думает князь Иван, – Публий Овидий… Как пришла беда, в ссылку ему идти далече [139]139
Римский поэт Овидий был сослан императором Августом в местность, расположенную у устья Дуная.
[Закрыть], прощай родная сторона, так, вишь, заплакал этакой чистой слезой. Так. Бог с ним, с Овидием. Что там еще у Григория в тетрадях? Ну и наворотил ты, Богданыч! Откуда что?»
И князь Иван лезет в мешок за тетрадями, раскладывает их на столе, перелистывает, перечитывает, но Григорьево писание нейдет ему сегодня в ум. Он посылает за Кузёмкой и расспрашивает его про ямщика Микифорка, про гончаров-горшечников, и передает ему Кузёмка, что видел, что слышал:
– Намедни шел я улицей, вижу – Микифорко к колодцу коней повел. Я ему: «Поздорову жити тебе, Микифорко». Ну, то да сё… «Ты, Микифорко, говорю, про царей бы помене… Ужо урежут тебе языка». – «Гужом, кричит, – мне подавиться – не стерплю неправды! Ужель им на мужиках московских по старинке ездить? Экие какие!» Ну, тут я глянул – ярыжные идут; я и побрел восвояси. Да и Микифорко, как ни горяч, а язык прикусил.
«Не стерплю неправды…» О какой, – думает князь Иван, – неправде они кричат, все эти ямщики, гончары, пирожники московские, калашники зарецкие?» Вот и холщовые колпаки, с которыми князь Иван тому назад два года столкнулся на Троицкой дороге лицом к лицу, – те тоже кричали о неправде. О неправде говорят все «черные люди» в Московском государстве – вся подъяремная Русь. Да что ему-то, князю Ивану, до черных людей? Уж так, одно к одному пришлось. Не ужиться, видно, с ныне владущими ни князю Ивану, ни послужильцу его Кузьме. А Кузьма всё тут? Стоит, шапку мнет, глаза у него жалостливые, у Кузьмы.
– Ну, Кузёмушко, ступай. А коли что, вестей каких услышишь, приходи, поведай мне.
Уже не может жить князь Иван без Кузёмкиных вестей. Разве что ночью только не кличет он Кузьму.
И идет она, ночь. Липовым цветом, сладким духом, стукотней соловьиной рвется в окно, колеблет в двурогом подсвечнике пламя свечей, томит князя Ивана неизбывной тоской. Отуманенный вином, различает он все же – вот возникли перед ним сразу два лика: у Аксеньи – строгий, в толстых черных косах, с дуговидными бровями; у литовки лицо в золоте волос кажется и само золотистым. «Одну, – думает князь Иван, – я предал, другую потерял. Для чего предал? Может быть, с нею счастье объявилось бы мне рядом, в доме моем, само пришло…»
Светает. Табун облаков устало бродит в бледном небе. Примеркли огарки в подсвечнике. Князь Иван спит, уронив взлохмаченную голову на стол. Спит и бормочет во сне:
– Было в доме, да ушло… Прошло… Так.
Но катится время, стали ночи длиннее, темнее, отцвела липа, и до будущей весны уже не петь соловьям. А за ночью и день приходит, и что ни день приносит Кузёмка князю Ивану вести, одна другой причудливее. О том, что искал Кузьма, как наказано ему было, по Москве по всей немчина Аристотеля, и литовку-паненку, и татарина Бантыша, и охромевшего бахмата; спрашивал, выпытывал, да и следу не нашел. Умеют-де шубники прятать концы в воду. И еще извещал Кузёмка о ходивших по Москве подмётных листах от какого-то Ивашка Болотникова, Телятевских холопа; и о том, что будто взбунтовались рязанцы – не хотят они Василия Шуйского царем на Московском государстве; и о том, как велением Шуйского из Углицкого города пришли в град Москву какие-то мощи и нарек их Шуйский чудотворными и святыми мощами царевича, некогда в Угличе убиенного; и как от мощей тех слепые будто бы прозревали, расслабленные на ноги вспрядывали и прочь брели, скачучи и пляшучи, а бесноватые [140]140
Так в древней Руси называли душевнобольных, считая, что в них якобы вселился бес.
[Закрыть], покатавшись немножко подле мощей «чудотворных» и тем беса в себе изживши, пели хвалу богу, тропарь [141]141
Молитвенная песнь.
[Закрыть]– угоднику и славу – царю Василию. И как будто слух есть – в сговоре Шуйский со шведами, нанимает шведов на русских людей и за помощь себе отдает шведам наши села и города.
Много такого наслушался князь Иван от Кузёмки. Была в речах Кузёмкиных правда и нелепость, истина и несуразное. Думал над этим князь Иван и надумал нечто, потом передумал, потом снова стал думать. И однажды, глядя на Кузьму испытующе, молвил ему князь Иван глухо:
– Кузёмушко, удумал я…
Князь Иван облокотился на стол, растопырил пальцы и в волосы себе запустил.
– Кузёмушко…
– Я-су тут, Иван Андреевич, – откликнулся Кузёмка.
Но князь Иван точно не расслышал Кузёмкиного голоса.
– Кузёмка, – позвал он опять.
– Да тут же я, Иван Андреевич, здесь я. Аль не видишь меня, али как?
– Ах, здесь ты? Чего ж это я? Да, так. Кузёмушко, годить чего же? Какого добра? Соберись, в дорогу соберись… На сенях в сундуках тулуп возьмешь новый, сапоги…
– Да куды идти-то мне, Иван Андреевич? В какую путину?
– Пойдешь за рубеж… В Литву пойдешь.
– Иван Андреевич! В уме ли ты? То ли от тебя слышу?
А князь Иван вскочил с места, подбежал к Кузёмке, руки свои положил ему на плечи, стал говорить, торопясь и задыхаясь:
– Не дождаться мне тут добра; лиха дождусь, бесчестья, неволи. Не через месяц, так через два, через три, да вспомнит же и обо мне шубник, а не вспомнит сам, так напомнит Пятунька. Невмоготу мне, Кузёмушко, часа своего ждать. Тошно мне, Кузёмушко, жити так. А живу, как в лесу дремучем: ничто мне неведомо, а ведать надо, дознаться надо, да не от Микифорка ж, ямщика. Слушай, Кузёмушко, пойдешь пеше – так осторожнее будет. Пойдешь на Можайск, на Смоленск, до рубежа дойдешь, через рубеж перелезешь… Не учить мне тебя… С бахматом из Тарок ты в молодых летах экову отломил путину! И тут добредешь жив и цел. За рубежом – Баёво местечко, Орша город, за Оршей – Рогачов… Там доищешься Заблоцкого пана, под Рогачовом вотчинка у него, Заболотье… Расскажешь пану, расспросишь, жив ли де царь Димитрий, объявится ль, коли жив, скоро ль де будет в Русь из Литвы. И еще – как быть мне, пусть скажет: а то не пожалует меня Шуйский, не пожалует…
Кузёмка молчал, опустив голову. Потом повернулся и пошел к двери.
– Куда ты, Кузёмушко? Погоди, недосказал я.
Кузёмка остановился у самой двери и, не оборачиваясь, буркнул:
– Не полезу за рубеж. Нечего!
– Кузёмушко…
– Чего «Кузёмушко»?! – взревел вдруг Кузёмка. – Ну, на, бей, рви, режь, руби меня саблей – за рубеж не полезу: чать, русский я человек, не шиш [142]142
Проходимец; также шпион.
[Закрыть], не вор, не поляк, не лазутчик. Эко-ста ты затеял!
– Не по лазутчество посылаю тебя, Кузьма. Эх, Кузьма!
Но Кузёмка побежал прочь, даже двери за собой не прикрыл. Выбежал на двор, пропадал где-то целый час, потом увидел его князь Иван в раскрытое окошко. Стоит Кузёмка посреди двора, голову задрал, силится к князю Ивану в окошко заглянуть. И, опустив голову, тяжело и тупо стал подниматься по лестнице и прошел к князю Ивану в покой.
– Прости меня, Иван Андреевич, молвил я тебе грубо. – Задрожала у Кузёмки борода: – Тяжко тебе, Иван Андреевич; вижу – тяжко.
– Тяжко, то так, – согласился князь Иван. – А ты, Кузёмка, что ж, полегчить мне пришел? Сам знаешь, кто службу мне обещался служить, кто себя называл рабом вековечным, как Матренку просил за себя…
– Помню я, князь Иван Андреевич. Дал мне бог памяти на добро, а лиха, то верно, от тебя не видал.
Оба умолкли – князь Иван стоя у окошка, Кузёмка – посреди комнаты, бледный, растерянный. Он то сжимал ладони свои в кулак, то разжимал их, разводя руками в недоумении. В голове у него точно жернова вертелись, по скулам желваки бегали…
– Ну, так, – молвил он наконец. – Коли воля твоя… А наше дело холопье. Авось пролезу и обратно ворочусь. Авось… Ну, когда ж выходить мне, Иван Андреевич? Как повелишь ты мне?
Князь Иван подошел к Кузёмке, взял его за локоть.
– Ступай, Кузёмушко, выходи хоть сегодня, чего уж мешкать. Путь тебе рассказан, пана ты видал у меня… Возьми тулуп, сапоги смени, хлеба прихвати да денег, денег вот те… Письма тебе не дам, так на словах и расспросишь. Сторожко иди, с оглядкой. Коли осторожен будешь, пройдешь без зацепки. Ну, да не тебя мне учить! На дворе да и Матрене своей скажи, что идешь под Волоколамск, в Хворостинину деревню. Послал, дескать, тебя князь Иван к прикащику Агапею, пожить тебе в Хворостининой до первого снега. Ну, путь тебе ровный, иди.
Спустя час Кузёмка, в новом тулупе и новых сапогах, вышел за ворота. Матренка, оставив дитя свое – четырехмесячную Настюшку – Антониде на попечение, провожала мужа до Дорогомиловской слободы. В новом тулупе своем Кузьма обливался потом, неразношенные сапоги жали в подъеме. У Дорогомиловской заставы он попрощался с Матренкой, поцеловал ее и велел идти обратно и ждать мужа с первым снегом. Матрена взвыла тихонько, пошла и пропала. И, когда уж и дорога не пылила за ней, выискал Кузьма в темной листве золотую стаю кружевных крестов и на прощанье загляделся на них – на кресты кремлевские – в последний раз. И двинулся в путь: на Вязёмы, на Звенигород, на Можайск, к литовскому рубежу. Шел с оглядкой. Шел сторожко. Днем молитву творя, на ночь оберег [143]143
В старину суеверные люди были убеждены, что особые заклинания, называемые оберегами или заговорами, обладают силой предотвращать опасность, болезнь и т. п.
[Закрыть]шепча:
От воды и от потопа,
От огня, от пламя,
От лихого человека,
От напрасной смерти.
Часть четвертая
В темницах и затворах

I. Обратный путь
Ночь застигла Кузёмку в Кащеевом бору. Она словно пала сверху, от дымчатой тучи, и разошлась по лесу из конца в конец. Дробные дождевые капли перестукивались с сухим осенним листом и гулко нахлестывали по дублёному Кузёмкиному тулупу. Кузёмка остановился, огляделся и, спотыкаясь, опять пошел мочалить мокрые лапти о вылезшие из-под земли корневища, тыча перед собой суковатой орясиной.
Вот уже вторая неделя миновала, как вышел Кузёмка из-за рубежа и снова брел знакомыми местами. И чем ближе он подходил к Москве, тем осторожнее он становился, тем внимательнее оглядывался он по сторонам. Он и в Литве, как наказано ему было, держал ухо востро, ну, а здесь даже спать надо было одним только глазом. И, подходя к Вязёмам, Кузёмка свернул с широкой посольской дороги и пошел окольными тропами, бором, чтобы выйти к посаду уже с темнотой.
Дождь усиливался. Казалось, весь лес заходил ходуном; из стороны в сторону раскачивались дерева, словно жалуясь кому-то унылым шумом на свое беспредельное сиротство. Здесь могло померещиться всякое, но Кузёмка тыкался все вперед, пока не заметил наконец, что тропа куда-то сгинула и тычется он зря. Тогда он стащил с головы свой войлочный колпак и вытер им намокшую бороду.
– Скажи, пожалуй, – молвил было Кузёмка, но сразу осекся: в ответ ему в двух от него шагах затрещало в сухом сухостое, и черная тень метнулась ему под ноги.
Кузёмка вздрогнул и притаился под березой. Но лес шумел по-прежнему, вздымая вверх оголенные сучья. Кузёмка снова подался вперед и наткнулся на шалашик, сложенный из хвороста и березовых ветвей. В шалаше, видимо, не было никого. Кузёмка ткнул туда раз-другой орясиной и полез в отверстие на сухой лист и солому. Там он снял с себя тулуп и съежился под ним, чтобы отогреть продрогшее тело. И, как всякую ночь, стали мерещиться Кузёмке виденные им города и пройденные дороги – Рогачов на Друти и Днепре и разноголосый гомон торжков и монастырских слобод.
Кузёмка помял рукав тулупа: цело! И опять спросонок поплыл шляхами и реками, которые накатывались на него вместе с непрестанными шепотами бора, с хрустом сухостоя и заглушенными рыданиями, доносившимися издалека.
Но скоро все смолкло. Слышит Кузёмка только голос пана Заблоцкого, Феликса Акентьича:
«Тут, братику, на Литве, – земля вольная: в какой кто вере хочет, в той и живет».
«Эка вольная! – молвил Кузёмка сквозь сон. – В какой вере пан, в такой вере и хлоп».
Кузёмка знает, что спит, что теперь это только снится ему, а наклоняется к пану Феликсу и шепчет ему на ухо тихо-тихо, даже губами не шевеля:
«Бывал ты, пан, в Гоще? В Самборе бывал? Жив царь Димитрий Иванович? Дознаться мне надо. За тем и послан к тебе за рубеж».
Но пан, как вчера, как и три дня тому назад, отделывается скоморошинами:
«Ха! В Самборе, братику, горе, да в Гоще беда. Отписано все тут вот… Возьми».
И он суёт Кузёмке письмо, а с письмом два злотых на дорогу.
Кузёмка хотел и деньги зашить в рукав тулупа вместе с письмом, но кто-то тащит с Кузёмки тулуп, прямо с клочьями дерет из него шерсть, только бы отнять тулуп у Кузёмки. «Приставы!» – захолонуло у Кузёмки в груди, и, присев на соломе, он увидел перед собой два горящих глаза и ощетиненную морду, жующую его тулуп. Кузёмка мурызнул зверя орясиной по глазам. Волк взвыл и бросился прочь. Кузёмка помял рукав: цело. Тогда он поджал под себя ноги и, сидя так, стал бороться с дремотой и ждать рассвета.




