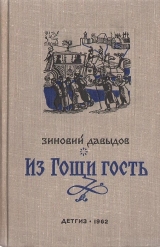
Текст книги "Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
XI. Плач Аксеньи
Боса в простоволоса сидела в этот день царевна Аксенья на кровати еще ранним утром, когда щебет птичий только стал доноситься в раскрытое за спущенными занавесями окошко. Она была бледна, синие тени легли у нее вокруг глаз, морщинка на переносице разрезала пополам сросшиеся, «союзные», брови. Царевна не сводила глаз с одной точки в углу, откуда радугой отблескивало ей что-то – зеркала грань или камень-самоцвет на одежине, брошенной на стул?
Комната, как и весь царя Димитрия дворец, была убрана на польский манер: по стенам картины, золоченые стулья вдоль стен, вызолоченный органчик в простенке. И кровать тоже золоченая, с зеркалами и коронами, с золотой бахромой на кистях по углам. Даже решетки железные в окнах – и те были золотом покрыты. «Золотая клетка», – подумалось Аксенье, когда с полгода тому назад огляделась она в этом покое.
Кто привел ее сюда? Как слепая, шла она за кем-то, кто, торопясь, проводил ее по лестничкам и переходам – вправо, влево, вверх, вниз… Это был, должно быть, сильный человек. Сабля его грохотала по ступеням, крепкой рукою и шагом быстрым уводил он Аксенью вперед…
– Не оступись, царевна, порожек тут.
Голос – как бархат. Знакомый. Чей?
– Аксенья Борисовна, порожек, говорю, не оступись.
И она вспомнила, Аксенья Борисовна Годунова, вспомнила и голос его и повадку. Да ведь это Басманов, Петр Федорыч! Петрак Басманов, батюшкин воевода, передавшийся на сторону самозванца. И она вспомнила заодно окровавленное в предсмертной судороге лицо отца, задушенную мать, удавленного брата. Тогда она села на ступеньку и заголосила было. Но Басманов поднял ее на руки и, замолкшую и притихшую, принес в этот покой. И дальше снова все, как во сне день за днем, – жизнь пленницы, пощаженной после истребления матери и брата, всех, кто был Аксенье близок и мил.
Царевна была больна. Доктор Димитрия, Себастьян Петриций, навестивший ее однажды, определил ее болезнь как «меланколию», происшедшую «от душевной кручины». Аксенье было безразлично все. Но только одного не могла она вынести: ей стало казаться, что по телу у нее бегают науки. Ей всюду чудились пауки, которым противиться не было сил. Она и по ночам просыпалась, вскакивала с постели и принималась трясти на себе сорочку, чтобы сбросить с себя пауков, которые ползли у нее по лицу, по спине, по ногам. Она знала, кто был причиной ее страшных бед. Вместе с Себастьяном Петрицием пришел он к ней, демон рыжий с синеватой бородавкой на носу подле правого глаза. Басманов называл его царем, Димитрием Ивановичем… Пусть так… Но пауки – их и сейчас полна кровать. Аксенья несколько раз просыпалась и этой ночью, чтобы смести их на пол, распугать, выгнать в открытое окошко. А они снова бегали у нее по телу, цепкие, липкие, неодолимые. Она села на кровати и ждала. Из-под стула в углу наползают они теперь. Надо улучить время, когда снова поползут, примериться и швырнуть в них подушкой.
В комнату вошел Басманов. Он был молод, чернобород и удал. И бесценная кривая сабля, жалованная царем Борисом, вся в бирюзе и алмазах, была сегодня лихо прицеплена не на боку, а на животе.
– Аксенья Борисовна, – молвил Басманов, взглянув на царевну, босые ноги которой белели поверх желтой шелковой простыни.
Но Аксенья, сидя понуро, все глядела в угол; она и ног не прикрыла и распоясанной сорочки на себе не собрала.
– Аксенья Борисовна, – повторил Басманов, – указал великий государь на Белое озеро тебе ехать. Сегодня ехать тебе повелел.
Аксенья вскинула глаза удивленно на сверкающую саблю Басманова, повела глазами вверх к широкой груди воеводы, к чернобородому его лицу…
– На Белое озеро, Петр Федорыч?
– На Белое озеро, царевна, в Горицкий монастырь. Доспело тебе время постричься в этой обители, принять иноческий чин.
– Как молвил ты, Петр Федорыч?.. Иноческий?.. А-а…
Аксенья рассмеялась. Она смеялась долго, тихо, звонко, словно бубенчики золотые раскатывала по этому царственному чертогу, обитому тисненой золотой кожей. И Басманов испуганно глянул на Аксенью, которая показалась ему непогребенным трупом, выглядевшим еще страшнее от неимоверной красоты царевны, от молочно-белой ее кожи, черных глаз, толстых трубчатых кос. А она все смеется?.. Или плачет?..
Аксенья подобрала ноги под сорочку, обхватила колени руками, закрыла глаза, из которых вдруг капнули слезы, и стала раскачиваться, причитая:
– Охте, спас милосердный! За что наше царство погибло?
Бог весть, что вспомнилось ей на этот раз, но Басманов вспомнил Бориса, царя всея Руси, королевича Иоганна, датского принца, Аксеньиного жениха, безвременною смертью погибшего в Москве, терем под серебряной кровлей, где зрела – для чего? – неописуемая Аксеньина краса. И, как бы в ответ своему запоздалому недоумению, услышал Басманов причитания Аксеньи:
– Ах, милые наши теремы, кто же теперь будет в вас сидети?.. Ох, милые наши переходы, кто ж теперь будет по вас ходити?..
– Аксенья, – молвил угрюмо Басманов, подойдя к кровати…
Но Аксенья не слыхала. Она сидела по-прежнему с закрытыми глазами, из которых по щекам ее натекала слеза на слезу, и раскачивалась в лад своим причитаниям.
– А хотят меня вороги постричи, чернеческий чин наложити…
– Ах ну, да ты не плачь же! – крикнул с досадою Басманов.
Но Аксенье не было до него дела, и причитала она не для него.
– Ох, постричися не хочу я! Мне чернеческого обета не сдержати. А и кто ж мне откроет темную келью?..
Басманов сжал кулаки, стиснул зубы, повернулся и вышел из комнаты. Он шел, сам не зная куда, через передний покой, застланный голубым сукном, и в ушах его звенел разраставшийся плач Аксеньи, пробудившейся наконец от оцепенения, в которое впала она со дня смерти царя Бориса:
– …чернеческого обета не сдержати… А и кто ж мне откроет темную келью?
XII. Подземный ход
Шаги Басманова, заглушенные сукном на полу, быстро замолкли в переднем покое, но никто не пришел воеводе на смену утешить царевну либо снарядить ее в далекий путь.
Было рано. Плотники едва-едва начали тюкать молотками и шабаршить рубанками, отстраивая половину для Мнишковны, для царской невесты, которая уже давно выехала из Самбора в Москву и теперь вступила с огромной своей свитой в пределы Московского государства.
Стук молотков становились все явственнее. Скоро и по кровле забарабанили они, сшивая листовое железо, покрытое полудой. Точно литаврщики в поле на ратной потехе, разыгрались рабочие по маковицам и карнизам Мнишковниной половины и прорвались стукотней своей сквозь вызолоченную решетку Аксеньиного чертога. Аксенья перестала причитать, вытерла слезы рукавом сорочки, прислушалась к стуку, который сливался вместе в дружные удары десятков молотков, чтобы затем рассыпаться врозь мелким, дробным горохом… И вдруг встрепенулась, соскочила с кровати, подбежала к резному шкафу; не глянула ни на псов гончих, вившихся по створкам, ни на ловчих птиц, распластавшихся по углам, а принялась сразу выбрасывать из шкафа развешанную там рухлядь. Набросала шубок, шапок, одежды всякой целую груду, но выбрала только тесьму, чем повязать сорочку на себе, да коричневый плат из траурных одежд, в которые облеклась после смерти отца. И, тихо ступая босыми ногами, вышла из комнаты своей в передний покой.
Здесь не было ни души. Пусто было и на лестнице, по которой стала спускаться Аксенья, босая, в красной сорочке, едва видневшейся из-под большого коричневого плата. И по переходам не было никого; только пахло свежей краской, да щепок и стружек попадалось все больше, и стук молотков становился все ближе.
Аксенья шла крадучись, подняв вверх голову, вглядываясь в круглые стекольчатые окошки под потолком. Но ей не достать бы было до окошек, да и репейками железными были забраны они… И, так идя, с головой, вытянутой то кверху, то вперед, она и не заметила, как ногу занозила и плат оборвала. Присела на полу, чтобы занозку вытащить, но тут услышала шаги, вскочила и бросилась обратно, но и там голоса. Тогда она юркнула под лестницу и зажалась в темном углу.
Мимо нее прошла полусотня наемных иноземцев, статных воинов в зеленых плащах, с серебряными алебардами, обтянутыми бархатом. И вел их высокий светлоусый, должно быть, веселый человек, улыбавшийся на ходу, напевавший себе что-то в светлый свой ус, потряхивавший серьгами, которые блестели у него в ушах. Но, поравнявшись с закутком, в который забилась Аксенья, светлоусый вдруг топнул ногой, гаркнул что-то нечеловечьим языком, и вся полусотня, поднявши кверху алебарды, выстроилась против Аксеньи, вдоль затертой глиною, не покрашенной еще стены.
Аксенья замерла под лестницей, застыла, скрючившись, сжав руками до боли свои босые ноги. Ей уже не видно было из своей норы ни лиц иноземцев, ни бархатных плащей их: только бесконечный ряд зеленых сапог с медными шпорами по закаблучьям да кожаные наколенники поверх суконных штанов. Но наискосок – длинный переход, и по переходу этому шел он, демон рыжий, тот, в чью честь подняли иноземцы кверху алебарды свои.
У Аксеньи закружилась голова, и показалось ей, что вихрем понеслись прямо на нее сотни, тысячи, тысячи тысяч ног в зеленых сапогах, затоптали ее каблуками, забодали шпорами, растерли, как жуковицу, и нет уже Аксеньи-царевны, малой птички, перепелки белой… Закрыты ее глаза, не видно ей рыжеволосого демона, не слышно его слов:
– Здрав будь, Феликс Викентьич!
– Быти здорову желаю вашему царскому величеству.
– Ждешь земляков, Феликс Викентьич?.. С паном Юрием Мнишком их идет тысячи с две. Попляши и ты на свадьбе моей.
– Радости желаю вашему царскому величеству.
Аксенья и не видела, как пошел прочь рыжеволосый, не слыхала, как брякнули иноземцы алебардами об пол и нога в ногу стали подниматься вверх по лестнице, под которой свернулась Аксенья, застыла, онемела, обмерла.
Она пришла в себя не скоро. И, когда провела рукою по лицу, словно паутину с него снимая, и открыла глаза, весь дворец был полон тревоги. По лестнице над Аксеньиной головой беспрерывно шаркали ноги; мимо Аксеньи, чуть не задевая ее подолами, каймами, сапогами, сновали люди, называли ее имя, шептали что-то в смятении и страхе.
– Ушла украдкою…
– Ночным временем…
– Ищите ее…
– Ахти нам!..
– Не сносить голов…
– Ищите…
– Милые, ищите…
– Далече ей не уйти…
– Где-нибудь тут…
– Ищите…
Аксенья еще тесней забилась в свой угол, вдавила себя в междустенье и прожалась насквозь в какой-то заклеток, где ноги ее нащупали лестницу, уводившую вниз. Ощупью, медленно, осторожно и бесшумно стала спускаться Аксенья по лестнице этой в сырость и мрак непросветный. Вот кончилась лестница, обвязала на себе Аксенья потуже плат, протянула вперед руки и пошла, должно быть, погребом каким-то либо ходом подземным, пошла босыми ногами по влажной земле, пошла прихрамывая, припадая на ногу, в которой сидела так и не вынутая занозка. Аксенья падала несколько раз, оступаясь по склизким бугоркам, обдирала себе руки на невидимых поворотах, терлась то одним плечом, то другим о покрытый плесенью кирпич. И капля, то одна, то другая, холодная и жирная, падала откуда-то на выбившиеся из-под плата волосы Аксеньи, на ее протянутые руки, на лицо ее, поднятое кверху. Она ни о чем не думала, ни о чем в эту минуту не жалела, не желала ничего. Только в одном стремлении, ни о чем дальше не размышляя, напряглась она вся, словно тугою тетивой. «Уйди… уйди… уйди-и-и!» – как бы гудела здесь тишина, и кровь в висках Аксеньи стучала ответно: «Уйду, уйду, уйду…»
– Уйду… – шептала Аксенья, уходя все дальше от лестницы, по которой спустилась в это подземелье. – Уйду, – твердила она, улавливая сквозь звон в ушах словно журчание воды. – Уйду, уйду… – не переставала она повторять, даже когда заметила, что черная темень стала голубеть, растворяясь все больше в невидимом источнике света.
Так дошла она до второй лестницы, по которой поднялась в четырехугольную башню, всю пронизанную белым днем, небом голубым, солнцем весенним, – они рвались сюда сверху в оконные проемы по всем четырем стенам.
Аксенья взошла в башню, отдышалась там немного и почувствовала сильную боль ниже правой лодыжки. Тогда она опустилась на пол и принялась искать занозину в босой своей ступне, покрытой грязью и кровью.
XIII. В башне
Колючий шип засел глубоко, и Аксенья, пока справилась с ним, провозилась немало. Она попыталась подуть на больное место, на ранку, из которой сочилась кровь, потом поплевала себе на пальцы и смазала ранку слюной. И уже после этого стала осматриваться в башне, где раньше того не бывала никогда. В Московском Кремле их было несколько, таких башен четырехугольных, не только по стенам, а и так, посреди дворов. Стоят одиноко на глухих затворах, поставлены неведомо кем, для чего.
Башня, в которую пришла Аксенья, была высока; железными брусьями были скреплены по ярусам ее беленые кирпичные стены; по косым подоконникам вверху были налеплены птичьи гнезда в великом числе. А ворота, обитые железом, стояли заперты изнутри на огромный засов, в который вколочен был, должно быть, дубовый колок. Аксенья подошла к воротам, приложила ухо к ржавому железу, но не услышала ничего. Только будто визг щенячий почудился ей на мгновение, но и тот сразу потонул в свиристении ласточек, которые носились по башне, влетая в одно окошко и вылетая другим.
Аксенья попробовала выбить колок из засова, но это можно было, видимо, сделать разве топором. Колок был величиною с полено и въелся в засов, точно сросся с ним. Аксенья попробовала еще и еще, но колок и не скрипнул ни разу.
Железная лестница приставная, склепанная из нетолстых прутьев, прислонилась боком к углу, и Аксенья ухватилась за нее, чтобы взобраться но ней к окошку. Лестница была тяжела, не по слабым силам, не по белым рукам царевны, хоть уже и сбитым теперь, хоть и поцарапанным, замаранным паутиной и грязью. Но Аксенья напряглась вся в неимоверном усилии, покатила лестницу вдоль стены и прислонила ее к высокому выступу над воротами. И, словно белка, быстро-быстро перебирая по перекладинкам босыми ногами, подобралась Аксенья к окошку и глянула сквозь него на милый свет, разостлавшийся перед нею пестро и раздольно.
Она увидела в узком окошке крутой берег, внизу река голубеет, еще многоводная об эту пору, на том берегу – зеленый луг, кудрявые сады, стрельцов зарецких платье цветное. И она так и сунулась в окошко вся, но ей и головы не протиснуть было в каменную щель. Тогда она спустилась вниз, собралась вновь с иссякавшими уже силами, перетащила лестницу к другому окошку над воротами, к третьему, но окна были все одинаково узки, одинаково непролазны, и одинаково синело в них небо, и красные струги тянулись вниз по залитой солнцем воде. И какие-то дикие голоса временами слышны были под самою башнею; возникнут, нарастая, потом начнут затихать и сникнут совсем. Должно быть, крещеные татары, догадалась Аксенья. Их всегда было в Кремле довольно – подле зверей, по конюшням, в кречатьих садках, где содержались ловчие – охотничьи – птицы.
У Аксеньи голова кружилась от пережитой тревоги, от усталости, от свежего ветра, бившего в тесную скважину, в которой зажата была Аксеныша голова. И вдруг потемнело у Аксеньи в глазах. Сама того не замечая, она вынула голову из оконницы, отняла руки от железных перекладин и скользнула вниз, к полетевшему ей навстречу каменному полу, к чему-то рванувшемуся к ней снизу с львиным рычанием. Немного не долетев до земли, она зацепилась платом своим за приклепанный к лестнице крюк и повисла на нем, сбив лестницу обратно в угол. Аксенья едва не задохлась на виселице своей. Лицо ее стало серее праха, налегшего здесь кругом, очи, вот выкатились бы из впадин глазных. Но плат лопнул подле самого крюка, и Аксенья свалилась на пол, ушибив себе только колено.
Холодный пот выступил у нее на лбу, в ушах звенело и пело на тысячу голосов. Она лежала на стылых камнях и, закрыв глаза, прислушивалась к этим голосам, как когда-то в тайном покое к дудкам органа, на котором внизу, в потешной палате, играл датский королевич, нареченный жених Аксеньи.
Но вот опять щенок заскулил, и будто от львиного рыка сотрясается башня… И снова тихо… тихо кругом… У ворот стоят люди… Не сюда ли они, не за Аксеньей?.. Нет, не войти им сюда. Изнутри заперта башня… железный засов… дубовый колок… Аксенья открыла глаза. В башне стало сумрачней. Солнце ушло куда-то, и вся башня стояла в тени. Свиристение птичье умолкло. Должно быть, и день уже никнет к концу. И Аксенья поползла к воротам и ухватилась снизу за дубовый в засове колок.
Слышно теперь – смолкло и за воротами, сплошь окованными железом. Люди, только что гомонившие у башни, видимо, ушли. И Аксенья принялась снизу раскачивать колок, наваливаясь на него грудью и откидываясь от него всем телом.
Стертые руки горели у Аксеньи огнем. И голова у нее пылала, как в горячке. Но Аксенья все раскачивалась вперед и назад, точно маятник в часах, будто осина под шалым ветром. И дрожала, как лист на осине, как тяжкой рукой задетая струна, напруженная до последнего предела. Ни холода, который проникал к ней сквозь изодранный плат, ни сырости, пронизывавшей ее сквозь висевшую клочьями сорочку, почти не замечала Аксенья, но она вскрикнула от радости, когда приметила, что поддался колок, сдвинулся с места, заходил взад-вперед, завертелся в засове, стиснутый посиневшими пальцами Аксеньи, зажатый в ее ладонях, на которых полопалась кожа. И Аксенья, поддев плечом, выбила его и вовсе прочь.
Она стояла изнемогшая, с повисшими бессильно руками, со слипшимися на лбу прядями волос, притихшая и счастливая. Черные глаза ее блестели из-под огромных ресниц; она улыбалась, слыша, как засов, отходя, визжит в ее руках, как сами собой со скрипом плывут в башню воротные створы. Аксенья так и подалась наружу всем своим существом… но сразу отпрянула прочь в ужасе смертном. Она отбежала к противоположной стене, замахала там руками, задергалась вся и тотчас бросилась вниз, в подземелье, которым пришла в эту башню, стала метаться там, путаясь на темных поворотах, расшибаясь по стенам и углам. И когда выбилась наконец из сил, то прислонилась в изнеможении к склизкой стенке, послушала в темноте, как собственное сердце рвется в груди, и пошла снова к башне. Она шла долго, протянув опять вперед руки, сама удивляясь, как далеко в обуявшем ее страхе отбежала от башни, и, идя так, уткнулась в лестницу, по которой стала подниматься вверх.
Молотки стучали, как и утром, по кровлям и карнизам: рабочие хлопотали на Мнишковниной половине от зари до зари. И Аксенья, выставив голову, увидела, что пришла она не в башню, а снова ко дворцу, в закуток под лестницей, где ухоронилась утром. Тогда она спустилась обратно вниз, опять протянула руки в темноту и пошла в другую сторону, роняя из глаз своих едкие слезы.
XIV. Смурые, рыжие, бурнастые
Аксенья на этот раз только до пояса поднялась в башню, глядя настороженно в открытые настежь ворота. И никакого, казалось, страха уже не было за воротами, в малом дворике подле кремлевской стены. Но Аксенья помнила этот дворик, куда приходили они с братцем Федором не раз. И потому-то и поползла она на четвереньках по каменному полу, доползла до порога и, дыхание затаив, заглянула через порог.
Да, это было то самое место: дворик, огороженный каменной стеной, с львиной ямой у башни. Широкая ямина эта была не так глубока и приступала к башне, ко всей передней стене, вплотную. Под самыми воротами, под башенным порогом, рукою как будто подать, рыскали огромные звери в косматых гривах, с подобными змеям хвостами, с глазами дремучими и ужасными, страшнее желтых клыков львиных, таивших в себе смерть. Все это свирепое племя, спускаемое на лето в открытую яму, все это – подарки от английской королевы Елисаветы, привозимые в Москву королевиными же послами что ни год. Вот и три года тому назад привез английский посол Фома Смит этого смурого, который разлегся внизу, щурился и зевал, потом поднялся на ноги, потянулся, изогнувшись хребтом, вспрянул на задние лапы, упершись передними в земляную отвесную стенку, и рыкнул чуть ли не под ухом у Аксеньи. Но до Аксеньи ему было не досягнуть. Зверь, видимо, и сам понимал это, а царевна, придя в себя от страшной неожиданности, столь поразившей ее сначала, теперь глядела прямо в глаза львиные, как в бывалые дни, с любопытством, от которого дух перехватывало. Но смурый, похлестан себя хвостом по бедрам, отпрянул в сторону и принялся вместе с другими ходить по ямине взад и вперед, изгибаясь туловищем, раззёвываясь пастью, сотрясая рыком башенные своды вверху. Так вот откуда шло это львиное рыкание! И визг, словно щенячий, он отсюда ж, от львят, что упрятались мордами львице под брюхо.
Аксенья вспомнила: был день, совсем, казалось, недавно, когда они сидели с братом и с царицей-матушкой и с боярыней приближенной на дворцовом крыльце и мимо них провезли этого смурого в железной клетке. А за клеткою вел татарчонок на красной веревке пятнистого быка с вызолоченными рогами, в зеленом бархатном ошейнике, с зобом, свисавшим до колен. И, когда поравнялся бык с царевной, погладил татарчонок медным прутом его по зобу, и бык с налитыми кровью глазами рухнул на колени перед Аксеньей.
Но что это?.. Идут?.. Сюда идут?.. Ключами бренчат, дворик отпирать будут?.. Аксенья вскочила, забежала за створу воротную, притаилась, стала слушать. Отпирают!.. Сейчас из скобы вынут замок… Увидят – раскрыта настежь башня, – что с Аксеньей тогда станет?! Но Аксенья сразу навалилась на створу, повела ее к порогу обратно и в другую вцепилась, свела обе вместе, раскачала, надавила, налегла и засовом пристукнула. А там они всё еще возятся с замком?.. За каменной стенкой?.. Нет, уже справились с замком они. Вот калитку открывают, входят вот… Но, ах, как страшно львиное рыкание! Все вместе, все сразу взревели там, в львином рву, смурые, рыжие, бурнастые. Кормят их теперь, к вечеру?.. В яму бросают кусок за куском, слышно Аксенье у створ воротных. Кормят. И вечер уж. День потускнел. И темно в башне. Темно и жутко. Поесть бы чего-нибудь и Аксенье за целый-то день!.. Чего-нибудь… Хоть калачика ни с чем, хоть ржаного хлеба уломочек!
В башне становилось все темнее. Порхнула летучая мышь, и Аксенья шарахнулась от нее, о хлебе вовсе забыв. Притихли львы в яме. Люди ушли. Вызвездилось за окнами небо. И к вечерней службе оттрезвонили на колокольнях московских. Верно, последнюю молитву – «на сон грядущий» – читают теперь по церквам попы. На Фроловской башне часы бьют. Один удар… два… Но Аксенья не стала считать, думая о другом, прислушавшись к другому – к флейтам и трубам, которые где-то совсем близко всколыхнули тишину сгустившейся ночи. Играют жолнерики [89]89
Польские солдаты.
[Закрыть]в серебряные трубы свои польские песни, тешат царя и приспешных его – Басманова, Хворостинина, Масальского-Рубца. Как же теперь ей, Аксенье?.. «Доспело тебе время принять иноческий чин…» Так сказал он, лихой воевода, Петрак Басманов, царем Борисом жалованный дворянин думный? Но не хочет царевна в монастырь, в заточение навек, ничего не хочет. Уйти, только б уйти!
«Уйду», – опять заколотило ее, как утром. «Уйду», – стала повторять она, сидя подле кирпичной стены, прижимаясь к ней с такой силой, точно хотела плечами своими сокрушить эту каменную твердыню. Но тут по ногам Аксеньп проползло что-то. И прежнее отвращение охватило ее. Она дернула ногами, стала хлестать по ним бахромою плата, стала вытряхивать на себе сорочку… Уйти, уйти от всего, от пауков, липких и мерзких, от своего плена в золотой клетке, от медленной неволи в монастыре по смерть, по гроб. Лучше теперь… Не даться им… Никому… Пусть исчахнет она здесь, пусть голодною смертью изойдет она!.. Или лучше уж сразу, в львиный ров головой? Пусть сразу! Так – скорей!
Аксенья отперла ворота и распахнула их широко. Запахом трав луговых полыхнуло с заречья вместе с кислым духом из львиного рва, где вповалку, ворча и захлебываясь, спали звери. Не отличить там было теперь в темноте, в одной куче, кто смурый, кто рыжий… И львяток-сосунков не видно совсем…
Довольно бы было и ветерку чуть дунуть, чтобы Аксенья, наклонившаяся над ямой, грохнулась вниз, в кучу львиных тел, грив косматых, хвостов змеиных. Но не ветерок это дунул, – опять жолнерики в трубы заиграли тихим ладом, мерным строем… И не захотела Аксенья смерти ни в яме, ни в башне. Уйти отсюда, только бы уйти куда очи глядят, все равно куда.
Но широка яма. Перепрыгнуть разве оленю под силу, не человеку. И Аксенья стала искать в башне, пустой и темной, доску, бревнышко, – что-нибудь бы перекинуть через ров непроступимый! Но ничего не нашла, только на железную лестницу в углу наткнулась. Тогда она ухватилась за лестницу, оттащила ее к порогу и двинула вперед над кучей, разворчавшейся внизу.
Лестница была тяжела. Последние силы напрягала Аксенья, чтобы не дать ей сорваться вниз. Ох, и поднялось бы тут! Смурые, рыжие, бурнастые взбежали бы по лестнице наверх, по кусочкам разнесли бы Аксенью, ее белое тело, ее баснословные косы. И то – вот уж расскакались они в яме, когда Аксенья лестницей своей сорвала прогнивший подворотный порожек и тот стукнулся в яму, взбудив всю одичалую кучу. Но тут легче стало Аксенье и не страшно. Она притворила ворота, заперла их на засов и уже под воротами, там, где сорван был порожек, смогла продвинуть лестницу дальше. И почуяла, что не идет больше лестница, уперлась в земляную стенку ямы, застучала по яме выковырянной из стенки землей, раздразнила и пуще рвавшуюся из ямы стаю. Но еще… еще… в последний раз, последнюю силу, сколько мочи есть навалиться… ох!.. И лестница шарпнула по стенке, поднялась чуть повыше ямы, выдвинулась вперед еще на вершок, на другой и вот опустилась по ту сторону обиталища львиного. Но Аксенья осталась лежать в башне, всем телом к лестнице приникнув, охватив ее руками, грудью вдавившись в железные прутья перекладин.
Аксенья шаталась, когда встала наконец на ноги, краем плата вытерла рот, залитый чем-то липким и теплым, засов сдвинула и ворота открыла. И поползла… По перекладинам, резавшим ей колени, по прутьям железным, под которыми ревели, бросались к ней, скалились на нее разъяренные львы. С перекладины на перекладину, с одной на другую… Сколько их!.. Нет им числа… конца нет… И лестница гнется, клокочет под Аксеньей ад, хуже ада, страшнее пекла… Но, перебирая руками, прут за прутом, прут за прутом, нащупала Аксенья землю, траву, мокрую от павшей росы, обрывки тряпок, веревок, метлу, брошенную подле, заступ, прислоненный к стене. Тогда Аксенья поднялась с земли, выпрямилась, повернулась в ту сторону, откуда запел петух голосисто, и стала ждать.
Она стояла и слушала с опущенными руками, с головою чуть пониклой. Вот петух пропел в последний раз… В львиной яме замолкали звери… Аксенья подняла голову, и ей показалось, что низко-низко, ниже жестяного флюгера на башне, взад-вперед раскачиваются звезды, свесившиеся с ночного неба на длинных, тонких серебряных нитях. Аксенья так изнемогла, что и не удивилась; только присела на мокрую траву и стала снова ждать, пока шум не прошел в ушах и голова не перестала кружиться.




