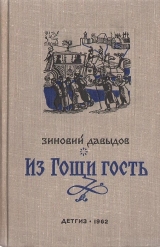
Текст книги "Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
XXIV. Гости
Они неслись через двор с ревом и гиком; из поварни выскочила на крыльцо распатланная стряпейка; князь Иван с перевязанной головой высунулся за окошко. Дворники добежали до ворот, вышибли колок из калитки и, давя друг друга, вытиснулись на улицу. А там с перепугу показалось им целое войско с пищалями, с копьями, с дымными факелами, притороченными к седлам. И у самых ворот вьются на горячих конях двое вокруг третьего – безбородого человека в малиновом опашне, в лисьей шапке, из-под которой выбились по бокам рыжеватые букли. Пропихнувшиеся на улицу, с Кузёмкою во главе, дворники сразу секиры опустили, ведра разроняли, разинули рты и словно и вовсе окаменели от такого дива. Но те двое у ворот на конях горячих наехали вдруг на дворников, чуть конями их не потоптали, стали кричать осердясь:
– Открывай ворота государю-царю!.. Гей, мужичьё, поворачивайся!..
Дворники, услыхав такое, на колени попадали и так, на коленях, убрались обратно на двор в калитку. Там только они вспрянули на ноги резво и кинулись подальше от див таких – к себе на задворки. Один Кузёмка стал хлопотать у ворот: столб вынул, створы распахнул, подворотню выставил. И въехало войско на хворостининский двор, с коней слезли ратники, огни свои притушили, взялись дичину потрошить, – видно, с охоты возвращались они вместе с царем.
На крыльцо вышел князь Иван и, держась за перила, стал спускаться по лестнице – необычайного гостя встречать. Но гость этот в лисьей шапке уже сам прыгал вверх через ступеньку, князя Ивана за руки схватил, вскричал звонко:
– Да что ты, Иван Андреевич!.. Лица на тебе нет, а ты по лестнице пялишься.
– Встретить тебя, государь, иду; поклониться, за честь спасибо тебе молвить.
– Не надо, не надо, – замахал руками гость. – Ступай себе с богом в хоромы. Пойдем, я помогу тебе.
Димитрий обхватил князя Ивана по поясу и вместе с ним поднялся наверх, сенями прошел и в столовую палату вышел. И вслед за ними туда же вошли Масальский-Рубец и Петр Федорович Басманов.
– Вот-ста я и у тебя, Иван Андреевич, – молвил Димитрий, усадив князя Ивана на лавку и оглядываясь вокруг. – Не бывал никогда у крайчего моего. Живешь небогато…
– По достаткам и житьё, государь, – улыбнулся князь Иван. – Не с чего мне в золото хоромы наряжать. А я и не плачусь тебе.
– Добро, – тряхнул кудрями Димитрий, расхаживая по палате, куда Матренка успела притащить все подсвечники, сколько было их в доме. И множество свечей пылало по всему покою, на столах, на подоконниках, по стенам, в небольшом железном паникадиле, свесившемся с потолка.
– Добро, – повторил Димитрий, вскидывая то на князя Ивана свои водянисто-голубые глаза, то на Басманова с Рубцом, присевших на другую лавку, рядом с зеленой муравленной печкой. – Будет у нас, Иван Андреевич, еще дело впереди. А теперь поведай мне о беде своей. Шуйский Василий Иванович приезжал нынче в Думу. От Шуйского по всей Думе и пошло: с Хворостининым-Старковским беда. Скажи, как это стряслось с тобою?
– Лиха такого, государь, я чаю, на Москве никогда не изжить, – ответил князь Иван. – Спокон веку здесь так… Вот достало и мне. От Шуйского ж ворочались мы вчера с мужиком стремянным вдвоем: устроил он, Василий Иванович, пир, так вот уж после пира ворочались… Выскочило двое на нас с каменьем, с пистолями, с кистенями, стали мы с ними биться… Ну вот, государь, добро – по собольему околышу кистень пришелся…
Димитрий остановился как раз против князя Ивана, стал ногти кусать, топнул ногой, обутой в красный бархатный сапог.
– Завтрашний день позову к себе земских да сам их за бороды оттаскаю. Не слыхал бы я напредь про то на Москве.
– Для чего ж, государь, за бороды земских? – молвил князь Иван. – Чай, я слово твое государево свято.
Димитрий повернулся на каблуках, сдернул с себя опашень и остался в алом кафтане, расшитом орликами двуглавыми. Он швырнул свой опашень на лавку и вновь заходил по палате.
– Не так! – крикнул он, сжав кулаки. – Вижу я ныне, что не всех надобно словом, да любовью, да волею: надобно и неволею и жестокостью.
Увидя себя в зеркале, он остановился и стал поправлять на висках свои кудри, совсем ржавые при свете свеч. Потом улыбнулся – от сердца, видно, у него отлегло – и сразу же заговорил совсем о другом.
– Ты женат, Иван Андреевич? – обернулся он к князю Ивану. – Эва!.. До сих пор мне неведомо: есть у тебя в доме хозяйка?..
Князь Иван смутился, задвигался на помятом полавочнике.
– Нет… – стал он мямлить. – Не женат еще… Не сошлось мне еще так…
– Вот ты каков! – обрадовался почему-то Димитрий. – Не сошлось еще… Ну, так я тебя и женю! – воскликнул Димитрий. – Неделя-другая сойдет – полна будет Москва невиданной красоты. Воеводенки, старостенки лучших кровей… Цвет Речи Посполитой… Василия Михайловича спроси: он ездил к рубежу государыню-царицу привечать.
Басманов и Василий Михайлович Масальский-Рубец, улыбаясь, глядели то на царя, который стал расхаживать по комнате, то на совсем смутившегося князя Ивана. А Матренка тем временем успела убрать стол кувшинами и чарками, тарелками и мисками – всею дорогою утварью, какая только нашлась в хворостининском доме. И, когда покончила она со всем этим, князь Иван поднялся с лавки, подошел к Димитрию и поклонился ему низко:
– Пожалуй меня, государь. Отведай хлеба-соли. Не обессудь.
И Васманову поклонился князь Иван и Масальскому-Рубцу:
– Петр Федорович, Василий Михайлович, пожалуйте меня и вы. Пожалуйте, гости дорогие.
Вопреки обычаю стародавнему, гости не дали упрашивать себя долго. Они сразу сели за стол, и Матренка принялась служить Басманову и Рубцу, а государю – сам князь Иван.
XXV. Город парижский, король Генрик Четвертый
Большой костер зажгли ратники посреди хворостининского двора. С обеда рыскали они то полем, то лесом вслед за царем и теперь расселись вокруг разгоревшихся дров, разостлав на земле свои суконные епанчи. Кузёмка, как приказал князь Иван, обносил их всех пивом, а сами ратные, нанизав кусочки дичины на шпаги, жарили мясо на приветливо урчавшем огне. Тихо, вполголоса, переговаривались они у костра, и так же тихо разглядывали нарядную станицу иноземцев дворники, толпившиеся неподалеку, одолевшие свой первоначальный испуг. И по тыну хворостининскому нависли головы любопытных в ряд, ильинский поп там уши свои под скуфьею развесил; и челядь попова тоже глазами на тыну расхлопалась; даже старый дьяк, усадьба которого была расположена через улицу напротив, и тот, сидя верхом на своем работнике, перекинул через тын белую свою бороду, длинную, как кобылий хвост.
В поварне Антонидка, убравши волосы под кику [109]109
Кика – головной убор, который носили женщины после замужества.
[Закрыть], лучину зажгла, растопила наскоро печь, стала хватать ухватом с пода то одно, то другое и слала Матренке наверх одно кушанье за другим. Хорошо, что умолкла безвестная девка в углу; накричалась она за день целый, а теперь заснула под Антонидкиным тулупом.
Ночная птица бубнила где-то близко на пустыре. Сладостное благоухание источал каждый листок. Ароматы полевые плыли в раскрытые окна столового покоя, нагретого пламенем множества свеч. Димитрий расстегнул на себе и кафтан, из-под которого выглянула саженная розовым жемчугом рубашка. Царь пригубил вина из чарки да мяса отведал; и молвил князю Ивану, на лавку его посадив рядом с собой:
– Иван Андреевич! В крайчих ходить – невелика задача… Авось я один управлюсь с чаркой и тарелкой… У тебя управлюсь, управлюсь и у себя в Верху. А коли понадобится, то меня и боярин бородатый разует либо питье на пиру подаст… Мстиславский либо Шуйский… Только на то и гожи пузатые – есть да пить… Авось не сплошают и мне поднести. Так… Ну, это присказка, а дело слушай. Иван Андреевич!.. Ты учен, умеешь по-латыни, как говорится – знаешь, где рак зимовал. Знаешь, я думаю, Францию, город Парижский знаешь, есть о том в книгах. В прежнее время почитай что и вовсе не бывало у нас сношения с королями французских земель, а земли, сам ведаешь, истинно райские, первых статей.
Димитрий встал, шагнул через лавку и заходил по палате из угла в угол. Он остановился у раскрытого окошка, поглядел, как играет огонь на доспехах копейщиков вокруг костра, и полной грудью вдохнул в себя струю весеннего воздуха. Вернувшись к столу, он перекинул только одну ногу через лавку и, усевшись так, снова заговорил:
– Генрик Четвертый, король французский… О нем уже и песни поют не в Париже одном – по целому свету…
И Димитрий попробовал напеть из песенки, слышанной в Самборе у воеводы Мнишка:
Генрик Четвертый, ему хвала и честь…
Но песенка, как мотылек, порхала около, точно не даваясь Димитрию в руки.
– Как это?.. Не вспомнить мне…
Димитрий закрыл глаза, даже ладонью затенил их от зажженного на столе подсвечника, и попробовал еще раз:
И с девой молодой…
Драгоценный камень, как кровавая капля в золотой раковинке, блеснул у Димитрия на пальце, и тут же рядом, на другом пальце, притаилось тусклое колечко, выточенное из лосиного копыта. Димитрий не снимал кольца этого много лет, веря, что оно поможет ему в падучей болезни, как натвердил ему волхв, встреченный однажды на Ваге в лесу.
– Вот никогда не видывал Генрика короля, – молвил Димитрий, потерши себе переносицу точеным колечком, – а пуще брата родного Генрик мне люб. Ну, да уж и повидаю… Дайте сроку, милые… Я чаю, не год туда идти кораблю. А ты, Иван Андреевич, будешь послом от меня. Летом этим снарядишься в дорогу, известишь Генрика, что и сам к нему быть хочу, послами б нам обменяться, как пригоже, торг деять обоюдный, вместе султана воевать… Там уж по наказу, будет тебе прописано в наказе все подробно… Как, Иван Андреевич? Чай, во сне не снилося тебе Парижский город видеть?
– То так, государь, – ответил раздумчиво князь Иван, поникши головою, белым платком перевязанною. – То верно, не снилось… Твоя воля. А не молод ли я для дела такого – посольство такое править перед очами славнейшего короля?
– А я не молод? – крикнул Димитрий и широко руки развел.
Красное пятно повыше правой кисти царя мелькнуло на миг князю Ивану из-под вздернувшегося зарукавья. «Родимое», – подумал князь Иван; но Димитрий свел руки, упершись ими в ковер на лавке, и пятно пропало под надвинувшимся рукавом.
– Не постарше буду и я, – продолжал Димитрий. – «Молод»! Не один ты поедешь. Великий секретарь мой Афанасий Иванович Власьев с тобою в посольстве будет. Ему, сам знаешь, дела такие за обычай. А постарше тебя, то так – у меня довольно сенаторов: Голицыны, Шуйские – дураки, пьяницы… Да и, кроме русской речи, не умеют они никакой. А ты вон-де и по Квинтилиану начитан, на многоразличные науки простираешься. Много ль на Москве таких?..
– То так, государь, – поднялся с места и поклонился Димитрию князь Иван. – Твоя воля… А я по разуму моему порадею тебе и твоему царству, сколько хватит мочи моей. То так: не Шуйского слать к королевскому величеству… Дозволь мне теперь, прошу тебя, выпей вина… И Петра Федоровича прошу и Василия Михайловича здоровье царского величества пить.
Все встали; остался сидеть один Димитрий.
– Будь здрав до веку, великий государь, – поклонился Димитрию князь Иван.
– Будь здрав, будь здрав, – подхватили Басманов и Рубец. – На многая лета… Здрав будь…
– Пейте, пейте, любезные мои, – закивал им Димитрий головою и тоже хлебнул из своей чарки. – Всем нам скоро идти в далекую путину: тебе, Иван Андреевич, посольство править, нам с Петром Федоровичем и Василием Михайловичем войну воевать.
Димитрий встал, застегнул на себе кафтан, саблю на боку поправил.
– А теперь хватит. Ложись, Иван Андреевич, в постель: чай, хворый ты еще.
И он стал искать глазами опашень, брошенный в угол на лавку.
Князь Иван подал Димитрию опашень, украшенный жемчужными кистями, расшитый золотыми разводами.
– Еще, государь, – молвил князь Иван, расправляя на Димитрии опашень, – дозволь мне… Был я вчера у Василия Шуйского на пиру… Наслушался затейных речей… Думаю, не заворовал ли Шуйский внове… Остерегаться надобно Шуйского, государь…
Димитрий отступил назад, глаза раскрыл широко, уставился ими в князя Ивана.
– Мне… остерегаться… Шуйского?.. – произнес он медленно. – Ха-ха-ха!.. Да что ты, Иван Андреевич!..
И, откинув голову, он крикнул громко, так, что слова его, может быть, услышаны были ратниками на дворе и всеми толпившимися на улице в этот поздний час:
– Я есмь на государствах прародителей моих великий государь и цесарь непобедимый. А шубника, коли понадобится, повелю выстегать плетьми! И у батюшки моего равные Шуйскому служили в холопах. То так!.. А теперь довольно, довольно, Иван Андреевич… Ступай, в постель ляг… Не провожай меня за ворота… Ложись…
Но князь Иван с примолвками и поклонами вышел за гостями на крыльцо.
– Гей, ратные, на конь! – крикнул Басманов с лестницы вниз.
И вдруг, словно в ответ ему, раздался со стороны поварни пронзительный вопль, как будто закричал человек, на которого обрушилась скала.
– Что это? – вздрогнул Димитрий и схватил Басманова за рукав.
– Ратные, не шали! – крикнул опять Басманов. – Труби на конь, трубач!
Запела труби переливами частыми, забряцали ратники доспехами, заржали кони, не слышно стало вопля из темноты, откуда несло дымом залитого водою костра.
– Кого это они?.. – спросил Димитрий, но, не получив ответа, сбежал по лестнице вниз, увидел там у крыльца своего огромного карабаира, подобного туче, и сразу вскочил в седло.
Трубил трубач, бубенщик бил в малый бубен, растянулась станица по Чертольской улице в темноте. И, когда ворота закрылись за последним ратником и шум похода умолк вдали, услыхал князь Иван, не уходивший с крыльца, тот же вопль и стоны и быструю-быструю речь.
– Кузьма! – крикнул князь Иван Кузёмке, лившему в шипящее угодье один ушат воды за другим.
– Я, Иван Андреевич, – откликнулся Кузёмка из темноты.
– Какое стенание страшное!.. Откуда шум этот?..
– Девка тут лежит в поварне хворая. Помирает али бес ее томит?.. Надобно ее шептанием взять, да вишь день нынче какой… Я ужо завтра, Иван Андреевич, сбегаю за Арефой-колдуном.
– Сбегай, сбегай, – молвил князь Иван, не думая ужо, впрочем, ни о хворой девке, ни о колдуне Арефе. – Сбегай, – повторил он, не слыша и собственного своего голоса. – Город Парижский, – сказал он самому себе, пробираясь в свой покой полутемными сенями. – Король Генрик Четвертый… Надо пана Феликса расспросить… Он будто и тому королю служил.
От слабости спотыкаясь, добрел князь Иван до лавки своей и стал снимать сапоги кое-как.
Затихало на дворе после царского наезда. Птица, не перестававшая весь вечер бубнить, вдруг пресеклась и смолкла. Одна девка безвестная все еще не угомонилась под тулупом, и возле нее хлопотала сбившаяся с ног стряпея.
XXVI. Безвестная девка приходит в себя
Арефа пришел на другой день, увешанный, как всегда, волшебными камушками, чудотворными стрелками, медвежьими зубами. Наколдованные «снаряды» были и в сумке у Арефы, ибо мужик этот считался великим чародеем, умел якобы гадать на бобах, оберегать росным ладаном женихов и невест от лихого глаза и говорить стихами, отчего могла, по его уверению, приключиться у того либо у другого человека сердечная скорбь.
Колдун, вороживший еще старому князю про болезнь либо поход, рассказывал, будто вышел он, Арефа, по прозвищу Тряси-Солома, из Дикой Лопи – страны лютых волхвов – в незапамятные времена. И что лет ему, Арефе, от роду триста четыре года. Но, приведенный однажды к пытке, Арефа сознался, что родом он из Шуи, посадский человек, по ремеслу коновал. В наказание за его проделки Арефу били тогда, распластав на полу, а потом потащили на площадь, положили там на плаху и на брюхе сожгли найденную у него в кисе будто бы наколдованную книжечку, всю исписанную польскими буквами.
Арефа уполз тогда с площади на карачках, виясь, как змей. Измятый и обожженный, он отлежался в старой мельнице на Яузе, брошенной с давних пор. Но скоро Арефа опять стал ходить по Москве, козлиной бородою трясти и морочить легковерных людей, которые охотно обращались к нему, потому что, по общему убеждению, никто не мог лучше Арефы узнать в животе болезнь, отчего она приключилась; никому не дано было так на солнце смотреть и угадывать по солнцу, кому что будет; никто не знал стихов таких, которыми говаривал Арефа, и от них якобы бывало добро. И теперь Антонидка, чуть заря занялась, пристала к Кузёмке бежать за Арефой, хоть к утру и без того стало легче девке, – может, не надо было Арефу вовсе кликать?
Колдун пришел и за осьмину гороху взялся шептать над девкой и ворожить, чтоб была здорова, когда, как заявил он, после трех падших рос уйдут в землю три отпадшие силы, мучившие девку по жиле становой, по хребту-стояну, по кольчатым ребрам. И еще выговорила стряпея, дав надбавки немного, чтобы поворожил колдун про дальню сторону, про чернеца Григория и царскую опалу.
Арефа, войдя в дверь, добыл уголек из печки и стал показывать свое искусство. Он раздул об уголек пук соломы и окурил девку, крепко спавшую в углу на лавке. Потом набрал у себя в кисе корешков каких-то…
– К чему вы, корни, гожи, к тому будьте и гожи, – сказал он и стал совать корешки девке под нос.
Девка заворочалась, забормотала, и тогда Арефа заговорил над нею стихами. Из горла его покатились смутные слова: про горючий камень, про костяной хребет, медвежью оторопь. Слова эти до смерти напугали Антонидку, которая уж и не рада была, что связалась с Арефой.
– Сухо дерево, завтра пятница, тьфу-тьфу-тьфу, – стала отплевываться она, не выдержав Арефиных стихов и лютого его чародейства.
Но Арефа кончил. Девка спала, укрытая тулупом, бормоча временами во сне, фыркая от дыма, напущенного Арефой на всю поварню. Тогда Арефа спросил водицы и стал ворожить про чернеца, и про чужбину, и про опалу. Вместе с Антонидкою склонился колдун над бадейкой, и, в то время как стряпея не видела в бадье ничего, кроме прозрачной воды, Арефа будто бы разглядел там дороги и гати, струги на воде, корабельные пристани у берегов и в чистом поле зеленый дуб.
– В чистом поле, во широком раздолье, – заговорил Арефа, – стоит дуб зеленый. Он от ветра не шатнется, от грозы не ворохнется, с места не подается.
Антонидка склонилась еще ниже, и вдруг показалось ей, что видит она – черное что-то чернеет в посудине на дне. Но Арефе – на то он и почитался колдуном – было будто бы лучше видно; он дунул на воду и заговорил опять:
– Ехал полем черный человек, лико смутно, сердце черно. Доехал до дуба, тут ему любо, стал – стоит, от ветра не шатнется, с грозы не ворохнется, с места не подается.
Арефа подошел к печке, нагреб там горсть золы и швырнул в бадейку.
– Шла полем баба худа, – продолжал он, вглядываясь в замутненную воду, – желты печенки, зелена руда, руки – что плети, в ладонях огонь, дошла до дуба, тут ей любо, стала – стоит, дунет-подунет, в ладони фырчит: «Я баба Опала, к тебе мне и надо».
Антонидка побелела от испуга, стала опять шептать «сухо дерево», но Арефа не ведал страха.
– В чистом поле, во широком раздолье – черный человек, – повысил он голос: – стоит не шатнется, не ворохнется, искру не топчет, губою не шопчет… А я, раб божий, в его место, проговорю честно: «Чего пристала, баба Опала, к ретивому сердцу, к голосной гортани?.. Ступай себе дале по сырой земле на холодной заре на мхи, на болоты, на топкие ржавцы, где ветры веют, где солнце не греет. И я бы, черный человек, имел лико светло, сердце легко от людей и от зверей, от государевых очей, от бояр и воевод, от приказничьих затей и отг духовных властей». Аминь!
Стряпейка сидела ни жива, ни мертва. Арефа кончил заговор, встал, прихватил свой горох и пошел двором, жуя печеную луковицу. На лавке под тулупом проснулась хворая девка, попробовала сесть, но опять упала на подушку.
– Ой, – простонала она и глаза закрыла. – Где ж это я, милые? Куда замчали меня, сироту?
– Девонька! – встрепенулась Антонидка и подбежала к лавке. – В память пришла! Ох, Арефушко, благодетель! То Арефий Аксеныч беса из тебя выкурил!
Девка открыла глаза широко:
– Беса?.. Я чай, бесновата не была николи.
– Ой, девонька, была! – всплеснула руками Антонидка. – Была, была, что ты! Вопила ты и в день, вопила и в ночь, козою блекотала, филином гигикала, кошкою мяукала. Ну, да не о том теперь. Чья ты, девонька?.. Мне и неведомо, как тебя звать.
– Звать?.. – еле откликнулась та. – Аксеньей звать.
– А чья же ты, Аксеньюшка? – продолжала допытываться Антонидка. – Род-племя твое, где? С какой ты стороны?
– Не помню, – прошептала девка и повернулась к стене.
– Ой, ой, – стала сокрушаться Антонидка, – как испортили девку! С памяти сбили, не упомнит ничего. Куды ж теперь с тобой, Аксеньюшка-сирота? Ну, полежи, полежи, отлежись, авось сыщется твой род-племя либо сама в память сполна придешь…
Девка не отвечала. «Спит», – подумала Антонидка, не замечая дрожи, которая охватила Аксенью по плечам, не видя и слез, омочивших девке все лицо.
– Уснула, – молвила Антонидка чуть слышно и пошла в сени, стараясь не шарпать босыми пятками по глиняному полу.




