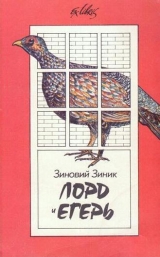
Текст книги "Лорд и егерь"
Автор книги: Зиновий Зиник
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
«Не знаю, не читал», – сказал доктор Генони.
Феликс вел себя с напускной иронией. Он старался всеми силами держаться заданного доктором Генони шутливо-иронического тона разговора, однако с каждой фразой это давалось ему все труднее и труднее. Доктор Генони отвел взгляд, как будто решив, что Феликс не относится ко всему сказанному с полной серьезностью. Трудно было сказать, откуда у доктора Генони подобная склонность к эксцентрическому позерству: был ли он в действительности профессором не от мира сего или же вынужден был проговаривать все то, что сам считал чушью, по не зависящим от него обстоятельствам.
«Богохульствующие евреи или плюющиеся верблюды меня как таковые ни интересуют. Впрочем, евреи и верблюды, животный мир в целом, имеет прямое отношение к нашему разговору, но…»
«Но я говорю не о Мальтийском ордене крестоносцев и не о евреях, а о Мальтийском ордене егерей. Как и в Палестине, на Мальте практически нет дичи. Леса бедны, климат жаркий. В кустарниках сплошные экзотические птички. Канарейки, попугаи, птица киви – я, впрочем, в птичьей породе разбираюсь плохо. Но люди жаждут крови. Это в их природе – убивать. Когда нет кабанов, стреляют диких гусей. Когда нет гусей, начинают убивать соседей, а затем и друг друга. На Мальте, как и в Палестине, та же проблема: в кого стрелять? То есть в Палестине спасает положение еврейско-палестинский конфликт. А что прикажете делать мальтийцу? Они убивают экзотических птиц. Канареек всяких, попугаев, птицу киви. Редкостные пернатые и вообще фауна на грани полного исчезновения. Лорд Эдвард создал Мальтийский орден егерей. Поместье лорда Эдварда поставляет на Мальту и другие страны с подобной же проблемой (Израиль, скажем, или Гибралтар) десятки, сотни фазанов – в поместье лорда Эдварда всегда излишек фазанов. Для удовлетворения кровожадных инстинктов местного населения и сохранения редкостных пернатых. А тамошние островитяне-егеря присылают нам взамен мальтийских гончих. И отличнейшие на Мальте, должен вам сказать, гончие. Наша деятельность нейтрализует пресловутую международную конвенцию егерей с центром в Восточной Германии. Там, где, знаете ли, верят в душу и тому подобные предрассудки. Сам лорд Эдвард в неожиданной – как всегда – отлучке, так что переговоры с этими егерями приходится вести мне. Не знаете ли случайно, чем отличается рябчик от перепелки?»
Феликс пожал плечами.
«Насчет вашего переезда в Лондон», – без подсказки затронул вопрос доктор Генони. «Проглядите вот этот вот пакет с въездными бумагами. Это для Хоум-офиса, нашего МВД, а не для чиновников паспортного контроля: лишнее слово – и вас заподозрят в том, что вы не просто турист, а собираетесь остаться в Англии, отнять работу у наших безработных туземцев. А тогда – прости-прощай въездная виза».
«А каковы, кстати говоря, будут мои обязанности в должности секретаря лорда Эдварда?»
«Да никаких, собственно, обязанностей. Все секретарские обязанности выполняю я. Насколько мне известно, он заинтересован в вас как в переводчике».
«Но я не переводчик. Я – театровед».
Лорд Эдвард, как выяснилось, и имел в виду нечто «театрально-переводческое». Вроде «маленьких трагедий» Пушкина. Они не существуют по-английски. Например, «Праздник в ходе эпидемии». Доктор Генони явно имел в виду «Пир во время чумы», но Феликс решил не придираться к словам. Кроме того, ему обещали обеспечить в помощь переводчика-англичанина. Точнее, переводчицу, и не англичанку, а, как можно догадаться по фамилии – Вильсон, шотландку чистейших кровей – предупредил доктор Генони.
На обратном пути, уже на железнодорожной станции по дороге в Милан, роясь машинально в карманах пиджака, он обнаружил горсть лесных орехов. Аккуратный и подтянутый в почти военной округленности, итальянский фундук сиял скорлупой, как начищенные пуговицы железнодорожников. Орехи гляделись как само воплощение итальянской внешней безукоризненности. Именно этим они, видимо, и провоцировали. Феликс зачерпнул целую горсть этих орехов из корзины, стоявшей у дверей в апартаментах доктора Генони, – подношение лесников и егерей Мальтийского ордена, что ли? Их уникальную цельность, их безукоризненную красоту, которая спасет мир, хотелось разрушить. Их, короче, хотелось расколоть. Он попробовал пару из них на зуб – но не тут-то было. В детстве, когда не было щипцов, кололи орехи, зажав в щель у дверных петель между дверью и дверной рамой. Все двери станционного буфета были на удивление открыты, на крючках и щеколдах, вопреки склонности этой нации держать все помещения как будто замурованными – в страхе перед смертельно опасными сквозняками. Недолго думая, Феликс подошел к окну, вставил орех между окном и рамой и, придержав дыхание, чтобы не дрогнула рука, как во время охоты перед выстрелом, резко прихлопнул окно…
Окно было пригнано к раме, как хорошо отточенные лезвия ножниц друг к другу. Орех просвистел мимо виска, как пуля из ствола винтовки; вместо него меж двух рам попал большой палец. У Феликса была довольно хорошая реакция; он успел спасти палец – он умудрился не раздробить кость, однако ноготь треснул, расщепившись точно пополам. Рванувшись к водопроводному крану, он долго держал палец под ледяной струей, а потом заклеил ноготь пластырем. Он почему-то не чувствовал боли, ощущая этот искалеченный палец как нечто постороннее, не имеющее к нему отношения, как тело, отделенное от души. Несмотря на то, что он постоянно менял пластырь, из-под ногтя не переставала сочиться кровь; он не заметил, как в пятнах крови оказалась вся рубашка. А когда он высадился в аэропорту Хитроу (тут же прозванном им в уме Хитрово) и полез за своими бумагами для визы, кровавое пятно выступило и на израильском лессе-пассе.
5
Asylum
К полудню солнце стало пробиваться сквозь туман и деревья начали выступать из белесого утреннего марева, как фотонегативы. За ними потянулись, выплывая из тумана, контуры лошадей, пасущихся вокруг дуба, и даже куры-пеструшки раскрывали свое инкогнито, нарушая анонимность существования в утреннем тумане озабоченным кудахтаньем: они выходили, одна за другой, на лужайку и, скосив головы набок, выжидали хлебных крошек, оставшихся после завтрака.
«Ты все это так сложно подаешь – твое прибытие в Англию. Скажи честно: ты решил мотануть из Иерусалима не из-за идеологических верблюжьих воплей и плевков, а из-за арабских пуль», – процедил Виктор.
«Во-первых, в отличие от тебя, я не считаю, по идее, что страх – начало, в принципе, целиком отрицательное», – ответил Феликс с холодноватой академичностью университетского лектора. «Я не считаю, что спасать собственную шкуру – как бы недостойное человека занятие. Я бы, пожалуй, согласился с тем, что менять собственную шкуру – занятие действительно недостойное. Может быть, в этом и состоит, по идее, трагедия и позор добровольной эмиграции: мы не шкурники – ха-ха, – мы не хотим оставаться в собственной шкуре».
«Только не надо, милейший, употреблять слово: мы. Это ты – не хотел оставаться; меня, как тебе известно, вытурили за границу пинком под зад», – сказал Виктор. Феликс промолчал.
«Менять собственную шкуру – позвольте мне тоже возразить Феликсу – занятие, отнюдь не унизившее праотца Иакова», – сказал доктор Генони, вновь взяв на себя роль теоретика и режиссера этой психодрамы. «Это он, прошу заметить, набросил на себя козлиную шкуру, чтобы походить на волосатого Исава – на ощупь, для слепого Исаака», – сказал доктор Генони. «Хотите добиться благословения на первородство – извольте быть готовым к некоторому маскараду. Но к маскараду больше всего склонен человек без определенных занятий, не правда ли? Вроде Иакова. Иаков был интеллигентом-библиофилом. Сидел дома без дела. В то время как Исав был человеком уважаемой профессии, охотником. Охотником на фазанов. Или егерем. Егерем отца своего, если вы понимаете, что я имею в виду».
«Кстати сказать, не сам Иаков, а его мать переодела его в козлиную шкуру. Это она, а не он сам, кто, по идее, спровоцировал этот маскарад с первородством», – вставил Феликс.
«Боюсь, что вы понимаете первородство в буквальном смысле», – по-отечески напомнил ему доктор Генони. «В Библии же речь идет о том, что человек может осознать свое духовное первородство – то есть понять самого себя, – лишь оказавшись в чужой шкуре. Чтобы вы смогли на мгновение поглядеть на себя со стороны. Чужими глазами. Более того. Понять себя можно, лишь став другим – в чужих глазах. Например – в глазах отца. В глазах Исаака. Став другим под взглядом Запада. Здесь вам никто ничего навязывать не собирается: здесь у Бога нет посредников. Ни Мигулиных, ни Авестинов». Доктор Генони с трудом сдержал самодовольную ухмылку, заметив, как резко вздрогнули оба – и Феликс и Виктор – при упоминании имен их учителей. «Откровенно говоря, пора признаться, что все ваши споры насчет чужой шкуры и претензий на первородство – рефлексия вашего соперничества друг перед другом в подражании вашим наставникам. Мигулину и Авестину. Разве не так?»
6
На другом берегу
Заурядному эмигранту попасть в Англию практически невозможно. Нужно особое приглашение, личная рекомендация, экзамен на Би-Би-Си или профессорский конклав Оксбриджа [8]8
Имеются в виду два крупнейших английских университета Оксфорд и Кембридж (ред.).
[Закрыть]. Самый идеальный и самый недостижимый вариант – быть приглашенным родственниками, и не просто, а с правом на «резидентство», то есть не ограниченный ничем срок жительства. В таком случае, ты прибываешь на Альбион как бы по приглашению Ее Величества королевы Елизаветы. И Сильве эта честь выпала, можно сказать, даром: по той простой причине, что она – по фамилии Лермонтова, то есть, как выяснилось, из шотландского рода McLermont, и у него куча родственников в Британском королевстве. И выяснилось это все, заметьте, без ее ведома, она палец о палец не ударила: все за нее устроил лорд Эдвард – разыскал дальних родственников из Шотландии, оформил вызов, устроил визу через британское посольство в Москве, – пока плебс вроде Феликса метался в экзистенциальном выборе между Москвой и Иерусалимом (Людмила прислала израильское приглашение), мыкался в очередях на таможне и в паспортных отделах. И встречали Сильву в Лондоне как родственницу, в то время как Феликса нельзя было назвать ни изгнанником (единственный тип эмигранта, вызывающий уважение среди британцев), ни зарубежным гостем, ни, тем более, просто туристом; в результате он постоянно должен был придумывать резоны, по которым он попал в конце концов в Англию. Это заставляло Феликса постоянно варьировать ответы на вопросы: «Откуда? Как давно? Почему?» – постоянно повторяющиеся на светских сборищах. Это, в свою очередь, развило в нем постоянную настороженность, прикидывающий, угадывающий собеседника взгляд: взгляд этот делал его периодически похожим на голодного и затравленного побродяжку.
Многословно и с натугой (к лондонской разновидности английского надо было еще привыкнуть) он пускался в разнообразные объяснения и рассуждения насчет своих корней и почвы (британцы, как известно, большие доки в садоводстве), высказывал свое мнение об арабо-израильском конфликте («Арабы и евреи – сводные братья, вы понимаете? Таких никто не может помирить!»), или же о метафизических аспектах итальянской культуры («Италия – это пример того, как категория вечного покоя порождает категорию вечного движения: красота есть покой, но у итальянцев красота становится своеобразной формой бешенства»), или же, как, скажем, на праздновании Нового года в шотландском доме, начинал рассуждать о «зеркальных» подобиях культур: в данном случае – между Шотландией и Россией, поскольку обе литературы устремляли свой взор за границу – российская из-за авторитарного режима, а шотландская – из-за английского владычества. Его всякий раз выслушивали внимательно (эту форму вежливости и любопытства к этнической экзотике говорящего Феликс воспринимал как истинный диалог, хотя говорил, главным образом, он, и слишком громко при этом) и всегда, подымая рюмку, спрашивали: «Что русские говорят вместо нашего „Cheers“ [9]9
«Ваше здоровье» (тост) (англ.).
[Закрыть]? „Do zvidanya“?»
Этот диалог повторялся в первую на этих островах новогоднюю ночь не раз (праздник как-никак был шотландский, и бокалы поднимались и опрокидывались без видимого перерыва – а с ними и комментарий Феликса), и Феликсу в какой-то момент даже показалось, что он прямо-таки блистает остроумием в этой дружной семье весельчаков, пока не заметил, что дальше этих остроумных рассуждений насчет того, кто как и под какой тост опрокидывает рюмки, разговор не двигается. Зато опрокидывание рюмок учащалось с каждым мгновением, а кульминация наступила после полуночи, когда гостей стали обносить янтарным виски-молт в серебряном тазу, откуда этот расплавленный янтарь разливали в бокалы серебряным же половником. Разливал виски, обходя гостей, сам хозяин дома, глава клана, в шотландской юбке и со спорраном-кошелем впереди на родительном месте, а при нем, при хозяине, в качестве слуг, тоже одетые в шотландские костюмы с маскарадной лихостью, дети хозяина дома – румяные, улыбчивые и голубоглазые, целый выводок, от двух до двадцати двух лет. Они носились вверх и вниз по лестницам громадного дома, из кухни в столовую и обратно, обслуживая, развлекая и направляя гостей с рвением и шармом боевых офицеров, участников этой восхитительной и захватывающей шотландской битвы – встречи Нового года (еще одна параллель между русскими и шотландцами, в отличие от англичан, справляющих с рвением и энтузиазмом лишь Рождество), где желудки гостей сражаются с семгой и виски, а ноги – с лихими взвизгами волынок и скрипок.
Отгремел в полночь шотландский сланживар и грянул любительский ансамбль – шотландские волынки, скрипки и трубы. Хозяйка дома – а с ней супруг, дети, челядь и гости – отплясывала шотландские восьмерки с грандиозной грацией, соперничающей лишь с грациозностью ее грандиозного тела. Все в доме, казалось, было для великанов – от меню до музыки. С лихостью этого празднества конкурировала, пожалуй, лишь Сильва, и уже через несколько минут за ее плясовыми восьмерками увивалось все семейство, и толпа гостей прихлопывала и притоптывала, превращая шотландскую плясовую в украинский гопак. Сильве все было позволено, потому что она – родственник из клана Мак-Лермонт, и, даже если ее па не всегда верны и не всегда по правилам, отплясывает она наш танец. Это, мелькнувшее в уме, слово «наш» вернуло Феликса на свое место. Сильва – шотландка. Она в шотландской семье. Она своя. А он – чужак. И чужаком навсегда останется. Ему и в голову не пришло, что это было шотландское семейство в английском городе Лондоне, что они здесь чувствовали себя чужаками в том же смысле, в каком Феликс чувствовал себя чужаком среди них. Они считали себя в Англии своего рода эмигрантами из Шотландии; оттого – шотландские юбки, волынки и спорраны. Как если бы он – русский в Англии, напялил бы на себя кирзовые сапоги и пустился отплясывать «казачка» вприсядку вокруг самовара. Он уже испытывал однажды это ощущение отверженного в толпе чужаков – много лет назад в своем собственном доме. И тогда Сильва танцевала под восхищенные взоры, а он глядел на нее со стороны со смешанным чувством зависти и горечи – как и под Новый год в шотландском доме. Впервые до него дошло, что некие страхи, обиды и предрассудки останутся в нем и с ним на всю жизнь вне зависимости от географии или политики.
В тот злополучный вечер отъезжанткой-эмигранткой (на «историческую родину», как тогда формулировалось в анкетах с просьбой о выездной визе на постоянное место жительства в Израиль) была разведенная жена Феликса – Людмила. Феликс же оставался в Москве, из принципиальных соображений продолжая, по его словам, «вопреки самому себе любить собственную участь».
Проводы, устроенные в их кооперативной квартире на Преображенке, были не первыми и не последними. По негласному обычаю тех лет эти проводы-поминки продолжались с момента получения визы и до отлета в мир иной: недоступность Запада, заграницы, приравнивала закордонный мир – к тому свету, а проводы – к похоронному бдению, поскольку уверенность, что на этом свете уже свидеться не придется, была несокрушимой. Приводило это к тому, что на подобных проводах, как на похоронах, появлялись совершенно неожиданные персонажи из прошлого – какие-то забытые однокашники, неведомые подруги, затерявшиеся в тенетах времен поклонники и давно опостылевшие любовники. В тот раз набилось человек сто совершенно незнакомых друг другу людей. Стояли вдоль стен опустошенной квартиры с рюмками в руках, группируясь своими компаниями или вокруг очередной бутылки водки, внесенной в дом. Она тут же выпивалась, а поскольку второй не было, каждая последующая бутылка казалась последней и поэтому тоже выпивалась поспешно и жадно. В результате напились довольно быстро и, разбившись на небольшие группки, сквозь которые не пробьешься, не наступив кому-нибудь на больную мозоль, перекрикивали друг друга, друг друга не слушая. Феликс, вынужденный, как хозяин дома, регулировать циркуляцию рюмок и закусок, то и дело оказывался зажатым в совершенно нелепом для него споре. В большой комнате незнакомые Феликсу, институтские, видимо, подруги Людмилы – явно из тех, кому в свое время удалось побывать в заграничных эмпиреях, – промывали косточки отсутствующим подругам и странам, куда их больше не пускали, причем заповедные страны путались с отвергнутыми подругами.
«А французы прямо в автобусе за задницу щиплют, готовы с тобой интимничать в публичном месте напропалую, но чтобы к себе домой привести – ни-ни! Даже любовницу свою, и то для этого дела ведут в гостиничный номер. А англичане – наоборот. У французов внутренняя жизнь на публике, а у англичан вся публичная жизнь – внутри». – «Она мне все уши прожужжала, причем с таким раздражением: все, мол, подонки, дерьмушники и вообще ничтожные, пустые люди. Ей, мол, надоело вращаться во всем этом дерьме. Вся эта, мол, грязь, вся эта, в общем, мразь. Я ей говорю: прости, пожалуйста, кто из нас в этой проруби болтается, я или ты? Если она про них так, что же она говорит им про меня, когда меня нет поблизости?» – «Французы в кафе сидят лицом к улице, друг к другу боком – не общаться друг с другом, а чтобы других посмотреть и себя показать. В то время как англичанин заберется в свою пивную с приятелем и вокруг себя никого не видит: там даже окна из непроницаемого стекла или вообще портьерами занавешены. А иногда вообще глухие стены без окон. Там внутренняя жизнь – как в России. В общественном месте англичанин хоть и вежлив, но сыч сычом. Зато уж если домой пригласит – ну прямо как родственник. Но я тебе скажу: после французского мыла я не могу снова польским мыться!»
Дослушать эту восхитительную белиберду Феликсу не дали: из-за двери ванной комнаты вылезла рука и затащила его в святая святых диссидентских разговоров в каждой московской квартире. Все самое секретное излагалось в ванной. На этот раз там зачитывалось подпольное эссе Авестина о Пиранделло и советской власти. Человека четыре стояли в тесной ванной комнате и передавали по очереди друг другу по мере прочтения машинописные страницы.
«И везде все можно менять, одно на другое. В любом аэропорту. И вообще на каждом углу», – доносилось тем временем из большой комнаты сквозь приоткрывшуюся дверь ванной. «Франки на фунты, доллары на лиры – что угодно на что угодно. Только этот чертов рубль – неразменный. Неконвертируемый. Не нравится платье – пошла обратно, давайте мне новое, меняйте на другое, и они ни слова не говорят, меняют. У нее от туфли подошва стала отклеиваться через два месяца – обменяли как миленькие. Потому что конкуренция». – «А потом я чуть со стула не свалилась – когда она начала нести нечто несусветное про то, что надо общаться исключительно со светлыми людьми. Под светлыми людьми она понимает, по ее словам, людей творчества. Которые творят и творят, круглые сутки занимаются творчеством и совершенно не интересуются всякими материальными аспектами бытия. Причем не тех людей творчества она имеет в виду, кто ноет и скулит и проклинает, а тех, кто творит несмотря ни на что и не участвует во всем этом дерьме. И что надо выйти замуж за светлую личность, за великого человека, и положить всю свою жизнь на то, чтобы он мог творить и не участвовать во всем этом дерьме. Причем вполне возможно, что он в тебя конкретно и не влюблен – по крайней мере вначале, – но главное, чтобы этот человек был великим, а ты всю жизнь должна положить, чтобы он мог плодотворно творить».
В конце коридора происходила толкучка в связи со сбором подписей под письмом протеста против насильственного помещения Авестина в психбольницу с политическими целями (не больница, конечно, с политическими целями, а акт насильственного помещения). Письмо сочинил, конечно же, Виктор, и, хотя содержание петиции было вполне предсказуемо, самого письма пока еще никто не видел, потому что Виктор продолжал отшлифовывать окончательный вариант. Подписи собирались в виде принципиального согласия с протестом против. Феликс понял, что коридор в этой квартире – один, приглашенные стояли со стаканами в руках по обе стороны, прислонясь к стенам, как солдаты со шпицрутенами, и ему не миновать экзекуции – принципиального вопроса: «Подпишешь или не подпишешь?»
«Ты хочешь, говорю я», – продолжал тягуче и манерно женский голос из гостиной, – «ты хочешь выносить ночные горшки за великим человеком, чтобы, когда он помрет, стать наследницей его архива и директоршей музея его памяти, что ли? Ну не директоршей, конечно, а духовной наследницей – да, это завидная судьба для женщины. Но как понять: великий он человек или нет? Не говоря уже о том, что великими становятся не сразу: а вдруг помрешь, вынося за ним ночные горшки, раньше его, пока он еще никому не известный, и так никогда и не узнаешь, было ли ради кого жертвовать жизнью. А значит, хорошо бы заполучить не просто великого человека в смысле надежд на будущее, а такого великого человека, о котором уже известно, что он великий человек».
Виктор появился, как всегда, под самый конец, когда все были пьяны и крикливы. О Викторе в те годы наслышались. О его решимости и бесстрашии, бескомпромиссности и несгибаемой воле. Его появление на проводах Людмилы в Израиль (поразительно, что меньше всего обращали внимания в тот вечер на Людмилу – как будто она уже давно отбыла в свои Палестины) было улыбкой диссидентской фортуны: это был один из тех редких периодов, когда Виктор оказался на воле и не сделал еще того очередного, всегда рокового, рискованного и оскорбительного для властей шага – приводящего, как обычно, к слежке, обыскам и аресту. Все делали вид, что его появление у Феликса с Людмилой было чем-то заурядным, все делали вид, что ничего особенного не происходит, мол, к нам великие люди забегают каждый день. Однако Феликс прекрасно помнил свой взгляд: точнее, он не мог, да и все остальные тоже, отвести взгляда от Виктора, следил за каждым его шагом, за каждым передвижением по квартире и как бы бессознательно, не показывая виду, оказывался постоянно в той же комнате, что и Виктор, неподалеку от него в толкучке. Уже давно стало ясно, что следовал он за каждым шагом Виктора не из-за тщеславия или жажды приобщиться к судьбе великого человека. Это была в чистом виде ревность к Сильве. Неожиданно Виктор, отвлекаясь от общего разговора, точнее – гвалта, потянул его за рукав: «Слушай, старик, дай закусону в горсть».
«Чего?» – Феликс действительно не понял. Тюремно-лагерный жаргон, скорее всего. Закусону в горсть? «Я, знаешь, не специалист по уголовной прозе. Я на данный момент перевожу совершенно иных авторов». Как всякий специалист по английской драме, Феликс воображал, что он может быть прекрасным переводчиком всего того, что было предметом его театроведческих интересов. Всякий актер в душе режиссер, в то время как всякий режиссер убежден, что в нем пропадает великий актер.
«Переводчик? С какого на какой?» – спросил его Виктор, и тут же кто-то хихикнул пьяно: «Переводчик он, знаем мы, чего он переводит. С говна на дерьмо он переводчик».
«Я перевожу Томаса де Куинси», – не дрогнув, ответил Феликс на заданный вопрос. Как вежливый человек.
«Как, как? Фома Аквинский, ты сказал? Или я путаю с Торквемада эпохи Великой инквизиции?» – Виктор явно не слишком вслушивался в ответы на свои вопросы, оглядываясь вокруг с мальчишеским любопытством.
«Ты путаешь, Томас де Куинси – автор „Курильщика опиума“», – Феликс с облегчением включился в разговор на нейтральную тему. «Название переведено неправильно, потому что в прошлом веке опиум продавали в виде таблеток или как бы в виде драже. Его жевали. Поэтому по-английски де Куинси не курильщик опиума, а скорее едок».
«Выпьем». Виктор опрокинул рюмку, и Феликс понял, что значит «закусону в горсть»: в горсти у Виктора была действительно зажата всякая всячина: соленый огурец, редиска, обрезок ветчины – все тарелки давным-давно были грязные.
«Но я, как театровед, перевожу не про опиум, а его рассуждения о стуке в дверь в одной из сцен шекспировского „Макбета“».
«И тебе не страшно?» – спросил его Виктор, в конце концов обратив на Феликса свой жесткий взгляд.
«Чего – не страшно? Стука в дверь?» – усмехнулся Феликс с натянутой улыбкой.
«Я имею в виду: вот так вот сидеть и переводить – не страшно?»
«Что ты имеешь в виду? Перевод – не самое опасное занятие на свете», – пробормотал Феликс.
«Ну, если непонято – значит, не страшно. Пока», – сказал он в той московской манере, когда «пока» могло означать и то, что ему, мол, только пока не страшно, а скоро, мол, такое начнется, что и ему страшно будет; но могло и означать заурядный привет-прощание между своими. Он отметил про себя, что рассуждает уже как иностранец, вдумываясь в буквальное и переносное значение каждого слова. Лишь позже до него дошло, что имелось в виду: страшно заниматься ерундой в страшном мире. Вот что он имел в виду. Но именно этим и надо заниматься: ерундой – в мире, где от тебя постоянно требуют ответственности и значительности поступков. Гораздо проще путь героя. Ему чудилось, что Виктор воспользовался тем самым шансом на героизм, который был столь поспешно отвергнут Феликсом. Он уехал, а Виктор героически остался. И тем самым завоевал сердце Сильвы. Оставь герою сердце Сильвы. Что же он будет без него? Тиран!
«Пока» Виктора прозвучало все-таки как прощание – он развернулся в ответ на чей-то оклик и направился в другой конец комнаты, довольно резко и, главное, грубо оттолкнув плечом Феликса. Феликс качнулся от этого атлетического задвига и чуть не упал, отлетев к противоположной стене. Вы помните, вы все, конечно, помните. Как вы ходили медленно по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Это Сильва, выпрыгнувшая из дверей, как пробка из-под шампанского, окликнула Виктора по имени, подхватила его и завальсировала с ним по комнате. Феликсу казалось, что плечо его, задетое Виктором, пылает, как будто это не плечо, а щека после пощечины. Ему вдруг стало жарко. Он перехватил взгляд кружащейся по комнате Сильвы («Опять будет блевать – чего она все время танцует?»). Он шагнул к выходу. Уходя из этой жизни, громко хлопнул дверью (а то никто не заметит). Топая, стал спускаться вниз по лестнице и уже перед выходом из подъезда услышал оклик Сильвы: «Феликс, эй – что за дела?» – и стрекот ее туфель за спиной. Он шагнул на улицу, к троллейбусной остановке. Она выбежала за ним, она явно чувствовала, что поступила как-то не так и сделала что-то не то (он помнил ее вдруг залоснившиеся глаза, он знал этот остановившийся на Викторе взгляд и приоткрытый рот, бессмысленную улыбку на губах, – нижняя губа слегка оттопырена, почти отвисает, как у беспомощных голодных стариков перед тарелкой с любимым блюдом). Он вдруг взбесился. Он стал орать на нее, брызгая слюной и размахивая руками, как пьяный оскорбленный муж: «Предательница, ты пошлая дура и предательница». Она смотрела на него, совершенно ошарашенная, – как он удалялся, сидя в освещенном троллейбусе, как будто рептилия в стеклянном ящике-аквариуме. Лишь через пару остановок он осознал, что сбежал из собственного дома, с проводов собственной жены. Казалось, тот же троллейбус, как некая машина времени, перенес его с Преображенской площади в Луишем.
Как дурманил запахом прелых листьев и подстриженной мокрой травы английский парк, после израильско-итальянского засушенного гербария. Феликс глядел на все в первые дни глазами Сильвы: она была его экскурсоводом в этой жизни, знакомя его с новой географией, как в свое время знакомила колхозников с искусством Тернера в Пушкинском музее. По узкой особняковой улочке, где фронтоны домов и витые трубы на черепичных крышах заслонены гигантскими кустами жимолости, рододендронов и магнолий (как будто взятых напрокат из экзотического прошлого – из бывших колоний Британской империи), трогательного можжевельника и торжественного остролиста ростом в хорошее дерево, под монастырскими сводами платанов, вязов и ясеней, каштанов и чего только не назови, по узкой тропинке меж двух деревянных заборов (по тропинке выгуливают собак, и поэтому надо все время глядеть под ноги, чтобы не вляпаться) – из всей этой прекрасной путаницы листвы и камня – вдруг попадаешь на открытый конгломерат лужаек, где купола деревьев по краям на горизонте смотрятся как бордюр на обоях; и при всем головокружительном размахе этих лужаек и травяного поля на километры вокруг, со шпилем церкви, видным отовсюду, ты чувствуешь себя центром ландшафта, и террасы домов в отдалении салютуют тебе белыми, как молоко, колоннами и миниатюрными колоннадами бутылок молока на ступеньках. Поле это не казалось Сильве пустынным: дома с затейливыми фасадами и фронтонами покачивались по краям лужаек, как парусные судна в уютной гавани, где набережная бурлит пестрой веселой толпой встречающих. Весь этот гигантский травяной покров был ничейной, точнее – общинной землей, по ней мог ходить каждый. Расположенные на возвышенности, эти лужайки уходили своими околицами вниз, к Темзе, как будто служа доказательством, что земля – это шар. Как-никак Гринвичская обсерватория в двух шагах. С горы открывался вид на Лондон через Темзу с собором св. Павла на горизонте: с легкими поправками в виде труб точное воспроизведение картины Тернера, с двумя куполами Королевского военно-морского колледжа. Ты видел, с какой дневниковой, чуть ли не соцреалистической, точностью «Вид на Лондон» соответствовал виду на Лондон – лежавшему перед глазами целехоньким и неотреставрированным, как в багетовой раме. Два затемненных купола, чернеющих на фоне неба, озаренного снопом света, прорвавшегося сквозь тяжелую грозовую тучу, – эти купола еще в зоне дождя, еще в английском климате, но чуть поодаль, на расстоянии протянутой руки, уже итальянское освещение, уже Темза, как девочка, убегает стремглав от последних капель дождя навстречу собору св. Павла, чей купол вспыхивает в солнечном луче, как мальчик от смущения.








