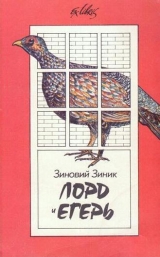
Текст книги "Лорд и егерь"
Автор книги: Зиновий Зиник
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
«Приходило ли вам в голову, что даже ребенка, убившего папу с мамой, следует называть все-таки сиротой?» – нервно рассмеялся Карваланов. «Что же произошло с бедной сироткой? Я имею в виду сынка егеря».
«Этот отцеубийца остался сиротой, потому что мать бросила семью, когда он был еще в пеленках. Моя мать умерла во время родов, а отец убит на войне. Вы замечаете: мы с ним в чем-то схожи», – продолжал свои готические параллели лорд Эдвард.
«Все враги похожи друг на друга, каждый друг становится врагом по-своему. Или наоборот», – бормотал нечто толстовско-утешительное Карваланов. Все смешалось в этом доме – русская литература с английской цивилизацией, привилегии егеря с обязанностями лорда. Карваланов выслушивал семейную хронику Эдварда как психиатр, знающий, что во всяком безумии есть своя логика. Вопрос же о достоверности и правдивости показаний он давно оставил за лубянскими стенами.
Если верить Эдварду, сын егеря воспитывался с ним, сыном лорда, на равных, поскольку и отец Эдварда, и, впоследствии, после его гибели на фронте, опекуны из ближайших родственников пытались замять скандальную историю – трагический инцидент на охоте. Опекуны буквально лебезили перед егерским сынком: ему доставалась лучшая крикетная лапта, лучшая прогулочная лошадь. В то время как Эдвард постепенно становился мальчиком на побегушках у егерского сынка: ему указывали, где ставить капканы на лисиц, где протягивать электрическую проволоку фазаньих загонов, когда и как их кормить. То, что поначалу казалось детскими играми и «культурным обменом» рабочего класса с аристократией, постепенно перерастало в тщательно продуманную конспирацию егеря с опекунами. Дело в том, что содержать поместье, подобное эдвардскому, стоит тысячи; семья же жила с начала века под постоянной угрозой банкротства. Втеревшись в доверие к опекунам, Эдмунд, егерский сынок, сумел убедить их в том, что единственный возможный выход из финансового кризиса – сдавать часть поместья в аренду под фазанью охоту тем, кто желает поразвлечься с двустволкой в аристократическом духе с помпой и антуражем: главным образом, естественно, нувориши из иностранцев. Еще не так давно на территории поместья были и фруктовые сады, и полевые культуры (например, горох сорта «бульдог»), и даже процветали кое-какие ремесла; теперь же все это было заброшено, закрыто, заколочено: акр за акром все поместье было превращено в фабрику для разведения фазанов, все отдано под фазанью потеху. Всем этим охотничьим наемным царством распоряжался, само собой разумеется, егерский сынок. Он стал незаменимым человеком, шагу без него нельзя было ступить; даже опекуны и те превратились просто-напросто в еще одну административную инстанцию, заверяющую своей официальной печатью своевольничанье егерского последыша. Сын же лорда, законный наследник, исполнял всю грязную егерскую работу.
«Почему вы не обратились с протестом в палату лордов?!» – возмущался диссидентский ум Карваланова. Как будто это у него отбирали права на владение всеми этими лесными угодьями и недвижимостью, столь напоминавшими ему о бывшем белорусском поместье его прадеда.
«Мои протесты в палате лордов закончились электрошоками в психбольнице», – сухо констатировал лорд и, заметив переменившееся лицо Карваланова, пустился в объяснения насчет того, что своими протестами против егерских затей вообще и фазаньей охоты в частности он восстал против древнейшего инстинкта британской нации – кровопускания под видом спортивной игры и забавы. Выступления же в антифазаньем духе воспринимались опекунами поначалу как скандальный эксцентризм левака и разнузданность выродка, позорящего фамилию. Но в конфронтации Эдварда – «черной овечки» – с семейными фазанами был еще один аспект: деньги и тот факт, что егерь крутил этими деньгами как хотел:
«Извольте, заявил, выполнять мои указания беспрекословно. Вы, говорит, больше мне не господин, а я, говорит, больше вам не слуга. Времена, говорит, не те. Ваш папаша, говорит, давно на том свете, а нам тут надо деньгу зашибать». Эдвард имитировал, судя по всему, акцент, голос и повадки егеря – с такой безукоризненной точностью, что собаки снова вскочили со своих мест и сгрудились, рыча и скалясь на лорда в личине егеря: «Это я вас тут содержу, сэр, а не вы меня. Поместье на моих плечах, сэр. Потому что немцы мне деньги платят. Платят за отличных фазанов, сэр, и фазаны эти не очень-то и ваши, сэр. И выращиваю я этих фазанов, сэр, на немецкие, между прочим, марки. И извольте, сэр, не подрывать мне бизнес своей публичной клеветой. Нахлебников не потерплю! сэр!»
«Я бы объявил ему голодовку».
«И окончательно лишил бы себя сил – на радость этому отцеубийце? Когда в очередной раз этот узурпатор стал произносить спичи насчет немцев, подстреливающих фазанов на лету, как в свое время они палили по самолету моего отца, я не выдержал, бросился на этого подлеца и стал его душить. Все это и закончилось, сэр, смирительной рубашкой. Перевоспитывали электрошоками, Карваланов. Психиатры утверждали, что чудесно помогает обрести моральное спокойствие: чудовищный грохот у меня в голове – знаете, постоянный грохот, производимый загонщиками во время фазаньей охоты, якобы прекращается», – и Эдвард стал нервно тереть пальцами виски, морщась как будто от боли. «Но я им благодарен, моим мучителям».
«Ваш английский садомазохизм», – буркнул Карваланов.
«Вы не понимаете. Я благодарен тому обстоятельству, что сам, на собственной шкуре пережил то, что переживают жертвы варварских традиций английской аристократии – несчастные обитатели лесов и полей, гибнущие на электропроволоке фазаньих загонов. Электрошок объединил меня с жертвами егерской травли. Объединил еще и в буквальном смысле. После возвращения из психиатрической клиники мне было сказано, что я со своими бродячими питомцами переведен на постоянное местожительство во флигель».
«Я же говорил, что отберут поместье», – в сердцах воскликнул Карваланов, хотя до этого ничего подобного вслух не говорил.
«Дом моих предков превращен егерем в постоялый двор для заезжих варваров с огнестрельным оружием. Это настоящее военное вторжение. Или революционный переворот, если угодно. Меня, Карваланов, изгнали из родового гнезда. Мои клиенты, сэр, не могут останавливаться под одной крышей с бродячими псами», – снова сымитировал Эдвард егерский выговор. Наступила зловещая пауза. Даже позвякиванье бутылки самогона о стаканы было облегчением.
«А я-то надеялся пройтись по подъемному мосту вашего замка», – вздохнул Карваланов. «Опускается мост на цепях, мы пересекаем ров, въезжаем на мощеный двор, нас встречают слуги у дубовых дверей, у чугунных ворот, в переходах будут гореть коптящие смоляные факелы. Мы поднимаемся по лестницам, переходим из залы в залу, смотрим на озеро перед закатом солнца, выходим в конюшню, сидим в саду, возвращаемся в библиотеку, горят свечи, ковер шуршит под ногами, мы садимся в кожаные кресла перед камином, трещат поленья, шипят свечи, коптят факелы, скрипят кресла, цокают копыта, закатывается солнце. Совсем забыл!» – заговорившись было, вскочил со стула Карваланов и достал из-под стола сумку. Повозившись с «молнией», он извлек оттуда картонную коробку, перевязанную бечевкой. Вместе с обрывками бечевки полетели на пол куски ваты – для амортизации? – и наконец Карваланов выставил на стол свой «подарок», завернутый в газету «Таймс». Когда и газета с шуршанием опустилась на пол, глазам предстала пластилиновая модель средневекового замка на фанерной подставке. «Мой подарок. Ваш замок», – пододвинул Карваланов пластилиновую крепость к другому концу стола.
«Мой?» – в трогательном замешательстве переспросил лорд, тихонько дотрагиваясь пальцем до пластилиновых башенок.
«Ваш», – кивнул Карваланов. «То есть тот, каким я его воображал, сидя в одиночке Владимирской тюрьмы. Я как будто прожил в этом замке сотню лет и каждый камень обточил своими руками: от фундамента и потайных ходов до остроконечных крыш и башен. Этот воображаемый замок спас мне жизнь. Мои следователи не знали, что с допроса я возвращаюсь к прерванным беседам у камина. Откуда им было знать, что я разговаривал с ними, стоя на стенах замка, сверху вниз. Что они, со своими глупыми вопросами, могли сделать против толстых каменных укреплений, против зубчатых башен и бойниц? Когда озверевший коллектив отгородился от тебя колючей проволокой, у тебя нет иного выбора, кроме как отгородиться от коллектива воображаемой стеной – стеной замка, замка собственного „я“, где я – сам себе господин, где я – лорд. Я знал, что есть на свете лорды и замки, есть другие сторожевые вышки, башни и мосты надо рвом, и этот „замок в уме“ помог мне сохранить разум, мою личность, мое „я“, когда вокруг лишь проволока и вой собак».
«Каких собак?» – прервал его лорд.
«Вой овчарок. Обыкновенных сторожевых псов при конвоирах и охране. Их тоже держат за колючей проволокой – только по другую сторону».
«Простите, Карваланов, за глупые вопросы. Но в Англии совершенно неизвестно о положении собак в советских лагерях и тюрьмах. Как с ними обращается лагерная администрация? Каково их место в пенитенциарной системе? Не удалось ли вам вывезти их фотографии?» Чем больше возбуждался по собачьему поводу лорд, тем больше недоумевал Карваланов:
«Какие фотографии? К чему? Обращаются там с собаками, как и со всеми остальными заключенными. Известно как: ходят недокормленные, бьют их, держат на цепи. Неудивительно, что при первой же возможности они готовы вцепиться тебе в глотку. Но и самых озверевших псов можно перехитрить. Точнее, самые озверевшие – самые наивные. В одном из лагерей нам удалось протащить в зону двух кошек. Мы их связали хвостами, ха! Тут такое началось: кошки визжат, мяукают и воют благим матом, катаются под лагерную матерщину охранников по всей зоне – не могут расцепиться. С овчарками случилось нечто невообразимое: сорвались с цепи, стали прыгать через проволоку, охрана ополоумела, началась стрельба».
«И несчастных животных перестреляли?» Лорд сидел, в отчаянье обхватив лицо ладонями.
«Но зато кто хотел – сбежал. Охране было не до заключенных».
«И вы – вы тоже сбежали?»
«Я?! Да если б даже все заключенные Сибири – все до одного – предприняли б массовый побег, я бы все равно остался. Исключительно в знак протеста: чтобы доказать наличие политзаключенных в Советском Союзе. Впрочем, из лагеря далеко не убежишь», – добавил Карваланов, помолчав. «Кого-то выдали вольняшки, кто сам вернулся – обмороженный, другие просто перемерли в снегах, в тайге».
«Теперь вы понимаете, почему я не могу покинуть мое поместье? Точнее – то, что называлось когда-то моим поместьем». Лорд беспомощно и неопределенно обвел вокруг себя рукой. «Даже если бы меня никто здесь насильно не держал, я бы все равно остался. Как вы сказали? В знак протеста. Как последний свидетель того, что сотворили с несчастными животными алчные егеря. Но кто станет слушать лорда, объявленного сумасшедшим на почве фазаньей охоты? Кто? Лига Защиты Животных? Парламентская фракция, выступающая за охрану окружающей среды? Они – лишь ничтожная горстка диссидентов английского общества!»
«Нас в России, таких, как я, было еще меньше. И тем не менее о нас пишет вся западная пресса», – по диссидентской привычке возражал Карваланов, хотя знал, что впервые за весь разговор лорд звучал крайне убедительно.
«О вас пишут, потому что речь идет именно о России. Царизм, революция, сталинизм, антисемитизм, доктор Живаго, ГУЛАГ. Постоянные исторические сдвиги, общественные метаморфозы, катаклизмы. И дьявол всегда в мировых масштабах непременно. Естественно, все без ума от России. А что делать нам, тут, где дьявол, где зло размельчены до неузнаваемости на душевные песчинки, засевшие у всех и каждого в сердце? И нет вокруг ни „иностранных корреспондентов“, чтобы оповестить об этом всему свободному миру, нет „свободного мира“ за „железным занавесом“, куда можно бежать от тирании ежедневной рутины, нет на свете „заграницы“ – есть просто убогая, изолированная островная норма законности. Дальше ехать некуда. К кому обращаться с протестом? И по поводу чего? И эта жизнь навсегда. Это свободное рабство – навсегда, вы понимаете, Карваланов? Вы понимаете значение слова „навсегда“?»
«Осторожно!» – успел вскрикнуть как ужаленный Карваланов, заметив, что все это время палец лорда нервно мусолил пластилиновые башни замка. Но было уже поздно: одна из угловых бойниц стала клониться на сторону и, надломившись у основания как будто от подземного толчка, завалилась. «Вот видите: опять сторожевая башня рухнула», – раздраженно пробурчал он, пытаясь восстановить рухнувшую конструкцию.
«Она, видимо, надломилась от тряски еще во время погони. Вот видите: во всем виноват проклятый егерь!» – сказал лорд Эдвард.
«Виноват не егерь, а английский пластилин. Не липнет. Не липнет, и все тут. Только успею закрепить подъемный мост, обваливается сторожевая вышка. Пока реставрирую сторожевую вышку, обваливается стена. Эти островитяне не могут даже детский пластилин толком изготовить. Не липнет».
«Какие островитяне?»
«Англичане, кто же еще. Все говорят про английские традиции, настоящее в прошлом, а пластилин тут по недолговечности как мотылек-однодневка: к вечеру превращается в пыль».
«Вы, наверное, самый дешевый сорт купили. Тут можно найти десятки сортов пластилина – детского, взрослого, какого угодно».
«Мне не нужно десятки сортов. Мне не нужно какого угодно. Дайте мне тот пластилин, который выдавался в красном уголке Владимирской тюрьмы. Вот это был пластилин. Пластичный, когда надо, и застывал, как бетон. Демократия тут ни к чему, и в этом смысле советская тюрьма гармоничнее британской демократии: как и замки, пластилин там крепче. И запах был от него ностальгический: как в детстве. Тюремные варианты моего замка можно было таскать по всем лагерным пересылкам. А здесь на свободе пытаюсь в который раз восстановить по памяти свою пластилиновую тюремную мечту, и к вечеру непременно что-нибудь да отваливается». Замки и замки́ начали по-фрейдистски путаться.
«У вас на глазах разваливается пластилиновая мечта о несуществующем замке, в то время как мой настоящий замок из камня на глазах превращается в пластилиновую мечту», – философически вздохнул лорд. «Пластилин здесь другой. Но и мечта сама по себе тоже никогда не повторится. Другая почва. Другая глина и другой душевный состав воды. Потому что Англия – вы правы – это остров. Вы знаете, что в прошлом веке любой англичанин, отправляющийся в заграничное путешествие, не расставался с бутылью пресной воды из английских источников?»
«Я слышал об этой форме ксенофобии», – сказал Карваланов, разглаживая обрывок газеты «Таймс», куда был завернут пластилиновый замок. «Эта болезнь называется водобоязнь, она же – бешенство. Тут вот написано: стоит попасть на остров одной зараженной крысе, и все население погибнет от бешенства».
«Парадоксально, но если бы не проблема бешенства, вы бы никогда не попали на этот остров, милейший Карваланов», – улыбнулся лорд мышкинской улыбкой. Князь Мышкин в роли Крысолова. Острота для Феликса. Ха.
«Не понимаю, и где это вы умудрились отыскать связь моей эмигрантской судьбы с водобоязнью?»
«Естественно, как и у всех людей, через собак. Дело в том, что с проблемой бешенства у собак я познакомился лишь в России», – с невозмутимой серьезностью разъяснял лорд.
«Я полагал, что в Россию вы отправились в ходе вашей борьбы за права человека», – сказал Карваланов.
«До поездки в Москву я вообще не слыхал о советских диссидентах, к моему великому огорчению. Как, впрочем, и бешенстве среди собак. О России я, собственно, знал лишь, что там произошла пролетарская революция. Это обнадеживало», – сказал лорд.
«Не понимаю, чему тут радоваться», – сказал Карваланов.
«Если исчезло дворянство, значит, исчезли и егеря. Если исчезли егеря, значит, нет нужды в фазаньей охоте, понимаете?»
«Потому что исчезло дворянство? Неужели вы думаете, что всех фазанов перестреляли, как всех буржуев с аристократами в революцию? А как насчет сталинских егерей на правительственных дачах – выезжали на охоту полным составом политбюро», – кипятился Карваланов.
«Я тогда ничего не знал о партийной коррупции. Я ехал в Россию, как будто возвращался на свою духовную родину – без егерей и фазанов. Я даже подумывал: а стоит ли вообще покупать обратный билет?» По словам лорда, опекуны были лишь рады от него избавиться. Они стали распространять слухи о том, что Эдвард не только психически болен, но еще и агент коммунистического интернационала. Лорду пришлось сделать заявление в прессе о том, что едет он в Советский Союз не из-за симпатии к коммунизму, а из-за любви к преследуемым животным. С ним тут же связалась одна из многочисленных благотворительных организаций, занимающихся правами человека в Советском Союзе. Представительница организации долго говорила с ним о «необходимости оказания моральной поддержки тем советским гражданам, кто осмеливается открыто вступать в борьбу с тоталитаризмом». Лорд слабо понимал, какие могут быть проблемы с тоталитаризмом в стране, где устранена охота на фазанов, но адреса тем не менее взял ради вежливости по отношению к представительнице антитоталитарных тенденций.
«И что эта была за организация?» – полюбопытствовал Карваланов.
«Эмм… Амнезия? Амнезия Интернешнл?» – пробормотал Эдвард.
«Не Амнезия – Амнистия! Международная Амнистия. А не амнезия. Амнезия – это потеря памяти. Впрочем, Амнести Интернешнл действительно страдает порой потерей памяти: забывает о политической идеологии режима, нарушающего права человека», – и Карваланов пустился было в полемику о разнице между тоталитарными режимами советского блока и авторитарными диктатурами южноамериканского типа.
«Совершенно с вами согласен», – пресек его полемический «драйв» Эдвард, согласно закивав головой. По его мнению, Амнести Интернешнл забывает о правах животных в странах тоталитаризма. Там догов заставляют охранять государственную границу – заставляют их, собак, бросаться на людей, как будто они, собаки, бешеные. Куда бы ни сворачивал их, Эдварда с Карвалановым, разговор, он в конце концов непременно упирался в собачью конуру. Начинался по-человечески, а кончался собачиной. Однако по прибытии в Москву лорду очень быстро (к радости Карваланова) дали понять, что его приверженность к советской фауне не должна распространяться за пределы дозволенной иностранцам зоны – т. е. московской городской черты. От нечего делать лорд направился по одному из адресов международной «амнезии».
«Бес… бес…», – пытался припомнить он четырехэтажное московское название.
«Бес? Черт! Может быть: Чертаново?» – гадал вместе с ним Карваланов.
«Бес… Бездумкопф?» – рискнул предположить Эдвард.
«Бескудниково!» – догадался Карваланов. «Я там жил. В промежутках между арестами».
«Там такие очереди на автобус!» – сочувственно замотал головой лорд. Но Карваланов стал защищать очереди, сказав, что советская очередь – это и парламент, народное собрание, и одна большая семья.
«Конечно, и прикрикнут на тебя, и локтем, бывает, толкнут, но зато какое чувство единства. Западу, по-моему, этого крайне не хватает», – эпатировал не столько лорда, сколько самого себя Карваланов. Он, кто всегда настаивал на своем праве жить и действовать в одиночку, вне толпы, он, оказавшись в Англии – стране одиночек-островитян, вдруг стал тосковать о единении с массами.
«На меня, знаете, в очереди смотрели как на шпиона», – сказал лорд. «А вот в автобусе я как раз и почувствовал сплоченность. Настоящее единство тела и духа. Там так, Карваланов, от всех пахнет!» – признался он с извиняющейся улыбкой. За дверьми же автобуса, по его словам, простирался мираж. Снежная пустыня. Антарктика. И многоквартирные блоки белеют, как айсберги. Ни номера дома, ни названия улицы. Мираж.
«Я знаю эти жилые массивы», – сказал Карваланов. «Там нету улиц, там нумерация идет по корпусам, как в тюрьмах. Вам какой номер нужен был?» – осведомился он с деловитостью старожила, как будто остановился с лордом на углу своего квартала в Бескудникове. Лорд порылся в записной книжке. Услышав номер дома, корпуса и квартиры, Карваланов воскликнул: «Но это же мой адрес!» – и, опомнившись, уточнил: «Бывший».
«Чей же еще адрес я мог получить от этой самой международной амнезии», – упорно путал лорд название организации. Однако международная известность Карваланова среди организаций с экзотическими названиями совершенно не помогала у него на родине. Впрочем, проверить и этот факт было негде да и не у кого: кругом снег, мороз и воют закоченевшие собаки. Вокруг собралась целая свора бездомных псов, как будто напрашиваясь на разговор. Одного из них лорд сразу запомнил: с огромной черной подпалиной вокруг глаза, как будто синяк.
«Вокруг правого глаза?» – поинтересовался Карваланов.
«Он выглядел самым несчастным», – кивнул утвердительно лорд. «Я попытался завязать с ним отношения, протянул ему руку, руку дружбы, хотел приласкать, а он – представляете? – тут же вцепился мне в ногу. На снегу – лужа крови. Я кричал от боли и отчаяния. Сейчас много пишут об отзывчивости русской души. Я вам, Карваланов, скажу: ни одна собака в округе не отозвалась».
Оставляя кровавые следы на снегу, лорд добрался до автобусной остановки. Как он попал в поликлинику, сказать трудно: его в полуобморочном состоянии привели туда в сопровождении милиционера. Вместо того чтобы тут же заняться кровавым и зловредным собачьим укусом, лорда стали выспрашивать, как на светском рауте в лондонском салоне, о месте и годе рождения, как и почему он попал в столь отдаленный район Москвы и с какой целью стал заигрывать с местными бродячими псами. А потом вдруг объявили, что не отпустят его, пока он не пройдет курса инъекций с целью предотвращения бешенства. 40 уколов – по одному в день. У лорда обратный полет через неделю – уже закомпостирован, но доктор сказал, что лишь безумец может выпустить на волю пациента, подозреваемого в бешенстве, а он, доктор, не безумец, а ответственный советский врач, не желающий опозорить советскую медицину перед Западом.
Лорд потребовал, чтобы его немедленно связали с посольством, но в поликлинике сказали, что «посольство подождет», что «бешеный иностранец даже за границей не нужен».
«Это же старый сталинский трюк: борьба с космополитизмом, врачи-отравители, засилье иностранщины», – увлекся Карваланов ситуацией, хотя бы на время уводившей участников разговора прочь от опостылевшей фазаньей охоты. «Кругом враги внутренние и внешние, а тут еще и эпидемия бешенства. Прививки кого хочешь запугают. Этот врач из диспансера, он был явно связан с органами: эти его шуточки насчет иностранцев и бешенства. Недаром на допросе присутствовал милиционер».
«На каком допросе?» – явно не понял лорд.
«В поликлинике. Вы же сами сказали, что вас допрашивали: имена, адреса, телефоны. Мой адрес спрашивали? Кстати, отобрали ли у вас телефонную книжку?»
На этот вопрос Эдвард затруднялся дать ясный ответ. Дело в том, что после первой же инъекции Эдвард упал в обморок и очнулся уже в отеле. Все было при нем, телефонная книжка в кармане, но дикий туман в голове. Он было решил, что это – результат перипетий в «Бес… Бес… Никак не выговоришь», и на следующий день отправился, как ему было предписано, в диспансер на очередную инъекцию; после чего головокружение началось такое, что он еле на ногах держался. На обратном пути у дверей отеля его задержал швейцар. С перевязанной ногой, небритый, немытый (из-за бинтов он решил не принимать ванны) – вид у него был, с точки зрения швейцара, отнюдь не иностранный. А все документы – от паспорта до пропуска в отель для иностранцев – Эдвард забыл в тот день у себя в номере по причине обморочных головокружений. Пришлось вызывать милицию – и снова расспросы-допросы: кто, откуда и почему в Москве. С этого момента лорд понял, что за каждым его шагом следят.
«Напротив отеля, неподалеку, я стал замечать сотрудников госбезопасности, державшихся обычно по трое. А когда их было двое, они пытались завлечь меня в свои сети дружескими жестами, предлагая распить с ними некую наркотическую отраву в прозрачной бутылке, предназначенную явно для охмурения наивных иностранцев вроде меня. Они отхлебывали смесь из бутылки по очереди: можете себе представить, как эта жидкость действовала на иностранцев, если эти верзилы при каждом глотке страшно менялись в лице».
«Аналогичный эффект вызывает у меня ваш ирландский почин», – усмехнулся Карваланов иностранному восприятию московского распития на троих и, глотнув остатки ирландского самогона из бутылки, поморщился: «От него в глазах троится».
«Представьте мое положение: трое охранников – под окнами, напротив – зубчатые стены и башни Кремля, ощущение такое, что тебя заточили в тюремную крепость», – продолжал свою печальную историю лорд. В английском посольстве ему откровенно заявили, что ничем существенным помочь не могут: заболевание бешенством является вопросом внутренней политики советской страны, и если в стране – тоталитарный режим, значит, британец, уважающий законы иностранной державы и подозреваемый в бешенстве, должен терпеливо сносить тоталитарные методы лечения этого внутреннего заболевания. И консул предложил Эдварду виски и сигару как лучшее лекарство от головокружения. Консул был крайне поражен, узнав от лорда, что потребление алкоголя запрещено в связи с инъекциями против бешенства. Британское посольство тут же запросило диспансер: на каком основании британскому джентльмену запрещено потребление исконно британского напитка; британский джентльмен готов подставить свой зад для тоталитарных инъекций, но ему не заткнешь глотку, требующую после индийского чая ежедневной порции шотландского виски, сказал консул. На что ему было сказано, что английский лорд может вливать в себя виски сколько влезет, если готов умереть от судорог при виде стакана воды. Откуда вообще известно, что наш английский подданный действительно заражен водобоязнью, т. е., научно говоря, бешенством? – спросил возмущенный консул. Потому что его искусала бродячая собака, ответил врач. Но не все бродячие доги – бешеные, возразил консул. Вполне возможно, согласился врач; если бы удалось отыскать этого самого дога, покусавшего лорда, и убедиться в том, что спустя десять дней после укуса этот дог еще жив и все еще кусается, значит, этот дог не был бешеным. Но дог, покусавший лорда, был бродячей собакой; его местоположение и, следовательно, состояние здоровья – жив ли он и продолжает ли кусаться – проверить невозможно. Пока же дог не найден, нам, сказал врач, ничего не остается, как автоматически зачислять вашего покусанного английского лорда – в бешеные.
«Настоящий сумасшедший дом», – заключил свой отчет лорд, переводя дух.
* * *
«Теперь вы понимаете, почему меня не выпускали из психбольницы?» – чуть ли не подскочил со стула Карваланов, уловив знакомый логический казус в истории лорда. Собаки тоже привстали и, окружив Карваланова кольцом, зарычали, настоятельно приглашая его снова сесть.
«Разве вас тоже покусала бешеная собака?» – удивился лорд. «Вы же сказали, что у вас с детства прививка от бешенства».
«При чем тут собака?! То есть, извиняюсь, тут-то собака и зарыта», – позволил себе Карваланов сострить по-русски. «Чего там говорил ваш врач? Если вы попали к нам в клинику по подозрению в том, что вы покусаны бешеной собакой, мы относимся к вам уже как к бешеному, вне зависимости от того, была ли в действительности покусавшая вас собака бешеной или нет. Обычная врачебная перестраховка, так ведь? В моем случае подобной собакой я считал КГБ. Совершенно не важно, действительно ли КГБ – бешеный пес или нет. Если ты считаешь, что КГБ тебя преследовал, значит, ты автоматически не в здравом уме».
«Но бешеный ли дог КГБ – в действительности?» – с энтузиазмом подключился лорд к силлогизмам Карваланова. «Если через десять дней после укуса собака все еще жива – значит, она не была бешеной, сказал мне доктор. Поскольку органы КГБ активны в наше время так же, как и десять лет назад, эту организацию невозможно, следовательно, подозревать в бешенстве. А значит, отпадает и подозрение в том, что вы – не вполне нормальный человек, не так ли?» Лорд глядел на Карваланова на редкость прозорливым взглядом.
«Вот именно», – подбирался к логическому финту Карваланов. «Если вы хотите, чтобы вас в Советском Союзе держали за нормального, вы должны относиться к КГБ не как к бешеному псу, а чуть ли не как к отцу родному. Но с любой нормальной точки зрения КГБ – бешеный пес. Если же вы на этом настаиваете, у врачей-психиатров полное право госпитализировать вас как заразившегося бешенством. Словом, оставаясь нормальным, вы автоматически зачисляетесь в сумасшедшие с точки зрения советской системы, чьей ментальностью заведует советская психиатрия. Понимаете? Я настаивал на том, что я здоров, и в то же время, что КГБ – бешеная собака. С точки зрения советского психиатра это нелогично, иррационально и доказывает, что у меня – раздвоение личности. Нельзя одновременно признавать, что тебя покусала бешеная собака, но что ты – не заражен бешенством».
«Совершенно с вами согласен», – кивнул головой лорд. «Что же делать? Что же нам делать?» – подчеркнул он слово «нам».
«Не знаю, как вы бы поступили на моем месте, но у меня лично оставался в Москве единственный логический выход: я стал настаивать на том, что не я был покусан бешеными псами из КГБ, а мои психиатры. Доведенные до состояния бешенства, они держат единственно нормальных людей страны, то есть – диссидентов, в сумасшедших домах, управляемых ненормальными психиатрами. То есть, простите, не нормальными, а зараженными гэбистским бешенством. Сейчас моя формулировка известна в мире как „использование психиатрии в политических целях“. В результате моих разоблачений меня и перевели из психбольницы в тюрьму – единственное место для нормального человека в стране, превратившейся в одну большую психбольницу. Стать советским заключенным – это как заполучить справку-сертификат о психической нормальности. В этом смысле я и сказал билетеру у вас на станции: дело не в том, псих ты или не псих, а кто ставит под сомнение твою нормальность».
«Зря», – мрачно буркнул лорд.
«Что зря? Для меня это было делом принципа».
«Зря вы беседовали с этим билетером. Они же с егерем – друзья-приятели. И оба заодно с моими опекунами. Этот железнодорожник встречает и провожает германских нуворишей, он тут в должности чуть ли не лакея, ему за это подбрасывают фазанов и, конечно же, чаевые. Вы себе не представляете, какая в моем поместье царит коррупция. Он уже заведомо донес, что вы направляетесь ко мне. Я с утра чувствую атмосферу напряженной слежки», – и лорд, подойдя к окну, осторожно отодвинул занавеску.








