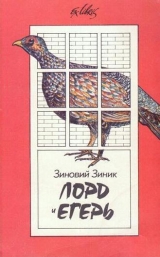
Текст книги "Лорд и егерь"
Автор книги: Зиновий Зиник
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
«Это оттого, что безработица дикая. Люди не могут устроиться по специальности, вот и идут работать уборщицами в общественных сортирах», – сказала Мэри-Луиза.
«По-моему, это не совсем корректно по отношению к фактам», – продолжал Куперник, проигнорировав эту троцкистскую провокацию. «По-моему, тут имеет значение разница в натурах – у людей Востока и Запада. Возьмем к примеру нашу обожаемую Майю из Большого. Разве можно себе представить, чтобы наша Майечка взяла и бросила балетную сцену, чтобы стать медсестрой в какой-нибудь голодающей, занюханной, извините, Эфиопии? Нет, она будет до глубокой старости отплясывать безумную Жизель, пока не упадет в лебединое озеро полного маразма. А ваша Ланн Сеймур влюбилась в джазиста, и на тебе – вчера была звезда английского балета, а сегодня играет на тромбоне в оркестре у своего любовника. Люди что хотят, то и делают. Буквально что в голову взбредет. Потому что не боятся. Сегодня он здесь, завтра на другом конце планеты. Я это почувствовал на Западе – вы знаете, меня же теперь в поездках не стесняют, но разве можно сравнивать? Я в восторге от Лондона. И знаете ли, в Лондоне даже вода лучше. Ей-богу. Когда я был у Шурки в Чикаго – вы знаете Шурку? Был мальчиком на побегушках в „Известиях“, а сейчас ведущий колумнист [14]14
От слова «column» – колонка редактора (ред.).
[Закрыть]эмигрантского еженедельника „Чикагская Правда“, – так вот, когда крупнейший специалист по заварке чая Шурка сварганил мне чикагской заварки, я сразу почувствовал: вода не та – у меня желудок крайне чувствительный, не ошибается. А вот в Лондоне он у меня функционирует отлично. Или возьмите молоко. Молоко здесь – просто супер. Я тут на кухне подлил себе молока в чай по-английски, так сказать (я не большой, знаете, охотник до спиртного, разве что по особым случаям или, как сейчас, – с дорожки), и могу вам сказать, что английское молоко по густоте – настоящие сливки. И не удивительно: при такой сочной траве!»
«Это и были сливки. Для клубники со сливками. На десерт. Если там что-нибудь после вас осталось», – сказала Сильва.
Куперник слегка покраснел, но быстро оправился: «Впрочем, после московской безликости все кажется таким сочным, густым – даже сливки принимаешь за молоко, ха-ха. Конечно же, кофе лучше всего в Италии. Бывали ли вы в Италии? Я по-итальянски совершенно не кумекаю, но везде, знаете, наш брат эмигрант. Я там встретил небезызвестного Джона. Может быть, слышали? Тот самый Джон, который торчал в Москве у Гены в квартире. Я с ним, правда, в Москве не пересекся, но зато знаком с одной девицей из Ирландии – у меня с ней был „одноразовый ночлег“, как говорят англичане, – она в разводе с одним москвичом, а он был приятелем Гены, и у Гены она-то и встречалась с Джоном. Так вот я к чему все это: стоило мне упомянуть ее имя Джону – он тут же устроил мне свидание с Римским Папой через Евгения».
«Вы что, разве еще и католик?» – пробормотала Мэри-Луиза. Было бы приятно узнать, что Куперник к тому же еще и католик. Коммунист, еврей и к тому же еще и католик – о чем еще может мечтать девушка, встающая каждое утро с левой ноги в этой стране? С каждой минутой становилось очевидным, что этот болтун и есть душа собравшегося общества. «Так вы правда католик, фактически?» – переспросила она Куперника, возбуждаясь на глазах.
«Эхм-м-м, скажем так: религия моя – поэзия. А по происхождению я – еврей. Я еврей, он, Папа, поляк, наши судьбы увязаны, так сказать, в России. И представляете, какое совпадение? Евгений теперь – при Ватикане. Он православный, но они его взяли по экуменическим соображениям. Русское происхождение, знаете ли, козырь в наше время. Вы, конечно, слышали про Евгения? Если не слышали про него, заведомо слышали его: он работал диктором на советском радио. Так вот: его взяли диктором на радио Ватикана. Служба иновещания. Чудесно он, должен сказать, устроился. У них там на территории радио своя продуктовая лавка: сигареты там, колбаса, булки, коньяки с консервами – и все по сниженным ценам, субсидированное, без налогов. И вообще, как я погляжу, наш брат эмигрант неплохо устроился. Куда ни попадешь – везде наши, хе-хе, людишки. Настоящая эмигрантская империя – какие только страны мы не захватили. Даже в Австралии есть наши люди, не считая русских китайцев с незапамятных времен. Мой приятель писал, что ездит на работу на кенгуру».
«Не на кенгуру, я думаю, а на „ягуаре“. Это марка автомобиля», – поправила его Мэри-Луиза.
«Век живи, век учись, набирайся западной премудрости. Вот так я и чувствовал себя на площади Святого Петра. Пытался пробиться как можно ближе к Папе Римскому. Евгений мне достал пропуск. Но там такая толпа, можно подумать: ты на первомайском параде на Красной площади – с одной, правда, существенной разницей: на площади перед Святым Петром, перед трибунами, так сказать, сплошные инвалиды, в инвалидных креслах и колясках, на костылях, ждут папского благословения. Я между костылями просунул голову, и, когда Папа повернулся в нашу сторону, я не удержался и как закричу: „Я русский, я русский!“ И скажу вам: я видел собственными глазами – у него уши шевельнулись. Как антенны: откуда, мол, исходят родственные звуки? Повернулся в нашу сторону. Огляделся – и пошел прямо ко мне. Инвалиды все расступились, дали мне пройти вперед, прямо к барьеру. Я стою, коленки дрожат. Папа подошел и – представляете? – католический, понимаете, поляк у русского еврея, взял мою руку и сжал в своей, как-то очень доверительно. Знаете, какие у него ладони? Такие бывают только у скульпторов, от работы с глиной».
«Скульптурой у нас занимается только Карваланов», – сказал Феликс. «Точнее – занимался. Он в тюрьме строил пластилиновый замок. Сильва, какие у него руки – шершавые?» – с плохо скрытой агрессивностью обратился он к Сильве на диване, заметив, что та сжала в своих руках ладонь Виктора.
«Шершавые? Вот именно что нет!» – возбужденно воскликнул Куперник. «Именно не шершавые, наоборот: потрясающей гладкости ладони. Тот, кто работает с глиной, у того руки сильны, но нежны: кожа на руках как будто выглажена утюгом от долгого трения о глину». Сжав ладонь Мэри-Луизы в своих руках, Куперник состроил елейную физиономию и продолжал: «Папа Римский сжал мою руку в своей – вот так вот, приблизил свое лицо и спросил интимно так: „Вы – русский?“ По-английски спросил, но в этом вопросе было понимание всей нашей советской ситуации. В его голосе была и жалость, и сочувствие, и озабоченность судьбой России под игом коммунизма. Он заглянул мне в глаза и выговорил: быстро-быстро, обращаясь именно ко мне, и ни к кому другому. А я стою, остолбенев, и не знаю, как себя вести, даже забыл поцеловать ему руку, к ручке святейшей забыл приложиться – а вокруг камеры щелкают, запечатлевают эту невероятную эпохальную встречу».
«Так что же он сказал? О чем спрашивал? Про советские танки в Европе?»
«В том-то и ужас. Понятия не имею, о чем он со мной говорил. Дело в том, что говорил он со мной исключительно по-польски. А я по-польски знаю только „дзенькую, пане“ и „пся крев“. Так что и по сей день я в полном неведении, что же он мне сказал, какие великие слова мудрости и утешения проповедовал. Может быть, он что-то даже просил передать русскому народу в моем лице, какие-то великие слова напутствия, предупреждение о роковой опасности, слова поддержки, благословения. Ужас. Сам Римский Папа произнес передо мной историческую речь, а я не могу воспроизвести из нее ни слова».
«И с тех пор вы и переводите подряд сплошные псалмы?» – спросила Сильва.
«Скорее наоборот: перевод псалмов привел меня к этой исторической встрече. Я всегда придерживался точки зрения Оскара Уайльда, что жизнь имитирует литературу, а не наоборот. Кстати, кто-нибудь уже выразил желание послушать мои переводы псалмов?» – осведомился он у Сильвы конфиденциальным тоном. И нервно, как и полагается поэту перед публикой, оглядел шумное сборище.
Те, кто стоял в одной с Куперником кучке, стали непроизвольно осматриваться вокруг, боком и незаметно отодвигаясь в другой угол комнаты, стараясь вежливо и аккуратно уклониться от приглашения Куперника. Все были давно уже далеко не трезвы, и перспектива выслушивать псалмы выглядела малопривлекательной. Положение спас очередной стук в дверь. Это был бывший московский философ Сорокопятов, гигантского роста человек, отличающийся прямотой взора и двойственностью взглядов («Двойственность как амбивалентность», изд-во МГУ им. Ломоносова, Москва, 1968 г.), как считают, из-за двойных – от близорукости и дальнозоркости – очков.
«Неужели вам не нравится мой берет?» – спросил он Сильву, вытирая этим беретом пот со лба.
«Не нравится», – ответил вместо нее искусствовед Браверман, бывший начальник Сильвы и Людмилы по музею. «Я не хочу сказать, что берет сам по себе плох. Ничего против берета не имею. Заверяю вас. Мне не нравится, что вы, Сорокопятов, напялили его на себя и этим как мудак гордитесь. Мне не нравится, что вы в нем похожи на клоуна».
«Я не оскорблен тем, что вы, дражайший Браверман, сравнили меня с мудаком. Философ способен извлечь полезный урок из каких угодно оскорбительных определений его как философа. Но философия, мой дражайший Браверман, это клоунада. И я, в некоем, амбивалентном, смысле клоун, с вашего любезного разрешения. Отсюда и клоунский берет».
«Настоящая философия, может, и клоунада. Но я, как искусствовед, скажу вам, Сорокопятов, как отличить настоящего клоуна от поддельного мудака. Настоящий клоун никогда вне арены не наденет берет, который делает его похожим на клоуна. Настоящий клоун знает разницу между ареной и жизнью. Заверяю вас. В жизни такой берет настоящему клоуну не к лицу. А вам этот берет – весьма к лицу. И поэтому вы – не настоящий клоун».
На каждое слово Сорокопятова у Бравермана тут же находилось десять возражений или же одно, емкое, на каждые десять слов Сорокопятова. Суть конфликта между ними была загадочна и одновременно проста, как всякий эмигрантский миф. За годы, проведенные за границей, каждый вышел за границу самого себя и изменился; но каждый различал эту метаморфозу лишь в другом, себя же видел как верного прежним идеалам и, следовательно, обманутого близким другом, превратившимся в заклятого врага. Присутствие Карваланова, явившегося из другого мира, где время для всех них остановилось, заставляло присутствующих вести себя друг перед другом как на экзамене. Каждый из них был или близким знакомым, или хорошим знакомым близкого приятеля, за исключением, конечно, неизбежных славистов или защитников прав человека обоего пола. Старых знакомых Карваланов помнил как легких и разудалых, уверенных в себе завсегдатаев дружеских пирушек, посиделок и толкучек, где у каждого была своя, подробно расписанная, уникальная роль. Здесь же, оказавшись вне своего узкого круга, человек как будто вывернулся наизнанку, перелицевался, как старое пальто из темного чулана, и стал демонстрировать те стороны своей натуры, которые, как ему казалось, он был вынужден скрывать, замалчивать и утаивать там. Вместо шумного, но складного в своей хаотичности разговора получался крик, взвизг, перебив и пауза.
Те из русских гостей, кто, оказавшись за границей, открыли в себе славянофилов (на безопасном от славян расстоянии), стали тут же презирать всяческую иностранщину, то есть «туземные обычаи» и, в частности, а-ля фуршет в стоячку. Они пролезли к накрытому в углу столу, уставленному закусками, успели захватить несколько разбросанных но комнате стульев и забаррикадировали своими спинами проход к столу для остальных. Закуски варьировались (как сказал бы поэт-переводчик Куперник) в той же степени, что и паспорта и этническое происхождение приглашенных: от нашей российской селедки голландского производства до копченой ветчины «парма», начиненной пастой из французского «бурсана» с тертым авокадо из итальянской деликатесной лавки. Устав от перепалки по-русски между Сорокопятовым и Браверманом, часть славистов перешла на английский, и в этом Вавилоне соскучившаяся Мэри-Луиза запустила проигрыватель с двумя усилителями на самую большую громкость. Хотя усилители и были десятилетней давности и неказистые на вид, их мощности было вполне достаточно, чтобы вызвать протесты соседей снизу.
Мистер Макрель был в халате, из-под которого выглядывали ностальгические мужские аксессуары – кальсоны с армейскими штрипками; личико его супруги миссис Макрель можно было едва различить из-под батареи пластмассовых катушек-бигуди: они свисали с ее головы, как будто вцепившиеся в нее гигантские паразиты-насекомые. Всякий раз (а приходили они раза четыре в течение вечера, грозясь полицией) им приходилось заново объяснять, кто они такие, потому что всякий раз они попадали на очередного «русского» и всякий раз этот «русский» оказывался менее трезв и более фамильярен, чем предыдущий. Виктор, услышав, что они соседи снизу, заметил: «Вы хотите сказать, что вы ниже нас?» Сорокопятов удивился, почему жалуются только соседи снизу, а сверху никаких жалоб не поступает, на что соседи Макрели резонно сказали, что соседей сверху просто нет, там никто не живет, поскольку это уже верхний этаж, а выше «только небо, и больше ничего», что вызвало агрессивное недоумение Сорокопятова: «Вы отрицаете существование Бога и ангелов?» Оказавшийся рядом Браверман тут же затеял спор: «А вам, Сорокопятов, даже небо надо обязательно заселить своими друзьями и приятелями, чтобы было куда бежать в случае чего?» Спальня супругов Макрелей расположена прямо под гостиной Ms Silva Lermontov's – сказали супруги Макрели, и они не могут заснуть уже который час под эти танцы и споры о Боге. Феликс поставил под сомнение местоположение супружеской кровати Макрелей, потому что ни разу не слышал ни единого скрипа – или же супруги Макрели вообще не занимаются этим делом? На что мистер Макрель сказал, что это не его, Феликса, собачье дело, чем англичане занимаются по ночам; их супружеская кровать стоит там, где она стоит уже десять лет, и он не собирается из-за каких-то иностранцев менять свои привычки и местоположение своей супружеской кровати. Мэри-Луиза в ответ предложила Феликсу передвинуть свою кровать в гостиную и заняться сексом по-русски так, что грохот будет стоять на весь дом круглые сутки и Макрели еще вспомнят танцы и разговоры о Боге как райскую музыку.
И в качестве живого примера Мэри-Луиза подхватила Виктора и пустилась в пляс, заключавшийся в трясучке на месте, плотно приклеившись друг к другу. «Макрели и секс – вещи несовместимые. Рыбы не трахаются. Это очевидно. Живя в Англии, перестаешь, фактически, этому удивляться. Вам, Карваланов, полезно будет знать, что тут дошли, фактически, до того, что женщине в глаза актуально вообще не смотрят. А если на меня не смотрят, как я, фактически, могу понять, хочет ли мужчина, чтобы я, фактически, посмотрела на него? И если до меня не дотрагиваются, фактически, как я могу захотеть, чтобы до меня дотронулись? Если под кирпич не лечь, вода не будет течь, не так ли?»
«Какая вода? Какой кирпич?»
«Из русской пословицы», – сказала Мэри-Луиза.
«Под лежачий камень вода не течет», – подсказал фольклорный источник Феликс, привыкший к переводным выкрутасам идиоматической Мэри-Луизы.
«Вот именно: под лежачий», – сказала Мэри-Луиза. «Но надо сначала лечь, фактически? С кем, спрашивается? Английские мужчины так боятся потерять свою мужскую чистоту и невинность, что, фактически, предпочитают трахаться сами с собой. Вы, Виктор, как диссидент, меня понимаете».
«При чем тут диссидентство»?
«Как при чем? Какая у вас жизнь, у русских диссидентов, фактически? За границей вы общаетесь исключительно с лордами, а у себя дома все время проводите в тюрьме. А в тюрьме известно чем занимаются. Советская тюрьма – рассадник английских традиций мужского шовинизма: содомия и мастурбация – чем еще в тюрьме заниматься? А в результате куда ни глянь – кругом одни педерасты и онанисты. Исключительно из-за этого я против советской политической системы: она сексуально развращает!»
«Насчет секса в обеих системах», – влез буквально между ними поэт-переводчик Куперник. «Я ведь одной ягодицей, так сказать, на Западе, другой – на Востоке, если вы понимаете, что я имею в виду. Что поражает в западном сексе – это просто невероятная вежливость. Поддерживается везде этот стандарт вежливости, я заметил, взять к примеру рестораны и супермаркеты. Возвращаясь к нашему дискурсу насчет секса – зашел я на днях в секс-шоп в самом сердце вашей прекрасной столицы, в Сохо. В этой магической лавке сексуальных древностей представители славной британской нации и других западных народов, с характерной для британцев парламентской толерантностью и неагрессивной курьезностью (а по-нашему, с любопытством), разглядывали различные изобретения домашнего и заграничного изготовления, остроумно произведенные для удовлетворения эротических фантазий и вытеснения различных либидо из подсознанки в эпоху сексуальной революции. Резиновые члены различных размеров, короче говоря. Вагины надувные разнообразных форм и оттенков, жопы всякие раскоряченные. А от журнальчиков я, вы знаете, прямо-таки зарделся. А я ведь человек привычный. Казалось бы – ну куда дальше? Разоблачились друг перед другом в стриптизе до самых гениталий, до самых яиц и внешних половых губ. Но вот что курьезно: бихевиоризм, то есть поведение публики, разглядывающей эти аппендиксы постельных экзерсисов и экзистенций. Стоит кому-нибудь задеть случайно локтем соседа – пока тот тоже с головой ушел в срамные губы, перепутанные с пенисами, – как оба поворачиваются друг к другу и с невозмутимыми физиономиями откланиваются: „Экскьюз, сэр“, или: „Пардон, сэр“, или: „Виноват, сэр“, или что-нибудь в этом роде, крайне вежливое. И вежливость эта – свидетельство уважения к приватному миру другого, свидетельство укоренившейся в сердцах и половых органах парламентской демократии, которой нам, прямо скажем, не хватает в России!»
«Находясь, с вашего любезного разрешения, среди людей по сути своей российских, позвольте мне воспользоваться отсутствием среди нас парламентской демократии и приватности и вторгнуться – без применения половых органов, ха-ха – в ваш диспут о сексе», – зазвучали из-за спины Куперника профессорские зигзаги Сорокопятова. «Но прежде всего позвольте поцеловать вашу ручку».
«Чью ручку?» – шарахнулся от него Куперник. Сорокопятов тем временем склонился, как будто сложившись вдвое, над ручкой Мэри-Луизы.
«Вы уже один раз сегодня целовали», – хихикнула Мэри-Луиза.
«Но это была другая рука», – сказал Сорокопятов.
«Никакая не другая – все та же правая рука», – сказала Мэри-Луиза.
«Это с вашей точки зрения это – правая рука. А с моей точки зрения – она левая. Понимаете?»
«Но рука-то моя. Правая».
«Дело не в том, чья рука, а кто ее, так сказать, целует. В прошлый раз я целовал вашу левую – со своей точки зрения – руку, в то время как сейчас я приложился к правой – с вашей точки зрения – руке, и это, уверяю вас, совершенно разные руки по своей идее. Один из резонов, по которым я, философ фуевый, с вашего любезного разрешения, решительно отмежевываюсь от России и считаю себя западником (хотя в других обстоятельствах я оставляю за собой право называть себя славянофилом), состоит в том, что я ценю исключительно идеи, а не их воплощение, материализацию. Я преклоняюсь (а ведь это одна из эротических позиций) перед сексуальной революцией на Западе, поскольку эта революция – концепция в чистом (не в гигиеническом, конечно, смысле) виде. Меня, западника, в сексе больше не интересует оргазм, как в жизни меня не интересует смерть. В жизни меня интересует идея жизни, как и в совокуплении сам процесс, идея соития, если вы понимаете, что я имею в виду. И рассказ нашего любезного гостя – Коперника, если не ошибаюсь? – лишнее доказательство чистоты сексуальной идеи на Западе: секс существует исключительно в голове. А в мире сугубой материальности, в мире внешнем, – никаких тебе, Боже упаси, касаний! Еще раз вашу ручку, Мэри-Луиза!»
«Уверяю вас, секс и революция в России – одно и то же. А поскольку секс – это смерть, то секс в России еще связан и с, прошу прощения, КГБ».
«Недаром КГБ и называется органами безопасности», – сострил Феликс.
«Как вы, профессор, правы, как правы!» – с энтузиазмом воскликнул Куперник. «Я тут попробовал сеанс психоанализа – знаете, исключительно из-за любопытства, не подумайте, что у меня с извращениями что-то не в порядке, у меня все в порядке. Да и что такое психоанализ, как не гипотеза о том, что у нас, мол, в мозгах половой орган, – западная, как вы правильно, профессор, заметили, концепция, к нам не имеет отношения, казалось бы. Но поскольку, как правильно Феликс указал, КГБ – это тоже органы, у нас пол и секс мешается с КГБ, сидящим у каждого в мозгах, не так ли? У меня, во всяком случае. Мне было лет двадцать, когда меня вызвали в КГБ. В году 52-м, что ли? Прямо перед смертью Сталина. До сих пор не ведаю, за что тянули. Может быть, потому, что моя фамилия – Куперник, из Щепкиных, знаете, переводчица Шекспира? Так что, может быть, в рамках борьбы с космополитизмом, за переводы с английского? Но Пастернак тоже Шекспира переводил, а его никто на Лубянку не вызывал».
«Его не было необходимости вызывать на Лубянку. Ему Сталин лично позвонил».
«Мне, к сожалению, Сталин не звонил. Выхожу на Лубянку, пл. Дзержинского, памятник Железному Феликсу стоит на ветру, не колышется. Мороз. Обычно люди мимо этого серого здания несутся что есть силы, на всех, как говорится, парах, а тут смотрю: прохожие застыли, как треска замороженная. Стоп, как говорится, машина. Подхожу ближе и вижу: даже охрана, марширующая взад-вперед перед подъездом, тоже как будто заиндевела, замедляет шаг и вообще останавливается. Я пробился сквозь толпу – и тут я его и увидел: ходячее воплощение проблемы секса, политики и карающих органов. По тротуару медленно вышагивал гражданин. Ситуайен Советского Союза, как сказал бы француз. Торжественная выправка, подбородок с бородкой задран вверх горделиво. Но главное: ситуайен этот был совершенно голый. С каждым шагом его гениталии – внушительного, знаете ли, размера – раскачивались между ног. Более жуткого по антисоветскости жеста, провокационного, как сказали бы молодые английские артисты, перформанса, чем эти раскачивающиеся гениталии, я себе до сих пор представить не могу. А еще страшней было его лицо: бородкой, усами, зачесом, знаете, с пробором было точной копией, экземпляром, ксероксом, прямо скажем, бронзового Дзержинского на пьедестале в центре площади. Прямо-таки памятник снял бронзовые штаны и зашагал по тротуару, раскачивая, извините, пенисом. Охрана онемела, загипнотизированная прямо-таки этим богохульством. А он им показывал свой беспартийный член и этим говорил: а пошли вы все сами знаете куда, не при дамах будет сказано, на хрен. Вот и была для меня натуральная сексуальная революция. Глядя на этого голого гражданина советского ситуайена, перед онемевшими охранниками в шапках и шинелях, я решил в КГБ в тот день не ходить. Я почувствовал себя таким же голым, как этот синий от мороза обнаженный человек. И я решил эту голизну держать при себе».
«А что же с человеком произошло? С голым Дзержинским?» – спросила Мэри-Луиза.
«Один из охранников, что ли, или милиция подоспела со стороны, не помню, – кто-то из официоза пришел, короче, в чувство, подбежал и накинул на голого наглеца шинель. Но вот что не учли: он в шинели стал походить еще больше на бронзового Дзержинского с постамента, разве что босиком. Однако вообразите, как только голизна была прикрыта, эффект гипноза исчез: он стал одним из сотен гомо советикусов на тротуаре. Еще одним, так сказать, Дзержинским. Охрана и милиция тут же очнулась, поднялась на защиту родины: схватили его под грудки, поволокли по тротуару, след кровавый за ним из-под шинели».
Тишина воцарилась в комнате, как будто присутствующие оказались на поминках по этому сумасшедшему, забитому насмерть. Большинство гостей сгрудились интимным кругом около вещавшего Куперника, и голос его звучал как будто бы по радио с другой планеты.
Все это время Виктор молчал, слушая на редкость внимательно, а потом спросил:
«А вы как? Вас же вызвали повторно?»
«Вызвали. Но тут Сталин умер. И вызывать перестали. Так что шансов на мученичество у меня не осталось», – иронично улыбнулся поэт-переводчик, он занялся тарелками с едой, как рабочий человек, отработавший свой хлеб насущный. Глупая аудитория с ее идиотскими вопросами его больше не интересовала. Виктор для него был не более чем еще одно лицо в толпе. Явно раздраженный этой заносчивостью и надменностью манер, Виктор потянул за собой Феликса и Сильву. Все трое, оказавшись в стороне от остальных, чувствовали себя, как вражеские лазутчики в осажденном городе. Отгородившись спиной от гостей, Виктор зашептал:
«Это что за тип, откуда он взялся?»
«А я откуда знаю?» – пожал плечами Феликс. «Из общества британо-антисоветской дружбы. Я вообще думал, это твой знакомый. Ты с ним так по-приятельски трепался».
«Я? Только после того, как ты его стал хлопать запанибратски по плечу и со всеми знакомить».
«Что значит запанибратски? Вполне по-приятельски, да. Почему бы нет. А как еще? Он назвал имена всех моих лучших московских приятелей. Рассказывал разные новые анекдоты московские. Почему бы нет».
«Какие анекдоты? Почему московские? Разве он из Москвы?»
«Так он, по крайней мере, утверждает. Я-то сначала подумал, что он из Иерусалима. Он рассказал массу иерусалимских историй. Какую мазь от мандавошек надо спрашивать в иерусалимских аптеках, если чем заразишься на тель-авивских пляжах. Я думал – он оттуда».
«Позвольте, но мне он рассказывал про Париж, я была уверена – он из Парижа. Прекрасно знает Кешу и Вичку и вообще все тамошние эмигрантские склоки».
«Просто он много путешествует», – сказал Феликс. «Пока мы тут гнием».
«Ну пускают его в загранку свободно, чего тут особенного? Ну советский поэт, ну выездной переводчик».
«Ну?»
«Чего – ну?»
«Ну что ты хочешь сказать про нашу злобу и подозрительность?»
«Я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что он милый стареющий человек, и мне этого достаточно. Кроме того, он появился с рекомендациями от Пашки. Милый человек. Только слишком много говорит. Говорит и говорит».
«Кто такой Пашка?»
«Ну, это брат Лики. Вроде бы».
«Какой такой Лики?»
«Ты знаешь, я сама не помню. Когда он назвал Лику, мне показалось, я понимаю, кого он имеет в виду. Это действительно бывшая московская любовница Сорокопятова. Так сказал Роман. Лично я ее совершенно не помню. Скорее всего, так оно и есть. Я любовниц Сорокопятова не считала».
«А что говорит Сорокопятов?»
«Что, скажи на милость, Сорокопятов может сказать, „с вашего любезного разрешения“, если он упорно называет Романа – Щепкиным».
«Понятно. Чего еще ждать от Сорокопятова. А кто такой Роман?»
«Как кто такой?! Он и есть поэт-переводчик. Роман Куперник».
«Роман переводит Поэму. Интересного жанра человек!»
«И чего же он переводит?»
«Перепер он нам Шекспира на язык родных осин»?
«Да нет, знаешь, он все больше загоняет национальные меньшинства в лоно великого и могучего русского языка».
«К зырянам Тютчев не пойдет».
«Он сам рассказывал про то, как он деньги зарабатывает переводами с подстрочника всяких Тамерланов и Чингизханов. Но по ночам его небось совесть мучает: а если он помрет и Бог его спросит – а ты, Куперник, еврейская душа, что ты всю жизнь делал? Первомайские стихи переводил с узбекского? А он раз – и вынет из кармана свои переводы еврейских псалмов».
«Вам главное – высказать свое мнение, точнее, предубеждение против человека, а о его судьбе вы догадаться не хотите», – сказала Сильва.
«А чего догадываться, когда эта судьба у него на физиономии написана».
«Но вы можете ошибаться».
«Я предпочитаю ошибаться, но держаться подальше на всякий случай», – сказал Виктор.
«Ну конечно. Вы свое политическое убежище уже заполучили. Все остальные – агенты, менты, сексоты. Ты знаешь, сколько ему стоило нервов вывезти свои переводы этих самых библейских псалмов? Его могли обвинить в сионизме, в передаче шпионских шифровок – ты уже все забыл».
«Надеюсь, он не собирается просить политического убежища?»
«Ему сказали, что у меня можно переночевать», – сказала Сильва.
«Ну конечно!» – шутовски взмахнул руками Феликс. «Пока что в ночлеге тут никому не отказывали, насколько могу судить? Он уже и обниматься лез, как я заметил. По заду похлопал. Как старший, конечно, товарищ. В общем, чувствую, он хорошо проинформирован о здешних квартирных удобствах».
Сильва размахнулась и отвесила Феликсу пощечину. Звук пощечины, как и выстрела, как и пробки из-под шампанского, всегда заставляет толпу немедленно смолкнуть. Дистанция огромного размера вдруг образовалась между троицей заклятых друзей и всеми остальными гостями. Первой нашлась Мэри-Луиза. Она была единственной, кто вспомнил, ради кого, собственно, они и собрались в этой квартире.
«Мы за Карваланова так и не выпили, фактически. Как насчет тоста в честь прибытия?» – воскликнула она фальшиво приподнятым голосом с южнолондонским акцентом, и все стали шарить в поисках бокалов и бутылок. Бутылки были пусты – все: от французского «Мутон-Кадета» и итальянской граппы до английского «Владивара» и ирландского «Джеймисона».
«Я готов сбегать в магазин», – сказал Виктор.
«Благородный шаг для великого человека», – сказал Феликс. «Но совершенно бессмысленный; после одиннадцати публичная продажа спиртных напитков заканчивается».
«Ну пошли тогда в паб, что ли?» – неуверенно предложил Виктор.
«Паб от слова public. В пабе тебе не дадут выпить после одиннадцати ночи. Запрещено законом».
«Каким законом? Мы взрослые люди. В свободном обществе. Почему?»
«Что значит – почему. Потому что у каждой нации свои законы кошерности. Евреи не едят свинины. Англичане не пьют пива между тремя и шестью. Это богохульство. Это не кошерно. Тут кошерность по времени. И нечего искать тут логики. Нету логики в религиозных установлениях. Иначе они не были бы религиозными».
«Вызывай такси», – сказал Виктор.
«Зачем? Куда?»
«Конечно же не в ночной клуб и не в бордель. Обдерут как липку. Нет, бутылку нам достанет таксист».
«Здесь тебе не Москва. Таксисты тут не продают водку».
«Кто сказал, что водку? Можно и виски. Если таксист не продает, значит, таксист знает, где продают. Некоторые профессии исполняют свои общественные обязанности вне зависимости от политических систем». Виктор вновь обрел контроль над ситуацией. «Это вы здесь закостенели в своем лицемерном следовании местным обычаям, превратились в конформистов и беспрекословно подчиняетесь лицензиям и табльдотам. Сильва, вызывай такси!»








