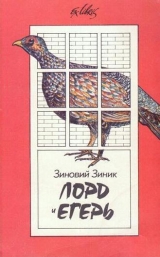
Текст книги "Лорд и егерь"
Автор книги: Зиновий Зиник
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
13
Asylum
«Масштабы постоянно уменьшались», – проглядывал Феликс свои записи. «До миниатюрной деревушки Денхолм пришлось добираться (следуя указаниям Мэри-Луизы) сначала на поезде, до Глазго, потом на автобусе до ближайшего небольшого городка, местного центра, а оттуда уже ничего не оставалось, как взять такси – на что в общем-то нужна смелость и решительность: из-за страха, что шотландский выговор таксиста усугубит твою неспособность нормально выговорить неудобоваримое шотландское название крошечной деревушки. До самого дома Дженнифер Вильсон, шотландской тетушки Мэри-Луизы, такси добраться не могло: был прилив, и дорогу, соединяющую две части холма, затапливало, так что пройти надо было пешком по мостику. Островная культура не желала довольствоваться отделенностью от континента. Внутри этой культуры каждый отделялся от других еще своим собственным островом. Лишь масштабы этой отделенности с каждым этапом уменьшались. Даже дом тетушки сузился до масштабов миниатюрного островного пятачка так, что и домом его не назовешь. Это была перестроенная башня бывшего местного маяка – при небольшой заводи озера-лоха: в ту эпоху еще кому-то приходило в голову ловить рыбу не для собственного удовольствия, а на продажу, и рыбаки построили себе маяк. Продавать рыбу уже было некому, озеро отступило от берегов, никто уже, кроме редких туристов, не выплывал по ночам на лодках с рыболовными сетями. Башня маяка была отдана местному священнику – отцу Дженнифер Вильсон. Он выбрал эту башню по собственной инициативе, из символических соображений, поскольку религия несет свет, она – маяк для заблудших душ, и не рыбаком ли был Спаситель, ловящий в сети души человеческие?
Все это семидесятилетняя Дженнифер Вильсон объясняла походя – быстро, четко и не слишком понятно, бегая вверх и вниз по дому, пытаясь напоить гостя – то есть меня – чаем. Чайный сервиз стоял на втором этаже, плита была на первом этаже (а спальня на третьем) этой башни, но слово „этаж“ тут – слишком помпезно, потому что дом, как всякая башня маяка, состоял главным образом из лестниц. Жилое пространство ограничивалось тут, по сути дела, лестничными площадками; между ними вверх и вниз сновала неутомимо хозяйка этой башни. Она была похожа на суетливую добросовестную уборщицу – в очках с железной оправой, в застиранной синей юбке и заштопанной шерстяной кофте домашней шотландской вязки. Она, собственно, и была всю жизнь уборщицей – мыла полы в чужих домах, была у всех на побегушках, прислуживала всю жизнь отцу, когда тот был здоров; а когда впал в маразм, провела при нем всю остальную жизнь сиделкой.
В возрасте шестидесяти шести лет (рассказывала она, поблескивая выпуклыми очками) он забросил дела своей паствы и стал готовиться к паломничеству в Иерусалим. Однако врачи запретили ему (слабое сердце) столь опасное и изнурительное путешествие. Отец Вильсон был, однако, непримирим. Поскольку (сказал он) смысл всякого паломничества – в духовном опыте и упорном преодолении расстояния на пути к святым местам, он готов совершить это духовное паломничество от Денхолма до небесного Иерусалима, совершая круги вокруг своего дома и молясь в промежутках во время остановок. Каждое утро он выходил за дверь с котомкой и посохом в руках, совершая ежедневный обход своей башни, всегда держась направления на Восток, в сторону Иерусалима (то есть против солнца). (Стоит, кстати, припомнить, что наш российский, раскольнический патриарх Никон ввел хождение вокруг аналоя, в чине крещения и венчания, против солнца, тогда как ранее было принято движение в обратном направлении, „посолонь“, и это кощунственное нарушение обряда противники Никона считали дьявольским наваждением.) Каждый день старик Вильсон преодолевал положенное количество миль, с коротким перерывом на обед. В этом паломничестве его всегда сопровождала верная дочь Дженнифер, с валокордином наготове на случай сердечного приступа. Сущим проклятием в ходе этого религиозного испытания были перерывы на обед под открытым небом. Как всякая шотландская семья той эпохи, семейство Вильсонов было весьма неприхотливо в быту. Лишь в прошлом году, сказала Дженнифер, к дому подвели водопровод; о горячей воде и до сих пор речи не шло. Отапливался дом одним-единственным убогим камином. Однако, учитывая особенности шотландского климата, пикник с хагесом и вареной репой в осенние дни на берегу шотландского лоха вряд ли придется по сердцу даже самому неприхотливому из шотландских стоиков, вроде Дженнифер Вильсон.
Неповторимы в своем блистательном величии холмы и озера вокруг Денхолма – стоит лишь на мгновенье выглянуть солнцу. Глаз тут же замечает, как воркует дикий голубь и белая коноплянка, как черный дрозд суетится среди деревьев, как через поле, покрытое июльской ромашкой, пробирается шотландский платок и синяя шляпка. И над священной Шотландией как сновидение проносится Суббота. Но мгновения эти редки настолько, что, бывает, неделя за неделей проходит без небесного просветления, когда невозможно различить границы между холмами земными и тучами небесными, слившимися воедино в потоках дождя, заставляя нас вспомнить библейские дни до введения Создателем шестидневной рабочей недели. Добавьте ураганные ветры со снегом в зимние месяцы, и можно себе представить отчаяние Дженнифер Вильсон на последнем этапе паломничества, когда ее безумный отец располагался под дождем и снегом на голых камнях, чтобы приступить к скромной трапезе паломника.
Всякое паломничество, однако, имеет конец – хотя бы географический. В один прекрасный день отец Вильсон сверился со своими геодезическими расчетами и торжественно объявил своей дочери: „Ну вот мы и прибыли в Иерусалим“. Радости Дженнифер не было предела. Но не тут-то было. „Не знаю, как вы, дочь моя“, – добавил священник, – „но я решил здесь и остаться, чтобы провести остаток своих дней в Святой земле. Вы же вольны возвратиться в Шотландию“. Он вошел в дом и остальные четыре года до своей смерти не выходил из своей комнаты, воображая, что сидит в Сионе у стен Иерусалимских. Кроме Псалтыря, он, в минуты отдохновения, читал единственно достойное, с его точки зрения, литературное произведение – драму в стихах своего двоюродного деда, Джона Вильсона, под названием „Чумный город“, „The City of the Plague“.
Оставалось лишь ахать и поражаться энциклопедичности этой шотландской тетки с лицом уборщицы в холодной башне с глинобитным полом и дымящим, коптящим камином. Она слышала и о Пушкине, без всякой, естественно, связи с ее двоюродным прадедушкой, Джоном Вильсоном („Push-kin, hey? Near kin to us because of John Wilson?“ [12]12
«Пуш-кин, да? Почти родня нам – из-за Джона Вильсона?» (англ.) (ред.).
[Закрыть]), потому что у отца-священника была довольно обширная библиотека и недурной литературно-семейный архив. Эта обманчивая простота чужеродных лиц! И искаженная географией перспектива литературных репутаций. Джон Вильсон в русской литературе – лишь примечание к поэме Пушкина „Пир во время чумы“. Но в пушкинские времена – точнее, во времена Вордсворта – в литературных кругах Лондона и Эдинбурга Джон Вильсон, как излагала его двоюродная правнучка, был фигурой номер один. Он был редактором крупнейшего литературного журнала той эпохи „Блэквуд“. Он был профессором на кафедре моральной философии Эдинбургского университета. Он был пророком литературных репутаций. Он создал легенду и миф вокруг имени своего друга Томаса де Куинси (автора нашумевшей „Исповеди курильщика опиума“), он был фанатичным поклонником и младшим другом великого Вордсворта (который и познакомил его с де Куинси). Его пародийной стенограммой разговоров с великими современниками (Джеймсом Хоггом, Локкартом и др.), Noctes Ambrosiane, подписанной пародийным псевдонимом Кристофер Норт, зачитывались все дома Шотландии. Там, кстати, есть любопытное рассуждение об изгнании добровольном и вынужденном. Этот Джон Вильсон (Кристофер Норт) явно недолюбливал эмигрантов.
Излагая все это, семидесятилетняя Дженнифер Вильсон, как энтузиастка-школьница, порхала вниз и вверх по этажам в поисках собрания сочинений Джона Вильсона, Esq., автора поэмы, которую мы помним лишь благодаря Пушкину.
…I have witness’d
A sight more hideous still. The Plague broke out
Like a raging fire within the darksome heart
Of a huge mad-house; and one stormy night
As I was passing by its iron gates,
With loud crash they burst open, and a troop
Of beings all unconscious of this world,
Possess’d by their own fearful phantasies,
Did clank their chains unto the troubled moon
Fast rolling through the clouds. Away they went
Across the glimmering square! some hurriedly
As by a whirlwind driven, and others moving
Slow – step by step – with melancholy mien,
And faces pale in ideot-vacancy.
For days those wild-eyed visitors were seen
Shrieking – or sitting in a woeful silence,
With wither’d hands, and heaps of matted hair!
And they all died in ignorance of the Plague
That freed them from their cells.
……………………………………………………
Yet two such wretches have I chanced to see,
And they are living still – far better dead!
For they have lost all memory of the past,
All feeling of the future.
(…свидетелем я стал
Чудовищного зрелища. Чума
Наружу прорвалась бушующим огнем
Из сердца мрачного приюта
Умалишенных. Ночью в непогоду
Я проходил мимо ворот железных,
Вдруг с грохотом раскрывшихся. Толпа
Существ, которым здешний мир неведом,
Своими страшными фантазмами гонимых,
Цепями грохотала, угрожая
Запуганной луне, сквозь облака
Катящейся. И прочь ушли. Одни —
Поспешно будто ураганом
Унесены. Другие продвигались
Шаг за шагом, с печальным выраженьем лиц,
Идиотически пустых и бледных.
И все они отбыли в мир иной,
Не ведая Чумы, им волю даровавшей.
……………………………………………………
Однако двух несчастных из толпы
Умалишенных я встречал. Они
Все тянут лямку. Я бы предпочел
Подобной жизни – смерть. Их память
Лишилась прошлого. Их чувствам —
Будущее недоступно.)
Этого отрывка у Пушкина в переводе тоже нет. Странно, потому что тема безумия в его версии пира во время чумы так или иначе присутствует (скажем, Председатель „сумасшедший, он бредит о жене похороненной“). Более того, ряд самых пронзительных пушкинских строк посвящен выбору – между безумием и чумой: „Не дай мне Бог сойти с ума. Уж лучше посох и сума. Уж лучше мор и глад“. Может быть, Александр Сергеевич просто не дочитал до этого места: как-никак, а сто двадцать седьмая страница! У кого, кроме пушкиноведов, хватит терпения?!
Before I fell into this dream, I saw
A most magnificent and princely square
Of some great city. Sure it was not London?
No – no – the form and colour of those clouds
So grim and dismal never horrified
The beautiful skies of England, nor such thunder
Ever so growl’d throughout my native clime.
It was the capital city of a kingdom
Lying unknown amid unvoyaged seas,
Where towers and temples of an eastern structure
With airy pomp bewilder’d all my soul.
When gazing on them I was struck at once
With blindness and decay of memory,
And a heart-sickness almost like to death.
A deep remorse for some unacted crime
Fell on me. There, in dizziness I stood,
Contrite in conscious innocence – repentant
Of some impossible nameless wickedness
That bore a dread relation unto me.
(Пред тем как сновиденье захватило
Мой ум, во всем своем великолепье
Передо мной предстала площадь
Какого-то большого города. То был
Заведомо не Лондон. Никогда
Такие облака не омрачали
Очарованье английских небес. Ни разу
Гром рокотом таким не нарушал
Родимых мест благоприятный климат.
То был столичный город царства,
Лежащего средь чужеземных
Морей, где крепости и храмы
Своей восточной пышностью смущали
Мне душу. Вглядываясь в них,
Я чувствовал, как взор мой угасает,
Отказывает память, сердце ноет,
Как при смерти. Душа моя терзалась
Каким-то несвершенным преступленьем.
Перед глазами все кружилось. Искренно
Я не способен был понять, откуда
Те муки совести. Раскаянье – за что?
И за какую такую пакость я, убийца и злодей,
Ужасную ответственность несу?)
Подобных строф, конечно же, нет и не могло бы быть у Пушкина. Он, если бы даже и наткнулся на эти строки, зевая над английским оригиналом драмы в Болдине, отбросил бы, забыл, выкинул бы их из головы немедленно. Подобные мотивы („a deep remorse for some unacted crime“, „repentant of some impossible nameless wickedness“) он щедрой поэтической рукой отгреб в сторону и оставил доедать Достоевскому. Например:
A ghastly old man – and a noble youth,
Yet with fierce eyes that smiled with cruelty,
Came up to me all lost in wonderment
What spots of blood might mean beneath my feet
All over a bed of flowers. The old man cried,
„Where is thy mother, impious parricide!“
……………………………………………………
Until I wept in utter agony.
And all the while I saw my mother’s corpse
Lying in peace before her frantic son,
And knew that I in wrath had murder’d her.
(Старик отвратный и прекрасный отрок,
С кривой ухмылкою, однако, на устах
И злобою в глазах, приблизились ко мне.
А я стоял в остолбененьи
При виде крови у меня в ногах
На ложе из цветов. Старик вскричал:
„Где мать твоя, убийца и злодей?“
……………………………………………………
В агонии я разрыдался. Предо мной
Был распростерт труп матери. Я знал:
В припадке гнева я ее убил.)
То есть, конечно, у пушкинского Бориса Годунова „мальчики кровавые в глазах“ и все такое, но там это оправдано темой цареубийства и самозванства – темой отца. Когда, интересно, тема отцеубийства стала подменяться потерей матери, безотцовщина – лишением материнской ласки (даже слова такого отдельного нет)? Видимо, тогда же, когда трагедия революции перестала быть актуальной и вытеснилась трагедией эмиграции (всякая революция ведет к эмиграции), поскольку революция как всякое свержение власти, авторитета, есть отцеубийство, в то время как эмиграция – это разрыв с родиной, а родина, по крайней мере по-русски, она – мать, родина-мать. Как мало у Пушкина о его родителях. О предках, да, конечно, „Моя родословная“ и так далее. Но непосредственно о родителях – очень мало. Моя матушка, мой батюшка – и все? Надо спросить у пушкинистов». Феликс отложил в сторону исписанные листочки:
«Все, что я успел записать вчера вечером. Однако где тут возьмешь пушкинистов? Мы сами для себя и есть пушкинисты. Не будь Мэри-Луизы, я бы и Джона Вильсона считал сплошной фикцией».
«Давайте-ка лучше обсудим, что мы сегодня будем есть на ужин?» – спросил доктор Генони.
«Куры. Гуси. Почему на лужайке нет ни одного фазана?» – спросил Виктор. «Неужели их всех перестреляли?»
14
Нулевой меридиан
«А теперь подвинь ногу слегка вправо, нет, не правую ногу, а левую ногу – вправо», – говорила Сильва, а Феликс комментировал: «Не ту правую ногу, которая по правам человека, а ту левую, что по вопросам левизны в коммунизме», – и он хохотал хохотком, переходящим в бронхитный кашель. Нелепый в послеполуденном зное. «Теперь ты понимаешь? Ты одной ногой на Западе, а другой на Востоке», – смеялась Сильва. Они стояли (покачиваясь, поскольку уже были несколько нетрезвые) в замощенном дворике Гринвичской обсерватории, над куском рельса, изображающего нулевой меридиан. Балансируя, над ним раскорячился диссидент Карваланов. Герой, страдалец и пророк. Зрелище было комическое.
«Это и есть нулевой меридиан? Вы хотите сказать, что это и есть та линия, которая делит наш земной шар, нашу Вселенную на Запад и Восток?» – Карваланов взглянул себе под ноги, на кусок рельса, разделяющего двор Гринвичской обсерватории – и весь мир – на две половины. Он взглянул на загадочный астрономический прибор, глядящий на него из-под крыши в некую подзорную трубу из-под стекла с таблицей, где было выведено, как на термометре: «East – West» [13]13
«Восток – Запад» (англ.).
[Закрыть].
«Могу тебе сообщить, что, кроме глобальных членений мира, нулевой меридиан, согласно моим домашним расчетам, проходит еще прямо через мою постель – он делит кровать напополам, но по наклонной линии, биссектрисе, что ли, в общем – наискосок», – комментировал Феликс. «Короче говоря, никогда толком, по идее, не знаешь, на Востоке ты или на Западе. Во всяком случае, неясно, где какая, по сути дела, половина твоего тела находится в момент бурных постельных схваток. Я не против, если на Западе находится моя голова – мышление возможно в какой угодно географии и обстоятельствах, и западное одиночество в каком-то смысле даже поощряет мыслительный процесс. Но свое тело, особенно ту его часть, что находится, по идее, между ног, я предпочитаю держать в районе Востока – что вполне понятно при моей склонности к коллективизму и общинности. Так вот, когда я делю свое внебрачное ложе с загулявшей подругой, я иногда даже пугаю свою партнершу до смерти: в апогее любовных экзерсисов вдруг вскакиваю с постели и начинаю по компасу выяснять, куда по отношению к нулевому меридиану фактически сдвинулась кровать и где я оказался в данной постельной позиции; я не хочу целиком и полностью вновь оказаться в восточной части земного шара, сколько бы мне ни твердили о растленном влиянии Запада на Восток и что „железный занавес“ давно весь в дырках. Идеально было бы, конечно, свободно перемещаться оттуда туда и обратно; что, впрочем, фактически и происходит, когда меняешь постельные позы согласно Кама-сутре. Однако эти колебания между Востоком и Западом я все реже и реже стал испытывать на практике».
Сильва скривилась в улыбке. Феликс обращался к Виктору, но предназначалась эта триада для ушей Сильвы. Человек начинает макабрически острить или когда ему совершенно нечего сказать, или же то, что он хотел бы сказать, произнести вслух немыслимо, и чтобы не проговориться – человек острит. Однако и остроты, и задорные нотки звучали натянуто. Карваланов явился на квартиру к Сильве лишь когда ему стало плохо. Его глухое и невнятное изложение истории про встречу с лордом и егерем оставляло сиротское и тоскливое ощущение. Пока они бродили по Гринвичу, Феликс держался в отдалении, постоянно соблюдая дистанцию, изображая из себя отвергнутого народом претендента на престол.
«А это еще что?» – спросил Виктор, указывая на какие-то бруски литого чугуна при выходе из обсерватории. Сильва принялась объяснять про мировые стандарты мер и весов, про ярды и футы и их связь с нулевым меридианом, но Феликс ее перебил, сказав, что, попав однажды в эмиграцию, нечего мерить расстояния ярдами и футами:
«У нас расстояние измеряется отдаленностью квартир друзей-приятелей. Эмигрантская география идеологизирована точно так же, как, по идее, политизирована, скажем, советская география – по странам капитализма и социализма. В голове у эмигранта не существует географических пунктов, куда он не может, теоретически хотя бы, попасть по своему эмигрантскому статусу и где нет или не может быть его друзей и знакомых. У меня в голове земной шар распадается на наши мафиозные штаб-квартиры, эмигрантские „малины“, между которыми пропасти и подземные ходы в мыслях и разговорах». Он снова закашлялся, указывая по холму вниз, к Темзе. «Не узнаешь? Вон там слева», – потянул Феликс Виктора за локоть, – «там слева, видишь, крупноблочные дома – это Детфорд. Там проживал еще один, между прочим, маньяк и деспот. Из наших. Петр Первый. Слыхал про такого?» Слушая Феликса в роли гида, излагающего про Петра Первого и потешные полки, про самозванцев и подставных государей при дворе Ивана Грозного и Петра Первого, Сильва вспомнила другой двор, но тот же разговор в душную московскую ночь и стала ежиться и зевать (что всегда выдавало ее нервозность и замешательство: мол, не знаю, зеваю, спать хочу, да о чем это вы?); от вздорного Феликса можно было ожидать какой угодно провокации: не собирается ли он сообщить Виктору, что происходило за стеной комнаты, где его арестовали после недолгого обыска 6 августа по-старому? Рубашка прилипла к ее взмокшей спине. Знойный воздух, повисший над Гринвичским холмом, отяжелел, затвердел, казался стеной, в которую она вжималась всем телом, чтобы стать невидимой, и ухом вслушивалась в бубнящие голоса милиции и органов в соседней комнате. С трудом Сильва разобрала фразу «как сказал в свое время Мигулин про ЛТПБ…», но потом опасность миновала.
«Разрушение было катастрофическим. Это был один из прекраснейших и старинных особняков на южном берегу Темзы. Такое впечатление, что Детфорд пришлось застроить крупноблочными бетонными трущобами после погрома, учиненного Петром Великим. Я читал опись имущества после нанесенного им ущерба». Феликс помолчал и заключил, явно в виде морали: «Приглашай после этого русских!»
«Ты явно поднаторел в местной истории», – сказал Виктор Феликсу.
«Поднатореешь тут от нечего делать», – хмыкнул тот. «В любой, знаешь, стране каждое историческое место описано в книгах, каждый предмет обихода с течением лет становится как бы закутанным в ауру слов. Так вот я тебе скажу: Англия занимает первое место по количеству слов на каждый сантиметр топографии. Тут буквально шагу нельзя ступить – обязательно растопчешь чью-то личную жизнь трехсотлетней давности, спичку нельзя зажечь, растапливая камин, – непременно отправишь на костер чей-нибудь манускрипт».
«Откуда ты все это знаешь?»
«А кому об этом еще знать, как не мне, переводчику „Пира во время чумы“? Кому? Пушкину? Кроме того, я здесь уже год. Надо же себя хоть чем-нибудь развлекать. Не скорбеть же круглые сутки о том, как ты там страдал в лапах советской пенитенциарной системы. Кстати, не забудь, что сегодня в этом доме тебя будут приветствовать все те, кто именно этим и занимался: круглые сутки думали о том, как ты там страдаешь».
В действительности, толпа гостей, собравшихся поглядеть на великого Карваланова, была, мягко говоря, довольно пестрой: Сильва, прямо скажем, назвала кого попало, извиняясь тем, что Виктор как с неба свалился и идея устроить party, или, по-нашему, сборище, в его честь была сплошной импровизацией. Поспешность, с какой было созвано это сборище, чувствовалась прямо с порога. Тут же выяснилось, что собравшиеся уже были удостоены присутствием еще одной великой личности, с карманами, набитыми рекомендациями от общих друзей, знакомых и знаменитых людей вообще.
«Все эти, вы знаете, разъезды, засыпаю буквально на ходу», – тараторил заезжий поэт-переводчик Куперник, человек лет пятидесяти, небольшого роста, в темных очках. Он встретил их в дверях, приветствуя вошедших, как хозяин, разбуженный друзьями, неожиданно нагрянувшими в его дом. Феликс и Виктор тут же почуяли в нем опасного пришельца: он был один из тех, кто, с минуту покрутившись в гостях, тут же начинает вести себя с фамильярностью завсегдатая. Феликс стал разглядывать незнакомца, пытаясь понять, каким образом он оказался в Сильвиной квартире.
Из-за этих очков он, толстенький, был в результате похож на мафиозо мелкого пошиба; нет, на одного из польских киногероев 60-х годов, в свою очередь подражавших каким-то голливудским загибам калифорнийской моды. На нем была не по возрасту черная кожаная курточка, как будто украденная у «голубых» мальчиков со страниц порножурнальчиков для мужчин с Кристофер-стрит в Манхэттене, в свою очередь подцепивших эту моду у любовников-пуэрториканцев, укравших этот мачо-образ у чикагских полицейских. Поскольку советские отличались любовью к коже (слишком долго, видимо, кожа сдиралась с населения) и нелюбовью тратить деньги (привычка к убогому, но бесплатному пайку), куртка на Купернике была из искусственной кожи, синтетическая, как и все остальное в его одежде – от полиэстрового галстука до туфель на микропорке (любовь к фабричности, искусственным заменителям – от преклонения перед техникой). Это были какие-то вторичные, нет, троичные, третичные наслоения перешитой, перелицованной, перекроенной на советский манер моды ностальгических лет, а если прибавить к этому джинсы, этот мафиозо мелкого пошиба походил на ливерпульского безработного здесь, но там, в Москве, его одежда свидетельствовала о его завидных возможностях выезжать за границу.
Виктор переглянулся с Феликсом. Впервые с момента прибытия Виктора на Альбион они оба почувствовали необходимость союза – перед лицом общего врага. Если у Сильвы его вид вызывал добродушное презрение и презрительное сочувствие, то Виктора Куперник явно раздражал чем-то другим: лысиной, что ли, или животиком, свидетельствовавшими не столько о разнузданности в сексе и невоздержанности в еде, сколько о его принадлежности к клану тех лысоватых и мудоватых работников интеллектуального фронта, кого подпаивали и подкармливали, как в некой райской психушке, изоляторе для блаженных, – чтобы не лезли, не мешались под ногами исторической поступи пролетарского государства. Они славили красоту, «которая спасет мир», и славили «внутреннюю свободу», презирая диссидентов за «одержимость мелкими политическими счетами с властями». Короче, советский командировочный поэт-переводчик выглядел как заядлый враг таких, как Карваланов. Именно он держал площадку, забивая всех и каждого своей скороговоркой транзитного пассажира.
А кто, собственно, среди присутствующих не был транзитным пассажиром? На стопках книг в углах, на старом, полуразвалившемся диванчике (из мебельной комиссионки за углом), прислонясь к стене или же застыв посреди комнаты, как в пустынном мираже, толпа гостей представляла собой все мыслимые разновидности беспочвенности и космополитизма. Полдюжины преподавателей славянских отделений местных университетов – неизбежные при подобных оказиях – с внешностью вегетарианцев и аппетитом каннибалов во всем, что касается российского сердца, души и печенки, держалась в стороне: чужаки среди туземцев и туземцы среди чужаков. Между ними сновало несколько сотрудников «Русских служб» иновещания Би-Би-Си и радио «Свобода»: они настолько привыкли каждый день выходить в эфир, что чувствовали себя по отношению к эмигрантскому карантину как те, кто уже вышел в астрал. Встречались и те, кто, вроде эссеиста Глузберга, был начисто лишен чувства патриотизма и прикрывал дыру отсутствия любви к родине у себя в груди корочкой британского паспорта. Однако вне зависимости от их взглядов и позиций в этом мире все они выглядели как привидения в присутствии полнокровного, хоть и изможденного, советского антисоветского человека – Виктора. На этом фоне единственным живым и несколько нетрезвым существом была Мэри-Луиза. Хотя без нее и не обходилось ни одно эмигрантское сборище такого масштаба, присутствовала она на этот раз не как сообщница Феликса по переводу Пушкина, а как прикомандированная к поэту Купернику переводчица. Однако она, очевидно, не поспевала за его болтливостью.
«Совершенно истощен этими экскурсиями и трипами. Представляете, хватанул пару дринков, как вы говорите, и с копыт долой. Прикорнул в той вот комнате (он ткнул пальцем за спину), просыпаюсь, гляжу: Иерусалим! Прямо из голубизны, как говорят англичане. Прямо перед носом, ну как с неба свалился, как сказал бы наш брат, Небесный, так сказать, Иерусалим. Господи, думаю, и недаром брякнул это вот „господи“: Иерусалим все-таки! Но тут же сообразил: это же „постер“, плакат, в общем, прямо над кроватью. А я ведь сейчас, знаете, с головой в переводе псалмов. Спишь, и снится тебе Иерусалим, открываешь глаза, а у тебя перед глазами – все тот же Иерусалим. Удобно вы, Феликс, устроились! Сон наяву, дневное сновидение, как говорят англичане». Мэри-Луиза, спотыкаясь, боясь, как всякий начинающий синхронщик-любитель, пропустить слово и не догнать мысль, стала переводить эту белиберду на невероятный английский.
«Мэри-Луиза, ты думаешь, здесь есть хоть один человек, который не понимает по-русски? Это что, пресс-конференция, что ли?» – вмешалась Сильва, демонстративно заткнув уши.
«Что это за девица?» – спросил Виктор, стоявший рядом с Сильвой в дальнем конце комнаты.
«Это Мэри-Луиза. Она помогает Феликсу с переводом Пушкина, а сейчас – гид и переводчик при нашем поэте-переводчике от общества британо-советской любви и дружбы».
«Ничего не понимаю. Если он поэт-переводчик, зачем ему переводчица? С какого на какой они переводят и что за любовь и дружба между вами?»
Так или иначе, ни к этой любви, ни к этой дружбе Виктор уже не имел отношения, судя по тому, как гости постепенно стягивались туда, где стоял говорливый Куперник, подальше от угла с торжественно-строгим Виктором.
«Дневное сновидение, как говорят англичане», – продолжал тем временем из своего угла Куперник. «Феликс – вы ведь из Иерусалима, не так ли? В самом Иерусалиме, представьте, войны совершенно не чувствуется. Откроешь здешние газеты – можно подумать: там какие-то ужасы, голокост, знаете. А когда там находишься – я там был в связи с конференцией поэтического перевода, – ну прямо Коктебель. Хорошо вооруженный, конечно, но Коктебель. Люди прогуливаются по улицам как ни в чем не бывало, практически в чем мать родила. Я не имею в виду демонстративных нудистов. Кстати, слово „нудник“ на иврите означает не нудиста, а зануду – явное влияние русского. С едой тоже хорошо. Я останавливался у Пети – он был, если помните», – повернулся он к Сильве, – «любовником Лели, секретарши в секции худперевода ССП, она, кстати, вас хорошо помнит как блестящую машинистку, вы там подрабатывали, когда вас уволили из Пушкинского, – не так ли? – так вот Петя, он дал мне познакомиться, как сказали бы израильтяне, со знаменитой израильской питой. Такая лепешка, и туда набивают всякой средиземноморской всячины, шарики такие, фалафель называется по-израильски. Очень сподручно, как сказали бы… впрочем, не важно. Дешево и сердито, как у нас говорят. Притом, можно уплетать эту питу за обе щеки и при этом осматривать достопримечательности, потому что с этой питой не нужны никакие тарелки».
«Когда жуешь бутерброд, тоже тарелка не нужна. Чем это, интересно, отличается от обыкновенного сандвича? Его тоже можно есть и одновременно осматривать достопримечательности», – сказал Феликс.
Белиберда из уст неутомимого Куперника раздражала и одновременно завораживала Феликса. Это была пародия на отчет глупца о других берегах, о чужой жизни, извинительная со здешней точки зрения лишь тем, что рассказчик – из Советского Союза и потому уже совсем дурак, чего с него возьмешь. Феликс покраснел при мысли о том, что его собственные первые рассуждения о жизни в Англии не слишком, видимо, отличались от куперниковских.
«Вот я и говорю: в Израиле все есть. Хочешь питу – пожалуйста тебе пита, хочешь сандвич, вот он – сандвич, есть буквально все! Вариации, как сказали бы англичане, еды и овощей вообще на Западе поразительны. С другой стороны, проблемы с трафиком, движение на улицах на редкость хаотично тут у вас. Слишком много машин – отсюда все беды. Вообще говоря, психологически вы, западные люди, не имеете (как сказали бы англичане) никакого страха смерти. Люди, не моргнув глазом, готовы рисковать головой. Потому что нет опыта опасности. Всегда готовы изменить стиль и образ жизни, позицию в обществе, знаете ли. Вчера он стихи пописывал, а сегодня он кочегар, завтра плотник, а послезавтра берет и открывает булочную, хлеб продает».








