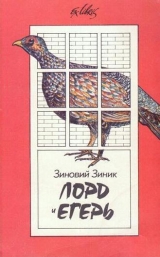
Текст книги "Лорд и егерь"
Автор книги: Зиновий Зиник
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
21
Asylum
«Томас де Куинси в своем эссе-шокинге „Убийство как одна из форм изящных искусств“ рассказывает об убийстве старухи, у которой, по слухам, было припрятано две тысячи долларовых монет. Старуха была убита в спальне, а на лестнице нашли труп девушки-прислуги. Подозрение пало на местного булочника и трубочиста. Дело происходило в полдень. Случай был описан в газетах, где рассказывалось, как убийца, запершийся в спальне с убитой старухой, услыхал стук в дверь. Эта ситуация – убийца, захваченный врасплох, и невинная девушка, стучащаяся к нему в дверь, – поразила воображение де Куинси. „Однажды ночью, в разгар лета, я, лишенный опиума, лежал, ворочаясь в постели и томимый бессонницей. Чтобы как-то развлечь себя, я стал сочинять воображаемую исповедь убийцы – пример поистине германской готики, по теме своей изысканно дьявольской. Я не льщу себе, если скажу, что этой историей я мог бы запугать до потери сознания добрую дюжину никчемных старух и положить конец их пребыванию в этом порочном мире“. Из всего набора слов этого оригинального замысла самые чудовищные – „useless old women“. Подобное же убийство „никчемной старой стервы“ и поразило воображение Достоевского Раскольникова, зарубившего невинную Лизавету после убийства старухи процентщицы. Идеи, высказанные де Куинси в его эссе („Произведение искусства может обрести власть и величие, пробуждая в аудитории чувство ужаса“), и идеи де Куинси о вседозволенности как привилегии гениальных людей („Этот пример демонстрирует те опасности, что подстерегают дурачье, решившее в своем поведении подражать гениальным людям“) – это и есть идеи Раскольникова из „Преступления и наказания“.
Достоевский страшно увлекался Томасом де Куинси и даже собирался переводить его „Исповедь курильщика опиума“ („Confessions of an Opium-Eater“). Достоевский, однако, совершенно не догадывался о том, что и „Исповедь“ де Куинси, и его эссе об убийстве как одной из форм изящных искусств пропагандировались Джоном Вильсоном в его журнале и пародийных стенограммах заседателей таверны „Ambrose's Tavern – Noctes Ambrosianae“. Когда Достоевский рассуждает о „Пире во время чумы“, он не понимает, что Вильсон и Куинси были близкими друзьями. И – главное! – то, что Достоевскому важно в Пушкине, привнесено в поэтическую драму Джона Вильсона на самом деле Томасом де Куинси.
„Они встретились за завтраком в доме Вордсворта“, – пишет об их первой встрече летописец Озерного края Гревел Линдоп. „Де Куинси, так и не сумев найти в Вордсворте отца, готов был принять Вильсона как своего старшего брата-защитника… И Вильсон и де Куинси любили ходить пешком. Вильсон, кроме того, увлекался петушиными боями. Он держал у себя и сам выращивал по всем правилам боевых петухов (sic!), выставляя их в боях против соседских петухов при огромном наплыве публики. Однажды петушиные бои были устроены прямо в гостиной дома Вильсона, где часть недостроенного пола была выложена по этому случаю дерном“. Но не стоит думать, что Вильсон предпочитал петухов и фазанов доброму и старому догу. Он любил и собак. До такой степени, что, уже на посту профессора моральной философии Эдинбургского университета, он вызывал насмешки студентов из-за, в частности, „привычки держать собак у себя в ногах под кафедрой, по рассеянности на них наступая во время лекции, заглушая собственный голос собачьими взвизгами“.
Карикатурность внешнего облика Вильсона-лектора (его уморительная манера тереть нос указательным пальцем в конце каждого параграфа) усугублялась его полной безграмотностью в вопросах философии. Что входит в понятие морального долга? Что следует прочесть о стоиках и эпикурейцах? Он упрашивал де Куинси отвечать на эти вопросы в пространных письмах, прибегая при этом „к разным изобретательным уловкам, чтобы скрыть истинную цель этих писем“, – так, чтобы никто не догадался, что де Куинси пишет за Вильсона университетские лекции. Вопрос о том, кто у кого что заимствовал, преследовал де Куинси всю жизнь еще и потому, что писал он медленно, с трудом и привык бесконечно обговаривать каждую мысль вслух, с друзьями в застольной беседе: друзья слушали внимательно, а потом приходили домой и аккуратно записывали услышанное. Параноидальность де Куинси вполне поэтому оправданна, когда он, скажем, стал обвинять самого Кольриджа в заимствовании у немецких авторов средней руки. (Интересно, что бы он сказал о поэзии учителя Пушкина – Жуковского?)
К полемике между де Куинси и Кольриджем присоединился, конечно же, Вильсон. Вильсон не раз использовал де Куинси в своей полемике с литературным миром. По этому поводу де Куинси высказывал свои протесты совершенно открыто. „Вильсон, по его словам, анонимно опубликовал свои статьи, оскорбляющие и очерняющие Кольриджа, и в то же время обратился к де Куинси, указывая ему на эти статьи и призывая его выступить публично в защиту Кольриджа“. Де Куинси жил в постоянном ужасе, что история спутает его с двойником Кольриджа и его литературно ограбят так же, как Кольридж грабил немецких романтиков. Сходство с Кольриджем усиливалось и внешними замашками – оба были наркоманами. „Черт побери, – воскликнул Вильсон однажды вечером, – неужели нельзя посидеть за виски как христианин с христианином, а проклятый опиум оставить туркам, персам и китайцам?!“
Среди „темных образов“, почерпнутых де Куинси из его сновидений и кошмаров, были три женских фигуры, названные им „Пресвятые Девы Грусти“. Он ассоциировал образы этих Дев с тремя Судьбами, тремя Фуриями и тремя Грациями. Три женщины появляются у Пушкина-Вильсона на пире во время чумы. Одна из них – Дженни, из песни Мери, спетой Председателю пира, та самая мертвая Дженни, которую Эдмунд встретит лишь на небесах. На земле же, на чумном пиру, его удерживает Мери, „погибшее, но милое созданье“, и в сумасшедшем бреду Председателя возникает как повтор из песни, спетой Мери вначале, образ его мертвой жены Матильды – третьей из Пресвятых Дев Грусти.
В репертуар домашних шуток Вильсона входило и пародийное изображение де Куинси. Когда Вильсон умер, де Куинси ощущая себя, видимо, человеком, который смеется последним, отплатил Вильсону той же монетой и стал изображать в кругу друзей пародийного Вильсона, читающего лекцию.
I rise to give, most noble President,
The memory of a man well known to all,
Who by keen jest, and merry anecdote,
……………………………………………………
Much cheer’d our out-door table, and dispell’d
The fogs which this rude visitor the Plague
Oft breathed across the brightest intellect.
But two days past, our ready laughter chaced
His various stories; and it cannot be
That we have in our gamesome revelries
Forgotten Harry Wentworth. His chair stands
Empty at your right hand – as if expecting
That jovial wassailer – but he is gone
Into cold narrow quarters.
Почтенный председатель! я напомню
О человеке, очень нам знакомом.
……………………………………………………
Забыли Джаксона! Его здесь кресла
Стоят пустые, будто ожидая
Весельчака, – но он ушел уже
В холодные подземные жилища…
В кресло Гарри Вентворта, переименованного в Джаксона, уселся новый председатель пира Эдвард Вальсингам. Вместо шуток и едких острот мы слышим гимны чуме. Не посадил ли Вильсон в кресло председателя самого де Куинси? Кого же следует угадывать в Гарри Вентворте – Вордсворта? или Кольриджа? или же – посмертно, как будто поэма была пророчеством, – самого Вильсона? В переводе Пушкина Вентворт превратился в Джаксона. Не вытеснил ли Пушкин своим переводом Вильсона из кресла истории литературы? И то, что мы помним в пушкинском переводе – гимн чуме, – украдено Пушкиным не у Вильсона, а у будущего Достоевского, начитавшегося де Куинси?»
22
Генеральная репетиция
«Если бы не Каштанка, дорогие мои русские друзья, дороги сюда я бы не нашел», – сказал доктор Генони, потрепав ласково дворнягу. «Она привела меня в это политическое убежище. Закоулки южного Лондона по запутанности и непонятности – хуже всякой заграницы. Стоит переехать реку – и чувствуешь себя полным иностранцем. Вдвойне приятно на чужбине встретить знакомые лица».
При всей его непринужденной болтливости, ловкой скороговорке опытного доктора у кровати смертельно больного пациента, он осматривал помещение жестким взглядом, как будто оценивая материальный урон, нанесенный разгулявшимися детьми. В мутноватом предутреннем освещении его огромная, мощная фигура гляделась чуть ли не статуей Командора, явившегося в этот вертеп, чтобы заявить о неминуемом возмездии. Каждый из присутствующих вдруг почувствовал, что его застали врасплох за неким непристойным занятием. С плохо скрытой улыбкой доктор Генони наблюдал, как Феликс поднялся с пола с обглоданной костью в руках. Затем он повернулся к Виктору: «Не вы ли, Виктор, выставили родного вам когда-то дога за дверь, поскольку он стал отождествляться у вас с егерем? Или же Феликс приговорил дога к изгнанию и ссылке из-за того, что тот стал ассоциироваться у него с идеей плагиата? Я уже тут давно стою и слушаю. Прекрасен этот пересмотр позиций. Любопытно, однако: как бы ни пересматривал человек собственные позиции, а остается он, в сущности, тем же. Как с подписью: можешь переиначивать ее и так и сяк, и все равно эти закорючки узнаваемы как твоя подпись – если не тобой самим, то, по крайней мере, со стороны никто не спутает. Можно забыть фамилию человека, приписать эту фамилию другому лицу, это лицо приписать другому человеку, но само это лицо, этот человек – не забывается! Спросим, скажем, господина Куперника: ведь он заведомо помнит мое лицо, только не знает, кто я такой, не правда ли?»
«Как же не знаю? Мы, наоборот, только что дискутировали. Насчет вашей идентификации, так сказать».
Куперник бросился вперед, с энтузиазмом встречая нового визитера. Вообще-то он не очень помнил, встречались ли они прежде, и если да, то где; так или иначе, этот джентльмен внушительного вида без всякого сомнения защитит его от этой своры антисоветчиков, готовых растерзать его только потому, что он остался жив в сталинские годы. С каждым мгновением он убеждался, что помнит этого джентльмена с аристократическими манерами все лучше и лучше.
«Мы в Риме встречались», – предположил он. «Я даже могу сказать, что именно вы устроили мне пропуск на встречу с папой римским, а вовсе не Евгений из радио Ватикана. Я вспомнил, что Евгения к тому времени уволили за экуменические поползновения. Так что никто, кроме вас, лорд Эдвард, мне пропуска устроить не мог».
«Лорда Эдварда, дражайший мой Куперник, никто из нас никогда не видел», – сказал доктор Генони, усаживаясь в кресло и закуривая сигару. Куперник, занервничав, поднял брови и раскрыл от удивления рот, собираясь что-то сказать. «Да-да, вы не ослышались. Должен вам раскрыть секрет: даже я, знаменитый Генони, его частный врач, приватный советник и личный секретарь по делам благотворительности, никогда в жизни лицом к лицу с лордом Эдвардом не сталкивался. Говорил по телефону. Общался по почте. Но за эти два года службы всякий раз, когда я в поместье занимаюсь клиникой, лорд Эдвард – за границей, когда он возвращается в поместье, я – в заграничных разъездах по его распоряжению». Он стал пристально изучать отросток пепла на кончике сигары. «Откровенно говоря, я спешил сюда в надежде наконец-то с ним столкнуться лицом к лицу: позвонили из Скотленд-Ярда и сообщили, что лорд Эдвард был задержан в Сент-Джеймском парке при странных обстоятельствах в компании диссидента Карваланова. Я решил – одно из двух: или же сам лорд Эдвард тайно вернулся из-за границы, чтобы увидеться с Виктором инкогнито, или же его альтер эго Эдмунд-егерь снова втянул его в свою собачью конспирацию. Каштанка встретила меня лаем у ворот, мне стало очевидно, что лорда Эдварда я снова не увижу».
«Значит, мои сомнения насчет идентификации не лишены, как говорят англичане, базиса? Значит, ваш лорд Эдвард – не лорд Эдвард?» – с победными нотками в голосе обратился Куперник к Виктору с Феликсом.
«В том же смысле, в каком, скажем, нынешний папа Иоанн Павел II – это поляк по имени Войтыла», – ответил за двух товарищей Генони. Куперник отметил про себя в некоторой панике, что доктор Генони был отнюдь не целиком на его стороне, как он первоначально надеялся. «Вспомните свою собственную встречу с Папой римским. Папа Иоанн Павел II – это идея, символ, кредо. А поляк Войтыла – конкретный человек. Вы не поняли ни единого слова во время аудиенции с поляком Войтылой. И тем не менее считаете каждое его слово и каждую секунду этой встречи – священными. Потому что в поляке Войтыле вам видится папа Иоанн Павел II. Возвышенная фикция нам важнее обыденных фактов. Наш егерь – ипостась нашего лорда».
«Возможно, но – прошу пардону, как говорят французы; я еще не дошел до психического состояния пиранделловского героя, вообразившего себя Генрихом Четвертым: в каждом лакее он видел ипостась папы Григория Седьмого. У меня, пардон, винтики еще вертятся». Он задрал подбородок, став в позу отчаявшегося смельчака, надменного и одновременно жалкого. «Вы мне мозги не запудривайте. Поляк может быть папой, но не егерь – лордом. Если егерь воображает себя лордом, его надо лечить».
«Егерь не может быть лордом. Но лорд может стать егерем. На этом я и хочу построить сеанс излечения Эдмунда, в чем каждый из нас, надеюсь, заинтересован», – сказал доктор Генони, вглядываясь в каждого с загадочной миной в лице. «С этой целью вас всех здесь и собрали», – добавил он с улыбкой обо всем осведомленного диктатора.
«Кто собрал?» – нахмурился Карваланов. «Мне это не нравится: вы хотите сказать – нас сюда заманили, что ли? Кто?»
«Можете считать, что я, следуя, конечно же, явным и неявным указаниям лорда Эдварда – в той степени, в какой я мог угадать его намерения». Доктор Генони выпрямился в кресле, как лектор, добравшийся до самого важного момента своих рассуждений. «В первую очередь: фазаны. Я имею в виду финансовое состояние поместья. Из-за пресловутого трагического инцидента чуть ли не полувековой давности охота на фазанов, с тех пор как лорд Эдвард вступил во владение поместьем, полностью запрещена. Поскольку ни егерей, ни служек, занимающихся выращиванием фазанов, увольнять никто не собирается, – негуманно! – фазанов просто-напросто распродают, как я вам уже рассказывал, в зоопарк и для отстрела в тех странах, где надо спасать от геноцида представителей местной фауны. На подобных гешефтах, как выразился бы наш Феликс, много, однако, не выручишь. Это благотворительность, а не бизнес. Поместье на грани банкротства. Пока Эдмунд не будет вылечен, лорд Эдвард не разрешает возобновлять охоту. Егерь сходит с ума».
«Какой егерь? Вы имеете в виду сына того убитого егеря? нашего Эдмунда? отцеубийцу?» – спросил Карваланов.
«Так этот самозванец еще и отцеубийца?» – развел от безнадежности руками Куперник.
«Повторяю», – вздохнув устало, как перед тупыми учениками средней школы, стал разъяснять доктор Генони. «Эдмунд, сын бывшего егеря, в те периоды, когда лорд Эдвард в отлучке, воображает себя Эдвардом сыном лорда, лорда-отца, случайно пристрелившего своего егеря на охоте. Эдмунд-Эдвард уверен, что нынешний егерь поместья – это и есть Эдмунд, сын бывшего егеря, мстящий лорду Эдварду, то есть ему – Эдмунду». Наморщенные лбы присутствующих свидетельствовали о том, как трудно было уследить за логикой доктора Генони.
«Они троюродные братья друг другу – Эдмунд и нынешний егерь, фактически. Нам старикашка Чарли из паба „Белая лошадь“ рассказывал», – авторитетно сообщила Мэри-Луиза. «Потому что Чарли с тем, убитым на охоте, егерем были братья. Или кузены? Не помню. В общем, родственники, фактически, а нынешний егерь приходится ему племянником». Она закруглила предложение с меньшей уверенностью, чем в начале фразы. «Чарли ничего не говорил про нынешнего егеря», – поправил ее Феликс, восстанавливая с некоторой бравадой эпизод своего лондонского прошлого, казавшегося сейчас столь же отдаленным, как и Москва – географически. «Он действительно говорил, что они с бывшим егерем были то ли родные, то ли двоюродные братья, и, стало быть, Эдмунд – его племянник. И больше ничего. А нынешний егерь – посторонний человек».
«Вы, Мэри-Луиза, сослужите серьезную службу психиатрической науке, если опишете генеалогическое древо егерского семейства в поместье лорда Эдварда», – сказал доктор Генони. «Нынешний, последний сучок этого древа вот-вот совсем сдвинется: как всякий порядочный егерь, он не может понять, зачем он выращивает фазанов, которых никто не стреляет? В настоящий момент – в знак протеста против гуманного отношения к фазанам – он находится в Восточном Берлине на ежегодном конгрессе профсоюза егерей. Скоро его придется госпитализировать как политического диссидента».
«По-моему, нас всех скоро придется госпитализировать», – сказала Сильва, нарушая добровольный обет молчания.
«Мечтаю об этом!» – воскликнул доктор Генони. «Особенно, если бы смог заполучить вас, Сильва, одновременно с Виктором и Феликсом. Ваша троица – находка для нашего брата психиатра. Я, располагающий одной из самых привилегированных психиатрических лечебниц в мире, не имею права госпитализировать новых пациентов. По распоряжению того же лорда Эдварда, клиника будет пустовать до тех пор, пока не будет вылечен мой единственный на сегодняшний день пациент – Эдмунд. С этой целью я и собрал вас здесь, в Англии».
«Наконец-то можно перестать мучиться вопросом: зачем я эмигрировал?» – сказал Феликс.
«Вы помните наши итальянские диалоги, дражайший Феликс?» – обратился к нему доктор Генони. «О двух театральных системах. О двух методах лечения психических заболеваний. Возвращение к обстоятельствам времени и места. Для Пиранделло важнее всего аспект времени». Он повернулся к остальным присутствующим, явно желая, чтобы его поняли все без исключения. «Доктор-психиатр в его драме про Генриха Четвертого пытается вернуть своего безумного пациента к тому моменту, когда разум отключился и началось иное время – эпоха безумия. Возвратив его ментально к этому перекрестку, они хотят его встряхнуть так, чтобы время его жизни пошло не по направлению безумия, а затикало бы нормальным ходом. Каким бы мелкобуржуазным релятивистом Пиранделло ни был, он верил в ход времени. Удивительное было время – верившее в самого себя: в существование времени. В существование прошлого, настоящего и будущего. Верившее, что можно заглянуть в прошлое, исправить его в настоящем, чтобы в будущем жить по-новому, прогрессивно. Однако, изучая вас, эмигрантов этого мира, я вижу, что времени, в действительности, нет».
«Конечно, времени ни у кого нет», – пробурчал Браверман. «Все, вроде вас, нынче такие занятые».
«В результате изучения ваших биографий, дорогие мои русские друзья, анализа вашего медицинского дела, я столкнулся с удивительным казусом: в случае советских эмигрантов прошлое стало отождествляться не со временем, а с местом, с географией. Возвращение в прошлое – это возвращение в родной город. В прошлое вернуться невозможно, не потому что родной город – за Железным занавесом. Время там, в СССР, остановилось: можно вступать в прошлое и выходить из него когда заблагорассудится. Для этого надо попасть в прежнее место. Времени нет, есть только место».
«Места тоже нет», – вставил Сорокопятов, – «поглядите: в этой эмигрантской коммуналке негде повернуться».
«Для наших целей мы должны перейти в иное помещение – в открытое пространство лесов и полей. Но ваш опыт, Карваланов, учит нас тому, что понятие тюрьмы – относительно, а вы, Феликс, поставили под сомнение оригинальность оригинала. Моя мысль проста». Он поднялся с креста и стал вышагивать по комнате. «Не все ли мы по сути – эмигранты и диссиденты в этом мире? И не отделены ли мы от своего прошлого Железным занавесом непоправимых поступков? Эмигранту, для восстановления рассудка, нужно нарушить это табу – войти в запрещенную зону, шагнуть за Железный занавес, вновь оказаться в прошлом. Наш пациент должен вернуться в психологическое прошлое не по времени – а в то место и к тем обстоятельствам действия, когда егерь стал воображать себя лордом».
«А кухарка стала управлять государством», – сказал Браверман.
«Боюсь, вторая Октябрьская революция не в нашей юрисдикции. Но охоту на фазанов созвать нетрудно». Неожиданно он замер, глядя поверх голов в сторону двери. «Тем более, главный герой, насколько могу судить, уже вошел в роль. Генеральная репетиция начинается». Доктор Генони повернулся к двери гостиной. Чуть ли не крадучись, он отступил в угол комнаты к книжной полке и вжался в стену, как бы пытаясь стать невидимым. Все обернулись, устремив взгляды туда, куда смотрел доктор Генони. Там, опираясь о притолоку, высилась фигура нашего аристократического егеря.
Вид у Эдмунда был пугающим: с полуночной небритостью, с полуоторванным бархатным бантом, свисающим на ленточке-шнурке, как петля висельника, с помутневшим взором, где блеск фанатика был обрамлен покрасневшими, припухшими веками наркотического бреда – он был похож на клошара. В руках у него была пачка газетных обрывков.
«Кому номер?» – с маниакальной деловитостью оглядел он присутствующих. «Каждый, кто желает принять участие в фазаньей охоте, должен заручиться номером. Номером, бляхой, желтой звездой», – повторил он и стал обходить гостей, суя в руки каждому обрывок газеты с намалеванным номером. «Каждый, принимающий участие в расстреле, должен приколоть номер себе на грудь. Если бы у вас были шесты, как полагается но ритуалу, можно было бы закрепить номер на шесте, но шестов тут не найти, одна только швабра – на всех стрелков. Объясняю вам, иностранцам-невеждам, ритуал фазаньей охоты. Встаньте в полукруг», – он засуетился, как воспитательница детского сада, и стал тянуть за руку Сильву, Виктора и Феликса. «Номер один, затем тридцать ярдов, номер два, тридцать ярдов, номер три…» С вымученными улыбками все трое приняли по бумажному номеру, пробормотали благодарности и покорно продолжали выслушивать инструкции Эдмунда.
«Вы должны быть готовы», – хриплым голосом отдал распоряжение Эдмунд. «Как только фазаны взмоют в воздух, я выкрикиваю очередной номер – у вас шанс расправиться со своим прошлым. Все эти идеи предательства, ревности и разочарования – эти глупые фазаны нашей души с подрезанными крыльями, – как приятно разрядить двустволку, чтобы в воздух взметнулись перья. Виктор, вам выпал первый номер. Не в войне с отцами рождается истина, и не в замках она замурована. То, что кажется издалека замком, вблизи оказывается тюрьмой».
Виктор вздрогнул, отметив, что манера речи Эдмунда все больше и больше напоминала проповедника на паперти.
«Феликс, вам больше не надо притворяться тем, кем вы на самом деле не были, – цельтесь метко по оригиналу самого себя, это самый верный способ избавиться от плагиата. И, наконец, Сильва: вы разочарованы в ваших любовниках, потому что они одержимы фальшивыми идеалами. Но без этой фальши они никогда не стали бы добиваться вашей любви. Цельтесь в искренность, прямо в сердце».
«Он что – стихи, что ли, читает?» Для Куперника мрачноватая торжественность этого безумия была выше его понимания. «Сложноватый, экскюзе муа, для меня английский», – нарушил гробовое молчание наивный Куперник, несколько очумевший от происходящего. Эдмунд тут же повернулся на загадочные для него звуки русской речи.
«А вы что здесь делаете?» – грозно спросил он Куперника.
«Я поэт-переводчик. Из Москвы», – сказал тот и чуть ли не полез за паспортом для подтверждения личности. В поисках поддержки он оглядел присутствующих, однако встретил лишь беспомощное пожимание плечами; каждый был втайне рад тому, что внимание Эдмунда сосредоточилось не на нем лично, а на ком-то другом.
«Вы не похожи на поэта. Поэты не выглядят так романтично. Вы – браконьер». Несмотря на протесты Куперника, Эдмунд продолжал надвигаться на него. «И не спорьте. В наказание за это назначаю вас главным битером. Загонщиком. Бывшие браконьеры лучшие помощники егерей. А некоторые сами становятся егерями. Вы должны издавать непоэтические звуки. Вот вам банка, вот вилка». Эдмунд схватил со стола пустую банку из-под пива, вилку и оглушительно забарабанил вилкой по банке. Потом потянул за руки всех остальных гостей – Мэри-Луизу, Сорокопятова, растолкал задремавшего Бравермана. Каждому он совал в руки тарелки, банки, ножи и вилки. «Вы все загонщики, становитесь по углам, выгоняйте фазанов из-под диванов, из-за шкафов, из-за книжных полок. Готовы ли стрелки? Я слышу, как сжимается кольцо загонщиков, шуршат сухие листья у них под сапогами, хрустят ветки, гремят погремушки, хриплые окрики, хлопают крылья, флоп-флоп-флоп, клацают затворы, клац-клац-клац, вы слышите оглушающий грохот?»
«По-моему, кто-то стучит в дверь», – Мэри-Луиза была первой, кто очнулся, поняв, что стуку и грохоту бредового монолога Эдмунда вторит вполне реальное эхо. «Это, наверное, опять чертовы Макрели!»
«При чем тут макрели? Разве мы разыгрываем рыбную ловлю? Ничего не понимаю. Охота вроде бы на фазанов?» – забеспокоился Куперник, послушно колотивший вилкой по жестяной пивной банке. Эдмунд резко поднял руку, и в комнате все стихло.
«Я подозреваю, что он здесь. Главный егерь. Gamekeeper. Everything's a game for him», – чуть ли не шепотом проговорил Эдмунд.
Он был выше других ростом и потому первым увидел, как доктор Генони отделился от стены в дальнем углу и возник за спинами присутствующих, со своим докторским саквояжем наготове. Все расступились, пропуская вперед Генони. Эдмунд шагнул к нему навстречу с улыбкой жертвы на устах. Он чуть ли не декламировал.
«Жертва уготовлена. Ружьё заряжено. Я жду выстрела. Нечестного выстрела. Низкого выстрела». Он покорно опустился на стул. Доктор приблизился, раскрыл саквояж, достал оттуда шприц и ампулы…
«Ради бога, не надо, не надо!» Голос Сильвы прозвучал надтреснуто и беспомощно. Она рванулась вперед, но была подхвачена под руки Виктором и Феликсом.
«Итак, главного героя мы заполучили», – сказал Генони, сделав укол Эдмунду. Он затем повернулся к гостям и объяснил тоном председателя церемоний (или камергера, или гофмейстера, или чемберлена): «Остается сменить декорации. Сколько персонажей в этой психодраме на охоте? Раз, два, три, четыре, плюс загонщики», – оглядывал он присутствующих, закладывая пальцы. «Я полагаю, трех такси нам хватит? Через час мы будем в поместье, действие укола пройдет, и можно будет начинать спектакль». Присутствующие переглянулись, и толпа гостей пришла в движение.
«Если не ошибаюсь, герой Пиранделло, вновь обретя ясность рассудка, понимает, что единственный способ сохранить разум в безумном мире – продолжать строить из себя сумасшедшего», – сказал Феликс после некоторого колебания, все еще держась в стороне от остальных. Он сидел на подоконнике и, поджигая один за другим обрывки газет с намалеванными номерами, кидал в пепельницу. Неожиданный порыв ветра раздул тлеющие в пепельнице бумажки. Раздался глухой выстрел дальнего грома. Зной надломился и рухнул, неожиданно, как от шальной пули. Надвигалась гроза. От порывов влажного ветра черные, как соринки в глазу, мелкие обугленные обрывки с дымком стали вылетать из окна. Со стороны можно было подумать, что в квартире пожар.








