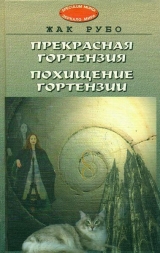
Текст книги "Прекрасная Гортензия. Похищение Гортензии."
Автор книги: Жак Рубо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Глава 23
Синуль, мадам Ивонн и Бесконечность
Мадам Ивонн была крепкой, уравновешенной, нисколько не молодящейся, пышущей здоровьем пятидесятилетней женщиной. Не всегда ее звали мадам Ивонн, и «Гудула-бар» не всегда назывался «Гудула-баром», обе эти сущности как таковые насчитывали не более десятка лет, но под другими именами успели прожить на три десятилетия больше. Случилось это вот как: одновременно со своей соотечественницей мадам Эсеб (мадам Ивонн прекрасно знала ее настоящее имя, но не предполагала, что в нем заключена позорная тайна, и никому бы его не назвала) юная Ивонн поступила «в услужение» к Арсену, в заведение «Угольщик Святой Гудулы, торговля углем и винами. Обслуживаем на дому». Старую вывеску еще можно было разглядеть у входа в новый погребок, однако не будем забегать вперед.
В то время как богомолки после мессы впадали в грех чревоугодия, лакомясь пирожными в булочной Груашана (это было сразу после войны, когда там еще заправлял Груашан-старший), их мужья, покинув церковь через другой выход, устремлялись к «Угольщику Святой Гудулы», чтобы пропустить стаканчик красного вина и съесть сосиску, пирожок, баночку паштета или ломтик сала. В первом зале за стойкой стоял хозяин, Арсен, во втором было несколько столов; между залами была натянута толстая веревка, вернее, даже две, к которым прислоняли перепивших клиентов, чтобы дать им протрезветь; затем приходили матери, жены, дочери, служанки или любовницы (часто одна и та же особа одновременно выступала в нескольких ролях) и уводили их домой. Двадцать лет трудилась Ивонн во втором зале и у веревки, она была любовницей Арсена, она была сильной и смелой и держала в страхе пьяниц. Разливая вино, таская мешки с углем, Арсен постоянно страдал от жажды, он пил и пил. Наконец однажды в погребе к нему пришли розовые слоны и не расставались с ним до тех пор, пока Ивонн не решилась отправить его в больницу.
В больнице он пролежал год (ему угрожал цирроз печени), отощал и бросил пить, а когда вернулся, застал большие перемены. Ивонн, на которой он незадолго перед тем женился, все перевернула вверх дном: «Угольщик Святой Гудулы» превратился в «Гудула-бар». Чтобы чем-нибудь занять Арсена – вино он больше разливать не мог, от красного цвета ему делалось плохо, – она решила торговать не вином, а пивом (тут она ничем не рисковала, поскольку пиво Арсен не любил). Погреб был превращен в пивное святилище, где властвовал Арсен. Там было триста шестьдесят шесть различных сортов пива – бельгийского, английского, андоррского, японского, американского в банках, югославского, вишневого, безалкогольного, пива «Джозеф Конрад» с копией рекомендательного письма, которое писатель дал пивовару, пиво «Доктор Джонсон» со знаменитым девизом: «Никакое учреждение в мире не осчастливило человечество так, как паб», ибо таково было честолюбивое стремление Арсена: сделать из своего подземного царства паб. Он сменил черную блузу на твидовый пиджак и даже стал курить вересковую трубку. Одновременно с рождением «Гудула-бара» рождалась и мадам Ивонн; вначале она была просто Ивонн, затем, в то время, когда муж был в больнице, – мадам Арсен; и вот наконец она окончательно сменила имя, став хозяйкой заведения. А ее мужа Арсена стали называть месье Ивонн. Это его очень забавляло. В «Гудула-баре» продавались также табак и газеты. Синуль наведывался туда очень часто, чтобы пополнить запас пива и узнать о последних событиях, местных и мировых: первые он узнавал от мадам Ивонн, вторые – из «Газеты». Он стал одним из главных дегустаторов Арсена, месье Ивонна, который неизвестно почему нежно называл его «консул», и одним из самых любимых клиентов мадам Ивонн – по причинам, которые выяснятся очень скоро.
Синуль уже давно обитал в этом квартале, но никогда не ходил к «Угольщику», и только преобразования, совершенные мадам Ивонн, заставили его переступить порог этого заведения. Тогда она только начинала дело и еще не была уверена в успехе (ради переделок пришлось залезть в долги), поэтому уделила большое внимание такому, как ей казалось, важному клиенту – ведь он служил органистом в Святой Гудуле и в глазах Ивонн занимал высокое общественное положение. В тот день Синуль пришел вместе с коллегой, органистом-любителем, по профессии астрономом, они выпили пива и решили купить «Газету». Синуль подошел к стойке, взял на стенде, слева от кассы, два экземпляра «Газеты», достал кошелек и сказал мадам Ивонн:
– Две «Газеты», одну мне, другую ему. Скажите, а вы уверены, что они одинаковые? Понимаете, нам не хотелось бы читать разные новости.
Мадам Ивонн попыталась рассеять его заблуждение.
– Уверяю вас, дорогой месье, во всех экземплярах «Газеты», которые я продаю, напечатаны абсолютно одинаковые новости, строчка в строчку, – возмущенно, но с достоинством сказала она, давая понять, что немедленно вышвырнула бы вон того несчастного, который осмелился бы поставить ей номера «Газеты», не совпадающие друг с другом точно и полностью, как требовали эти два клиента.
Синуль важно отвесил поклон и, сдерживая смех, удалился, очень гордый своей маленькой шуткой. А мадам Ивонн подумала, что у него, наверно, не все дома или же, наоборот, завелся кто-то лишний, и прониклась к нему сочувствием. Она оказывала ему покровительство, обслуживала раньше других и, подавая «Газету», с улыбкой говорила:
– Это правильный экземпляр, я вам гарантирую.
Спустя некоторое время американские астронавты полетели на Луну. Все сидели перед телевизорами, мадам и месье Ивонн – тоже (телевизор поставили во втором, большом зале, чтобы можно было смотреть важные футбольные матчи), а утром (из-за разницы во времени пришлось просидеть до утра) каждый, кто пил у стойки кофе, черный или с молоком, либо рюмку кальвадоса, немного возбужденный от бессонной ночи и от важности события (да-да, в ту пору люди сочли это важным событием! Как все меняется, верно?), высказывался о качестве изображения и о том, как все это потрясающе; и тут между клиентами разгорелся спор. Видно было, что кадры передаются издалека, но непонятно, с какого расстояния. Некоторые утверждали, будто это гораздо дальше, чем Белуджистан, другие – что это не ближе, чем Беконле-Брюйер, и мадам Ивонн поинтересовалась мнением Синуля – ведь он, конечно, был грамотный, знающий человек, иначе как бы он мог играть на этих огромных трубах в Святой Гудуле. Синуль привел некоторые цифры, рассказал о Солнце и планетах, об антиподах, о земном радиусе и меридианной плоскости и начертил на салфетке несколько схем. Все было замечательно, но вот Синуль заговорил о том, что это расстояние – сущий пустяк по сравнению с расстоянием, отделяющим Землю от звезд, и нарисовал перед недоверчивыми вначале глазами мадам Ивонн дивную картину: как сияющие фотоны летят сквозь непреодолимые межзвездные пространства, которых никогда не смогут достичь даже самые мощные ракеты НАСА. Он говорил о световых годах, о Проксиме Центавра, о туманности Андромеды и целомудренно обошел молчанием парадоксы времени. В «Гудула-баре» разыгралась целая космическая драма.
Вечером того же дня, ложась спать, мадам Ивонн задумалась о световых годах. Она попыталась представить себе далекие звезды, отделенные от нас такой пустотой – ногу не на что поставить, а есть ведь и другие, те совсем далеко, до них миллиарды и миллиарды световых лет, и бедные световые лучи стремятся к ним что есть сил, но несмотря на всю свою скорость, почти не двигаются с места, точно «мерседесы» на автостраде, ведущей на юг, в первый день августа. Мадам Ивонн не могла уснуть. У нее разболелась голова от всех этих световых лет и непомерно далеких звезд, и она тронула храпевшего рядом мужа за плечо.
– Арсен, – сказала она, – когда я думаю об этих бесконечных пространствах, мне становится страшно.
После этого незабываемого случая отец Синуль еще больше вырос в ее глазах, и когда он заходил в «Гудула-бар» промочить горло после тяжелых трудов, она часто интересовалась его мнением по актуальным вопросам – для собственного удовольствия и духовного обогащения, а также для повышения культурного уровня клиентов, ибо таков долг всякой уважающей себя хозяйки бистро – а мадам Ивонн всегда помнила о своем долге.
Вот почему на следующий день после прогулки близнецов на озере мадам Ивонн спросила отца Синуля, что он думает о деле Грозы Москательщиков.
– Теперь этим занялся инспектор Блоньяр, – сказала она, как говорила уже долгие месяцы каждый понедельник, – преступнику придется туго.
И тут в памяти Синуля произошло короткое замыкание, какие случались только у него: две мысли Орсэллса, пересказанные сначала дочерьми философа, потом Арманс и Жюли, явились ему одновременно как его собственные. А поскольку мало-мальски уравновешенный человек, если ему одновременно явились две мысли, предпочитает соединить их в одну, а не выражать обе сразу, или же одну за другой, но независимо друг от друга, Синуль сказал:
– Блоньяру никогда не раскрыть это дело.
Мадам Ивонн его слова привели в некоторое замешательство: относясь иронически к полиции вообще, Синуль никогда прежде не выказывал особого скептицизма по отношению к великому Блоньяру, на которого, впрочем (как он сообщил Иветте), ему было «глубоко плевать». Поэтому она попросила объяснить, что он имеет в виду, а он и сам хотел это сделать, поскольку две мысли вдруг слились в одну, которую ему не терпелось высказать.
– Все очень просто, – сказал он. – Блоньяр пользуется картезианским методом, потому что не знает никакого другого. А от этого дела за милю разит Польдевией. Вот к Польдевии ему и надо приглядеться поближе, а иначе он ничего не добьется.
Мадам Ивонн опять попросила его объяснить, что он имеет в виду, – она предвкушала замечательную «тему для разговоров» на целый день – и тут, неожиданно для самого себя, он сказал:
– О, я уже давно так думаю. Похоже, однако, что так начинают думать уже повсюду, только вчера моя дочь, которая, как вы знаете, пасет орсэллсовских детей (мадам Ивонн, конечно же, знала об этом; мадам Ивонн знала о делах Арманс и Жюли гораздо больше, чем их простодушный отец), сказала мне, что точно так же думает Орсэллс, знаете, Орсэллс из дома 53, специалист по галиматье (Синуль презирал философию).
Мадам Ивонн, разумеется, знала профессора Орсэллса. Он редко появлялся в «Гудула-баре», но это была фигура национального масштаба, которую полагается знать всем.
Этот разговор сам по себе не имел большого значения, однако он имел место в тот момент, когда инспектор Арапед, готовясь к ежеутреннему брифингу с Блоньяром и Рассказчиком на скамейке в сквере (той, что стоит посредине, спиной к фасаду Святой Гудулы), зашел подкрепиться «гиннесом» и взять двойной гренадин-дьяволо для своего шефа. Арапед никогда не оставлял разговоры в бистро без внимания – он знал, что в одиннадцати процентах случаев ключом к уголовному делу служат именно разговоры в бистро. Он был знаком с обоими участниками разговора, каждому была посвящена отдельная глава в его объемистой книге о Деле; поэтому он навострил уши (мы чуть не сказали: «развесил», добавив тем самым еще одну деталь к описанию внешности Арапеда) и зафиксировал в памяти слова Синуля о «польдевском следе», который усматривал в Деле Орсэллс. Это стало одной из последних улик, необходимых для завершения расследования.
Мадам Ивонн и Синуль завели беседу о Польдевии, о ее истории, географии, о проблеме польдевских эмигрантов. Папаша Синуль сообщил все, что запомнил из статьи «Польдевия» в Большой Рационалистской Энциклопедии. Читатели также могут с ней ознакомиться.
Продолжение главы 18 (конец)
Профессор Орсэллс выпускал свою сотрудницу Чучу на улицу всего раз в день. Сначала он хотел доверить ее дочерям, Адель и Идель, которые могли бы настроить ее на философский лад, заставив бегать за их велосипедами, но мадам Орсэллс, урожденная Энада Ямвлих, пожалела Чучу и отдала ее на попечение Вероники Буайо. Вероника брала ее с собой в песочницу, где они безмятежно играли и делали пи-пи. В эти дни цвет меха Чучи гармонично сочетался с цветом листьев каштана, которые становились все краснее. «Как гармонично сочетается цвет меха Чучи с осенним багрянцем каштановой листвы», – думал Александр Владимирович, глядя, как они резвятся в песочнице.
Он и не подозревал (Амур заставляет забывать об осторожности даже котов), что за этим зрелищем наблюдает мадам Эсеб и что сердце ее пронзил раскаленный кинжал ревности. Мадам Эсеб была ревнива до чрезвычайности. Вооружившись биноклем, унаследованным от покойного отца, она наблюдала за окном профессора Орсэллса и вскоре воочию убедилась в измене Александра Владимировича. Она долго плакала и решила отомстить.
И вот в одно прекрасное утро профессор получил анонимное письмо. За подписью «Доброжелатель», как уже догадались наши проницательные читатели, скрывалась мадам Эсеб! Чтобы отвести от себя подозрения, она даже воспользовалась синими чернилами (вместо обычных фиолетовых) и не сделала ни одной орфографической ошибки.
«Ваша кошка вам изменяет, – говорилось в письме. – Спросите-ка у нее, чем она занимается прямо у вас под носом, когда мурлыкает по вашему приказу. Вот она, теперешняя молодежь! Подпись: Доброжелатель».
(Продолжение и окончание в конце главы 26.)
Глава 24
Гортензия: разочарование
Эта глава, двадцать четвертая по счету, начинается с неожиданности: вопреки утверждениям и коварным намекам Автора (которые он поместил в скобках во второй главе, не подозревая, что с помощью подруги жены я буду читать всю книгу, глава за главой, по экземпляру корректуры, оставленному для главного редактора, и с редким хладнокровием дождусь наиболее подходящего момента для разоблачения), вопреки сказанному мной самим в шестнадцатой главе (но я не кривил душой, именно таковы были в то время мои мысли, а наш Автор, как полный идиот, попался в ловушку, которую я невольно ему расставил, и, воображая себя большим умником, заявил «истины ради», будто я лишился всякой надежды на взаимность Гортензии, и начал злословить о моих вполне или почти что целомудренных отношениях с очаровательной Магрушкой из Польдевии (неутомима, как пони, и какие восхитительные груди!)) – я вовсе не перестал думать о Гортензии, более того: благодаря удачному повороту в моих делах, а стало быть, и наличию свободного времени я решился ее любить и полюбил. Мне было кое-что известно о жизни Гортензии, поскольку моя мать по счастливому совпадению была близкой подругой Иветты, я бывал у нее дома (ведь мы с ней были соседями), и она мне все рассказала. Так же, как Иветта – и даже больше, чем Иветта, ибо она относилась к этому недостаточно серьезно, – я беспокоился за Гортензию и с нетерпением ждал, когда же у нее откроются глаза и она увидит истинную сущность этого взломщика, в которого втюрилась по молодости и неопытности в ходе изучения невероятно сложной, интеллектуально завораживающей философской системы Орсэллса. (Ну, каков наш Автор? Подождите, вы еще и не то увидите!)
Все, что я вам рассказываю, исходит из надежного источника, вначале от Иветты, а затем непосредственно от Гортензии.
Обнаружив чемоданчик и обследовав с помощью Иветты его содержимое, Гортензия на какое-то время успокоилась и снова без оглядки погрузилась в любовные наслаждения. Первым делом она призналась Моргану в своем проступке (он прекрасно знал об этом: открывая чемоданчик, Иветта разорвала волос польдевского пони, который он привязывал к замку, чтобы проверять, не рылись ли в чемоданчике в его отсутствие; он понял, что Гортензия узнала, чем он занимается на самом деле, и приготовился исчезнуть при необходимости). Она сказала, что нисколько не осуждает его, ибо каждый должен поступать сообразно своим склонностям, и еще больше обрадовалась, когда он сумел дать исчерпывающий ответ на ее хитроумные, научно обоснованные, витиеватые расспросы в духе «золотого правила» Орсэллса. Всякий человек, сказал он, вправе делать то, что считает для себя нужным, – так создан мир (в нем говорили древние гены польдевских бандитов, но Гортензия об этом не знала), и если он, Морган, столкнется на узкой дорожке с человеком, способным ограбить его самого, то не будет расстраиваться (согласно «золотому правилу», этим он доказал Гортензии, что его действия не только абсолютно оправданны, но что он должен был с житейской и моральной точки зрения действовать точно так же в любом из возможных миров) (даже в мирах, где он не был бы польдевцем, если только Гортензия, не зная о его происхождении, могла такое предполагать; быть может, он неизбежно был польдевцем, то есть польдевцем во всех возможных мирах, включая те миры, где нет Польдевии).
Короче говоря, Гортензия была счастлива вновь оказаться в объятиях взломщика и позволила взламывать себя всеми способами, какие только можно вообразить. Это было бабье лето их любви. Они проводили послеполуденные часы в восхитительной сладострастной неге. Они ели яичницу с макаронами или пиццу, любовно разогретую Гортензией, а на десерт пирожные, которые присылала мадам Груашан, чтобы не дать Гортензии умереть от истощения. Вечером Морган уходил на свою работу взломщика, а утром приходил и отсыпался. Так могло бы продолжаться еще долго, и Гортензия думала, что это продлится еще долго, но вышло иначе. Должен признаться, мне было тяжело все это выслушивать, тем более что Иветта, не зная о моих чувствах, не упускала ни единой подробности, и если бы не мой напряженный интерес к расследованию, которое близилось к успешному концу, я бы, вероятно, не выдержал (ну и что бы ты сделал, придурок? – Примеч. Автора) (а он занервничал! – Примеч. Рассказчика) (Может, вы прекратите? Какое дело читателю до ваших разборок? – Примеч. главного редактора, завизированное издателем и одобренное редсоветом, секретаршей, верстальщицей, любовником секретарши и коммерческим директором.)
Произошло это так.
Погода все еще стояла ясная. Солнечные дни были как норвежские омлеты между холодными, но живительными ночами. Но приближалось начало учебного года, синоптики все упорнее и все убедительнее обещали холод и сырость, и на тайном военном совете Крупных Колбасников шла подготовка к зимней кампании. А значит, Гортензии нельзя было больше откладывать грандиозную операцию по уборке летних вещей и доставанию зимних, и на это имелись три причины.
Во-первых, с началом учебного года Гортензии придется ходить на лекции. Там она потратит те скудные силы, которые останутся у нее после безумств Моргана.
Во-вторых, когда на улице станет холодно, а главное – мокро, нельзя будет носить летнюю одежду и придется надевать зимнюю. Многие подруги Гортензии уже сделали этот шаг, и она не могла больше откладывать.
Третья и самая главная причина заключалась в том, что Гортензия не могла провернуть это дело в одиночку, ибо:
а) у нее было огромное количество как летних, так и зимних вещей, и все их надо было перекладывать с места на место, доставать с полок, вынимать из ящиков, снимать с вешалок; б) при этом Гортензия всегда прибегала к помощи мамы, которая решала, что именно в ее гардеробе стало лишним и чем его следует дополнить – в порядке отцовского садизма; в) поскольку Крупные Колбасники приступили к рождественской кампании (отбор индеек, оптовые закупки паштета из гусиной печенки, трюфелей и т. д.), отец Гортензии очень скоро должен был стать крайне нервозным и постоянно нуждаться в присутствии супруги, и ей, конечно же, будет некогда заниматься Великой Уборкой и ездить по магазинам.
По всем этим причинам (первой, второй, третьей «а», третьей «б» и третьей «в») Гортензия позвонила маме, и они условились о встрече в пятницу, во второй половине дня. Она раньше времени отпустила Моргана и начала доставать летние вещи.
Взглянув на летний гардероб дочери, мать сразу же увидела то, что давным-давно должна была заметить сама Гортензия, не будь она так рассеянна, так наивна, так молода, неопытна и так влюблена: огромного количества вещей недоставало – и притом огромного количества самых дорогих, самых элегантных, самых изысканных вещей, о чем читатель, если он не столь же молод (или стар, какая разница), неопытен и влюблен, догадывался с самого начала. Мать Гортензии побледнела. В ее материнском сердце (точнее, в голове, но сначала в сердце) вихрем пронеслись самые ужасные подозрения: наркотики, тайные пороки, аборт, жиголо – все, что пугает и тревожит матерей в наше время, – худшие подозрения пронеслись, сопровождаемые набором слов, какие полагаются в таких случаях. Вначале Гортензия не поняла, о чем ее спрашивают и почему мать так взволнована. Потом сообразила, в чем дело, и пелена упала с ее глаз. Она покраснела, забормотала что-то невнятное, наотрез отказалась отвечать на вопросы, усилив сразу все самые страшные и взаимоисключающие подозрения матери, обещала все рассказать в другой раз, проводила ее, села на кровать и залилась слезами.
Она проплакала пятьдесят три минуты. Затем она вытерла глаза, приняла очень горячую ванну и начала злиться (браво, Гортензия! Я давно этого ждал! Милая, дорогая Гортензия! – Примеч. Рассказчика). Взламывать и обчищать загородные дома, фабрики по пошиву бюстгальтеров, ювелирные лавки – это прекрасно, это призвание Моргана, его судьба, к этому по сути его обязывало «золотое правило», и она ничего не имела против. Но покуситься на ее туфли, в жаркой тишине after-glow[8]8
Вечерней зари (англ.).
[Закрыть] (так в «Унесенных ветром» называются минуты после неистовых объятий, когда любовники в томном изнеможении распростерлись на смятом ложе) вероломно красть самые дорогие и красивые экземпляры из ее коллекции обуви – это уже слишком! Гортензия мгновенно увидела Моргана в другом свете, и этот свет ей не понравился. Она решила посоветоваться с Иветтой. Позвонила ей и сообщила о своем Разочаровании.
Иветта отозвалась сразу. Было пятнадцать часов шесть минут. С помощью трех телефонных звонков она назначила на семнадцать часов в доме Синуля заседание Военного Совета. В нем должны были принять участие Синуль, его жена, дочери и Бальбастр (он сполна узнал страдания любви, когда потерял Гоп-ля-ля), сама Иветта и я, Рассказчик. Меня пригласили на эту ответственную встречу, так как Иветта (ни о чем не догадываясь) предполагала, что мои связи с Блоньяром могут оказаться полезными, если понадобится дать ход этому делу. Помимо принятых решений итогом Военного Совета у Синулей стала дружба, завязавшаяся между Гортензией и Арманс (которая находила ее симпатичной, хоть и несколько глуповатой для ее возраста); дружба эта очень пригодилась мне впоследствии, когда Арманс была на стажировке в издательстве, где публикуется наш Автор.
Итак, Военный Совет под председательством Иветты собрался в семнадцать часов в гостиной Синулей, перед громадным блюдом с пирожными и булочками от Груашана, способствующими работе мысли и щекочущими воображение. Гортензия была одета, как одеваются в печальных обстоятельствах. Она выбрала самое строгое из своих летних платьев, какое можно было бы надеть, например, на уик-энд в Уэльсе, где не разглядишь моря, пока не ступишь в воду, потому что дождь и туман стоят в воздухе плотной завесой; приходится целый день сидеть в пабе или у себя в комнате и есть ячменные лепешки с корнуэльским кремом. Впрочем, строгость этого платья возмещалась его открытостью вверху и внизу; верхняя его часть щедро открывала груди Гортензии, когда она наклонялась над тарелкой, а нижняя как бы сама собой поднималась над скорбно и непроизвольно расставленными коленями так, что у меня, сидевшего напротив, перехватывало дыхание и пропадал голос.
Иветта начала с того, что кратко объяснила причины моего присутствия на Совете. Гортензия не была со мной знакома, но я почувствовал, что пламенные взгляды, которые я устремлял на нее возле лавки Эсеба в течение месяца, оставили в ней какой-то подсознательный след: она мгновенно дала понять, что считает меня своим страстным поклонником (так оно и было), и у меня сложилось впечатление, будто я не был ей противен, несмотря на ее угнетенное состояние. Это еще более укрепило во мне решимость помочь ей избавиться от преступника, который так постыдно обманул ее доверие.
Затем Иветта изложила присутствующим историю событий, особо подчеркнув доверчивость и невинность счастливой Гортензии, ее снисходительность в тот момент, когда был открыт чемодан взломщика, и под конец сообщила о сегодняшнем трагическом открытии.
– Вот почему мы собрались здесь. Что будем делать?
Синуль предложил набить ему морду при условии, что мы в это время будем держать его за руки и за ноги. Все остальные единогласно отвергли это предложение.
В полицию решили пока не обращаться. Не исключалось, что я попрошу о помощи Блоньяра, но это в самом крайнем случае.
– Скажи честно, – спросила Иветта, – ты правда решила с ним порвать?
Решимость Гортензии была непоколебима. Она не проведет больше ни одной ночи в объятиях того, кто украл ее туфли.
Мы поспорили.
Мы поели.
Мы выпили чаю, шоколада, кока-колы, пива.
Был разработан следующий план действий: первым делом Синуль и Рассказчик (то есть я) пойдут к Гортензии и поставят на дверь еще один замок, поскольку у Моргана наверняка есть все ключи. Потом Иветта переночует у нее в комнате для гостей, они вдвоем дождутся возвращения преступника, и тогда, защищенная дверью и Иветтой, Гортензия скажет ему:








