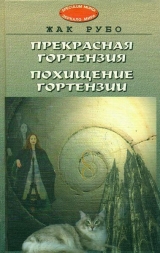
Текст книги "Прекрасная Гортензия. Похищение Гортензии."
Автор книги: Жак Рубо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Жак Рубо
Прекрасная Гортензия
Глава 1
Эсеб
Летом бакалейная лавка Эсеба открывалась в восемь утра. Зимой, впрочем, тоже. Но летом лавку открывал сам Эсеб собственной персоной: поднимал решетку, которая никогда по-настоящему не запиралась, выносил на тротуар коробки с овощами и фруктами, открывал их, раскладывал содержимое – помидоры, апельсины, персики, салат, бананы – практично и красиво, то есть самые гнилые запихивал в нижний ряд или на задний план, а сверху и спереди помещал те, что еще сохранили сколько-нибудь приличный вид. Закончив, таким образом, к полному своему удовлетворению, трудовой день, он занимал позицию на мостовой, между помойными баками, в нескольких шагах от остановки (по требованию) автобуса «Т».
Как только открывалась дверь магазина, или, самое позднее, как только вслед за этим раздавался лязг заржавленной решетки, на пороге появлялся Александр Владимирович и с царственной грацией прыгал на коробки, устраиваясь обычно среди лимонов, которые, по его мнению, выглядели здоровее, чем груши или лук. Там он возлежал в позе сфинкса, ожидая пробуждения мадам Эсеб, а главное – своей утренней порции молока «Глория». Ожидание это никогда не бывало чересчур долгим, поскольку Эсеб полностью отстранился от торговли и всю ответственность взяла на себя его супруга. У Эсеба же были другие заботы.
Мы воспользуемся этой краткой передышкой, чтобы набросать портрет Эсеба (когда я говорю «мы», то подразумеваю рассказчика или, вернее, рассказчиков этой истории, ибо всякая история предполагает не одного, а нескольких рассказчиков, ведь во всяком правильно построенном повествовании имеется великое множество мест и мозгов, в которых происходит что-то важное; только слабоумный романист всегда пребывает в одной и той же точке, то есть внутри самого себя, под собственной макушкой. Сам я, Жак Рубо, – лишь тот, кто водит пером, а точнее, гелевой ручкой «пилот», которая пишет очень тонко, на что указывает желтый ободок на крышечке, тогда как ручка с белым ободком пишет толсто; гелевая ручка стоит дороже, ну да ладно, – вот почему я говорю «мы», употребляя это местоимение из скромности. Впрочем, в данном романе, как вы скоро увидите, есть Рассказчик, – один из персонажей этой истории. Он появится во второй главе и будет говорить «я», как делают обычно рассказчики в романах. Но я прошу не путать его со мной, Автором).
Итак, чтобы набросать, если можно так выразиться, портрет Эсеба, мы воспользуемся этой краткой передышкой: в шестьдесят лет – в возрасте, который он сохранял практически до самой смерти, – Эсеб утратил интерес к в общем-то тривиальным проблемам бакалейной лавки и все заботы о ней возложил почти исключительно на мадам Эсеб и Александра Владимировича, чтобы посвятить себя другой деятельности, если и не более возвышенной, то, во всяком случае, более волнующей с его точки зрения.
Лавка Эсеба, основанная его отцом, Эсебом-старшим, находилась в широкой части улицы Вольных Граждан, на пересечении с крошечным отрезком улицы Закавычек, которую в то время перерезал пополам сквер Отцов-Скоромников. Улица Закавычек в этом месте очень узка, а улица Вольных Граждан напротив выступающего фасада церкви Святой Гудулы, наоборот, расширяется – ей приходится огибать церковь, чтобы влиться в центральную часть города, как она привыкла делать с незапамятных пор. Справа, по направлению к востоку (если мы встанем перед бакалейной лавкой, как обычно стоит Эсеб), находится перекресток улиц Вольных Граждан и Староархивной. Перекресток этот довольно-таки просторен, отчасти по причине вышеупомянутого расширения улицы Вольных Граждан, а также и потому, что дом, стоявший на углу, почти напротив Эсеба, состарился и сгинул, словно зуб, расшатавшийся по вине микробов и из-за отсутствия твердых убеждений. Обнажившаяся вследствие этого стена соседнего дома (с каркасом из потемневших балок в чистейшем старонормандском стиле) покрыта рисунками, надписями и объявлениями, ведущими между собой яростную борьбу за существование; среди надписей вполне предсказуемого содержания («Эмильена каждаму дает! Тибя видили в сквере, превет от Бебера!») есть и такое, несколько загадочное и вместе с тем меланхолическое признание: «Только я один понимаю Пюви де Шаванна!»
Муниципалитет, испытывая временные трудности с озеленением, посадил тут две маленькие, ничего не ждущие от жизни белые акации, которые плохо переносят выхлопные газы и делают вид, будто находятся в каком-то другом месте. И это им настолько хорошо удается, что даже создает опасность: дело в том, что движение по улице Вольных Граждан одностороннее, с запада на восток, то есть, по отношению к нам, слева направо; а по Староархивной – сверху вниз (так показано на плане города, однако для нас это выглядит как оттуда – сюда), или, если вы внимательно следите за нашими рассуждениями, с севера на юг. Так вот, машины беспечно подъезжают к перекрестку каждая со своей стороны, с уверенностью в своем превосходстве. Поскольку светофора здесь нет, а обе акации успешно прикидываются невидимками, то часто, особенно среди ночи, дело кончается аварией, треском, лязгом, скрежетом, нашествием полиции и «скорой помощи», а также взаимными обвинениями, от которых радуется сердце мадам Крош, консьержки из дома 53. Эсеба все эти волнения оставляли равнодушным.
Надо вам сказать, что улица Вольных Граждан, сама по себе полностью лишенная памятников старины, равно как и интереса – те же свойства отличают ее соперницу и перпендикуляр, Староархивную улицу, – связывает между собой два чрезвычайно притягательных для туристов района. Первый, на востоке, знаменит старыми дворцами из старых времен, старыми улицами с подновленными фасадами (улица Олеандра де Меандра, улица Плесси дю Армана – «писца и сочинителя», улица Пеана де ла Круладьера – «юриста», улица Эмиля Золя – «романиста с материалистическими взглядами», улица Элеазара де Брокур-Серсильи, графа де Шандевиля, и так далее, и тому подобное), старыми мастерскими старых художников, изысканными кафе-кондитерскими и садами с причесанной осенней листвой. Во втором, на западе, ближе к центру, пульсирует современная жизнь, в галереях нью-йоркской живописи на углах пешеходных улиц можно купить все полотна, залежавшиеся в Бронксе, там и сям красуются приглашенные городским советом клошары (наполовину – клошары-осведомители полиции, наполовину – полицейские, переодетые клошарами), поддельные поэты декламируют стихи, стоя у фонтана, юные музыканты и музыкантши на миниатюрных флажолетах и массивных виолах да гамба допоздна наигрывают прохожим элегические пьесы Марэна Марэ. Как сказано в путеводителях, старый квартал лучше осматривать утром, а современный – днем. А потому между двумя кварталами с утра до вечера не иссякает разнонаправленный поток: это снуют туристы, большей частью пешие. Дойдя, предположим, до нашего перекрестка, они останавливаются в нерешительности, достают из сумки, рюкзака или кармана план, останавливают такси, прохожих, машины, автобусы «Т» и спрашивают на чужеземных языках: «Пютипон, плиз?» или «Гъюго, битте?», затем радостно исчезают, устремившись за храм Святой Гудулы или свернув на улицу Закавычек, в сквер Отцов-Скоромников.
С точки зрения Эсеба, которой мы будем придерживаться в этой главе, туристы четко делились на две основные категории (помимо особых или пограничных случаев, жителей Шотландии и иже с ними): мужчины относились к категории I, женщины – к категории II. Категория I интереса не представляла. Категория II (женщины), в свою очередь, делилась на две подкатегории («Понимаешь, – объяснял он мадам Эсеб, – это вроде как овощи в коробках: бывает зеленая фасоль, а бывает горошек; горошек бывает обычный и высшего сорта; а высший сорт бывает сырой либо вареный, верно?» – говорил он мадам Эсеб, но та уже спала). Итак, в категорию II (женщины) входили Интересные (А), а также Неинтересные (В). Подкатегория IIВ (Неинтересные) интересовала его столь же мало, как и категория I (мужчины). Интересовался он исключительно Интересными (IIА), в число которых по зрелом размышлении включил еще особую группу Небезынтересных – на эту мысль его навел отец Синуль, горячий поклонник Николая Кузанского и, по словам Эсеба, «большой потешник»; эту группу мы обозначим как IIА.
Прекрасно, скажете вы, теперь остается узнать, по каким именно признакам Эсеб определял представительниц категории II как интересных (словом «вы» с этой минуты и до конца романа мы будем обозначать Читателя, портрет коего, обобщенный или составленный по описанию, украшает кабинет коммерческого директора нашего издательства и коему мы из почтения не решаемся тыкать). Ответ звучит просто: по возрасту, каковой по биологическим причинам, а также из предосторожности начинался с пятнадцати лет и не должен был превышать максимума в пятьдесят девять, то есть шестьдесят минус один – поскольку, как мы помним, именно шестьдесят лет Эсеб с некоторого времени решил считать своим неизменным возрастом. Мадам Эсеб тогда исполнилось пятьдесят девять, то есть опять-таки шестьдесят минус один, если наши подсчеты верны, а стало быть, она пока еще числилась в Интересных (впрочем, как раз в это время появился Александр Владимирович, и всю нерастраченную нежность мадам Эсеб обратила на него); но поскольку мадам Эсеб в отличие от мужа продолжала очень заметно стареть, она становилась явно Неинтересной; таким образом, она, можно сказать, была Интересной в историческом аспекте и Неинтересной в соотнесении с современностью и вследствие этого находилась вне игры, что вполне устраивало Эсеба с моральной точки зрения.
Итак, любая женщина от пятнадцати до пятидесяти девяти лет была Интересной; однако у Эсеба был еще один критерий, налагавший дополнительные ограничения: Туристичность. Интересными могли быть исключительно туристки. Следует отметить, что некоторые обитательницы этого квартала, подходящие по возрасту, были зачислены в категорию IIА (точнее, IIА) как приравненные к туристкам или как почетные туристки. Чтобы развить далее эту классификацию, вызывающую большой интерес, нам следует задаться вопросом: что именно могло быть интересного в женщине, особенно в туристке. С этой целью мы присоединимся к Эсебу во время осмотра кандидаток, подвергавшихся постоянному отбору.
Когда на перекрестке появлялась туристка, она попадала в поле зрения Эсеба, и его изучающий взгляд следовал за ней, пока она не скрывалась из виду. Если она двигалась по противоположной стороне улицы, он осматривал ее в профиль. Если она переходила улицу напротив него (с той стороны на эту), он осматривал ее в фас. (Чтобы не дать ей перейти левее и оказаться у него за спиной – так ему пришлось бы оборачиваться, – он применил тактику отпугивания: сдвинул помойные баки и кучу старых ящиков влево от лавки.) Наконец, если она переходила правее или же – и в особенности – если она сворачивала на улицу Закавычек, он осматривал ее со спины и на близком расстоянии. Он стоял на своем посту, слегка расставив ноги, в брюках серого, а на коленях – неопределенного цвета, почти закрывающих ботинки, в зеленом свитере с пятнами от перезрелых овощей и фруктов, кое-как заправленном в брюки, и серой фуражке отставного служащего ФЭК – ФГК[1]1
Французская электрическая компания – Французская газовая компания.
[Закрыть], надетой набекрень.
Тело его оставалось почти неподвижным, если не считать головы, вращавшейся вокруг своей оси (которую мы назовем шеей) вслед за глазами, а в самой голове двигалась еще сильно выступающая, удлиненная и плохо выбритая нижняя челюсть, ритмично поднимаясь и опускаясь со звучным чавканьем и невнятным ворчанием (смысл этой фразы, перенятой им от деда, так и остался для него нераскрытым, он адресовал ее исключительно самому себе как лозунг, поучение и комментарий одновременно: «Клево дело, мальцы, клево дело!»). Однако он не смотрел на лицо туристки, не смотрел на ее ноги, не смотрел на ее шею и плечи и лишь мельком смотрел на ее колени (но только если они были открыты). Он наблюдал исключительно за движением промежуточных частей – бедер, живота, груди и спины, стараясь, как истинный исследователь, за видимым угадать более или менее тщательно скрытое невидимое, обращая внимание на выразительные лобковые выпуклости, отсутствие лифчика, подолы платьев, которые благодаря удачному взаимодействию законов движения и трения сильно задираются вверх и порой даже зажимаются между ягодицами, если таковые достаточно упруги, крепки, округлы и удобоохватны (последнее определение мы выбрали за благозвучность, хотя оно выглядит несколько устаревшим). Он никогда не упускал из виду краешки трусов – их легко распознать по четким выпуклым линиям. Но с особым, можно сказать, слюноглотательным нетерпением он подстерегал восхитительные сюрпризы: нежданные открытия, представшие взору в расстегнувшемся вороте блузки, пушок, мелькнувший из-под мини-юбки в отсутствие нижнего белья и не всегда совпадавший по цвету с волосами (лишь в этих случаях его взгляд поднимался выше подбородка); а эффектные ракурсы, когда предмет наблюдения, стоя к нему задом, нагибался и поднимал какую-нибудь упавшую вещь, вызывали у него трепет. В эти редкие благословенные минуты он впадал в своего рода экстаз, из которого его могло вывести лишь еще одно видение, несущее с собой новые надежды.
Нетрудно понять, почему он больше любил лето и почему ограничивался одними туристками. Ведь летом (к которому можно также отнести весну и часть осени) солнца больше, а потому уменьшается общее количество предметов одежды и вес каждого из них, что способствует появлению открытых участков и усиливает вероятность прозрачности, а также волнующего взор увлажнения. Что же касается предпочтения, вначале случайного, затем обдуманного, безоговорочного и безусловного (он вообще не ставил себе условий), оказываемого туристкам, то тут дело было сложнее. Он не был эстетом и сосредоточивал внимание на туристках не потому, что находил их самыми красивыми. Целью его деятельности было познание, то есть выработка классификации. Но туземки, с юных лет закаленные эсебовскими, неоэсебовскими и параэсебовскими взглядами, характерными для нашего климата и наших больших городов (и вызывающими зависть всего мира), привыкли заслоняться от них красотой в соединении с элегантностью, то есть совершенством. Однако совершенство непроницаемо. Панцирь красоты защищает лучше, чем какой-нибудь скафандр. А познание – и Эсеб вполне отдавал себе в этом отчет – нуждается в несовершенстве, дабы раскрыть тайны природы. Если взгляд хочет отследить ногу до того места, откуда, как говорится, она растет, найдется ли у него более надежный вожатый, чем поехавший чулок?
А потому безвкусица в одежде, простодушие, небрежность или попросту невинность туристок, особенно из тех стран, где мужские взгляды не задевают их напрямую, открывали Эсебу богатейшие возможности: шорты, откуда выглядывали ягодицы или даже трусики; темное белье под светлым и просвечивающим платьем; золотистые волоски, вспыхивающие на свету сквозь прозрачный нейлон из-под короткой юбки; вымокшие в грозу платья, опять-таки прозрачные и подчеркивающие выпуклости фигуры; груди, вздрагивающие от холода или редких капель дождя; подолы, задранные шаловливым ветерком или могучим шквалом. С мая по октябрь несметные толпы швейцарок, немок, голландок, англичанок, американок и даже японок доверчиво подвергали себя эсебовским изысканиям. В результате, как правило, они бывали порядком удивлены и даже слегка потрясены.
Была и еще одна, важнейшая причина, по которой Эсеб выбрал туристок. Сам того не зная, он согласился с поэтом, сказавшим: «Любите то, что нельзя увидеть дважды», и желал, чтобы каждый из его опытов стал единственным в своем роде, поразительным, волнующим приключением, неким рубежом между невозвратимым прошлым и непроницаемым будущим (он терпеть не мог повторения одного и того же, кроме как в еде). «Нельзя увидеть дважды одну и ту же туристку на улице Вольных Граждан», – говаривал он мадам Эсеб, дабы расширить ее философские познания и уберечь от ревности. «Зато ты всегда один и тот же, старый грязнуля!» – нежно отвечала она. Впрочем, ему было бы весьма затруднительно узнать какую-нибудь туристку, если бы она решила вдруг предстать перед ним снова. Иногда он, обознавшись, принимал за туристку обитательницу своего квартала и начисто забывал ее до следующего раза. «Понимаешь, – говорила Иветта отцу Синулю, – меня не смущает, что он балдеет от моей задницы, в мои годы это даже приятно, но ведь он всякий раз меня не узнает!»
Глава 2
Гортензия
В то утро, когда началась эта история, ясное и теплое утро начала сентября, я вышел из дому чуть раньше восьми. Я еще не успел как следует проснуться, ибо новая работа, к которой я приступил незадолго до этого, была не то чтобы ночной, но предполагала скользящий график.
Сперва я зашел к мяснику Буайо. Обычно я был его первым покупателем, поэтому в лавке было еще пусто и прохладно, а из-за двери холодильной камеры приятно пахло телячьей головой, петрушкой и свежими опилками. Я купил два раза по триста граммов филе, пакетик замороженного горошка и вакуумную упаковку якобы молодого картофеля, сваренного и готового к употреблению: бросить на три минуты в кипящую воду, затем подать на стол, размять вилкой и сдобрить оливковым маслом. Это было основное, что мне требовалось для четырех обедов, а в дополнение я еще покупал у мадам Эсеб сладкие фруктовые сырки и чуть подальше, на улице Вольных Граждан, – хлеб и фрукты. Я всегда запасаюсь едой на четыре обеда, предварительно составив их меню из регулярно чередуемых диетических компонентов по списку, который висит у меня над холодильником. Это очень просто и избавляет от размышлений – пренеприятнейшего занятия (особенно в моей работе), вдобавок отнимающего массу времени. Иногда я ужинаю в забегаловке на углу – ради салата и сельдерея с соусом (на десерт – карамельный крем или кекс) либо в китайском ресторане, ради имбирного варенья и личи в сиропе: это несколько разнообразит мой рацион.
Буайо тоже как-то раз в субботу вечером, перед выходным, поужинал в китайском ресторане вместе с женой, мадам Буайо (Вероника была у бабушки в Тиэ), и пришел к выводу, что китайцы готовят мясо совсем не так, как мы. «Вот что я вам скажу, месье Морнасье, – заметил он мне, – наша еда – это хороший лангет или бифштекс с луком. Но куча мелких ошметков неизвестно какого животного – это не для нас! То есть я не хочу сказать, что получается невкусно, но тем не менее!» Над прилавком у Буайо висит картина, которую он нашел на чердаке у родителей жены, на берегах Ионны. «Этой картине самое малое сто лет!» – гордо изрекает он. На картине изображен покойник, лежащий на столе, а вокруг него – люди в черном, в старинных костюмах, вооруженные остро отточенными инструментами, чтобы резать труп в различных местах. Буайо доволен картиной, которую, по его словам, никто, кроме меня, не одобряет. Мадам Буайо находит ее «омерзительной» и говорит, что на такое незачем смотреть Веронике. Но Веронике пять лет, и у нее совсем другие заботы: ей надо сохранить за собой постоянное место в песочнице в сквере Отцов-Скоромников, на которое претендуют другие попки. Однако вернемся к нашей истории, а то Рассказчик расскажет нам всю свою биографию.
Расплатившись, я вышел из лавки, а Буайо вышел за мной, оба мы остановились и стали смотреть на проходящую напротив группу молоденьких, свеженьких скандинавок, только что прибывших из своей Скандинавии и в предвидении летних забав и южного солнца чрезвычайно легко одетых. Будь мы сильно постарше (как, например, Автор), мы бы с волнением вспомнили первые обнаженные шведские груди, мелькнувшие на целомудренных экранах начала пятидесятых, маленькие груди Биби Андерсон в фильме «Она танцевала одно лето». Скандинавки остановились в лучах пока еще нежаркого солнца и защебетали, размахивая зелеными и синими путеводителями, красными и коричневыми планами и оглашая воздух скандинавскими согласными с бесчисленными «ц» и «ш». Все это было весьма приятно, и мы молча созерцали их взором добрых дядюшек, но внезапно нас грубо оторвал от созерцания ядовитый голос мадам Крош, консьержки из дома 53, которая втаскивала опустевшие помойные баки в подъезды с первого по шестой: «Сексапил, как говорят англичане!» В это мгновение зазвонил колокол Святой Гудулы, и я заторопился в бакалейную лавку («Эсебʼс», как сказали бы в Оксфорде), ибо с минуты на минуту должна была появиться невольная виновница моего раннего пробуждения.
Эсеб уже стоял на посту. В полутьме лавки мадам Эсеб и Александр Владимирович беседовали с отцом Синулем, который пришел купить сырков на завтрак своим дочкам-близняшкам, Арманс и Жюли: один сырок, с абрикосом, для рыжей Арманс, другой, с клубникой, для белокурой Жюли; этот цветовой диссонанс раздражал меня, словно досадная фальшивая нота в великолепной органной фуге, исполненной их отцом. (В моей профессии важно вовремя ввернуть эффектную фразу, Автору до такого не додуматься!) Отец Синуль был органистом и атеистом. Кроме сладких сырков он покупал еду для себя – сыр и литр пива, что составляло тему его традиционной беседы с мадам Эсеб:
– Милая мадам Эсеб, ваш куломье очень вязкий!
– Ах, месье Синуль, они теперь только такой и делают. Мне они привозят только пастеризованный сыр. Настоящий они приберегают для экспорта.
– А ведь хороший куломье, из свежего молока и желтый внутри, это даже лучше, чем камамбер, правда?
– Ах, еще тридцать лет назад у нас был такой чудный маруаль!
– А вьелиль!
– А северный с запахом! Между прочим, в самом лучшем корсиканском овечьем сыре, когда его разрежешь, видны маленькие червячки.
– А как ваш муж, все по-прежнему?
– Все такой же старый грязнуля, вон, поглядите на него!
Александр Владимирович брезгливо встопорщил усы. Засим беседа прервалась привычной паузой, перед тем как обрести второе дыхание. Я мог бы воспользоваться этим, чтобы купить сладкие сырки (два с малиной, два с лимоном и ни в коем случае не со смородиной, чей пурпурный цвет не вызывал у меня энтузиазма), но мне было не к спеху.
Отец Синуль убрал в корзинку молоко, пиво, куломье и сырки, пытаясь угадать, какую следующую тему изберет для рассуждений мадам Эсеб, ибо теперь настал ее черед. Мадам Эсеб любила беседовать с отцом Синулем: после 1950 года ее воображение перестало работать и проблемы, волновавшие ее молодых покупателей и покупательниц, – телевидение, арабы, теннис, – доходили до нее с трудом. А отец Синуль был человеком если не совсем, то почти что ее поколения. У нее было на выбор несколько надежных тем вроде предыдущей. Например: «Ну и молодежь пошла!», или «Дождемся мы от них, как же!», или «…Все эти психи за рулем (вариант: „Когда же наконец тут поставят светофор, вот и сегодня, в час ночи, опять!..“)». Неудивительно, что между мадам Эсеб и отцом Синулем часто завязывались споры о Боге и его наместниках на земле, поскольку первая была доброй католичкой, прихожанкой соседней церкви Святой Гудулы, и безропотно несла свой крест, с тех пор как на Эсеба нашло затмение; второй же был последовательным и безусловным антиклерикалом на старый лад, каких теперь уже не сыщешь. Более странным может показаться то, что они расходились во мнениях о погоде. Объяснялось это тем, что у мадам Эсеб для данной темы имелся стандартный зачин, выработанный в давние времена после американских испытаний на Бикини в 1948 году (то была эпоха Риты Хейворт и фильма «Джильда»); тогда она была молодой женой и начинающей коммерсанткой, одновременно старалась понять, что нужно мужчине и что требуется покупателям, и придумала, как ей казалось, очень оригинальный оборот, а впоследствии так и не решилась поменять его на что-то другое. Если шел дождь, она говорила: «Дождь идет, а как же иначе, наделали они дел своей атомной бомбой!» Если стояла хорошая погода, она замечала: «Погода хорошая, но это ненадолго, наделают они дел своей атомной бомбой!» Со своей стороны отец Синуль, постоянный читатель журнала «Наука и жизнь», член Союза рационалистов и поклонник экспериментального метода, считал влияние атомных взрывов на погоду не вполне доказанным фактом, а потому решительно опровергал подобные утверждения, что приводило к увлекательным и ожесточенным дискуссиям. И вот мадам Эсеб, по-видимому разнежившись на утреннем солнышке, выбрала темой погоду; но не успела она раскрыть рот, как показалась Гортензия.
_________
Громкое урчание возвестило нам о том, что она появилась в поле зрения Эсеба. Я живо обернулся, и беседа оборвалась. Поскольку героиня этого повествования именно Гортензия (а отнюдь не Рассказчик, месье Морнасье, – мы хотим уточнить это сразу во избежание путаницы, которою он не преминул бы воспользоваться в собственных подозрительных целях), нам следует дать ее предварительное описание.
Девушке, которая месяц подряд каждое утро – и каждое следующее вне зависимости от предыдущего – вызывала восторги Эсеба (а поскольку реакция Эсеба, как показано в главе 1, всегда была обусловлена объективными критериями и не искажалась воспоминаниями, то поразительная повторяемость урчания при виде Гортензии могла свидетельствовать лишь о стройности его выводов и ни о чем другом, ибо всякий раз он ее не узнавал), этой девушке, идущей по улице Вольных Граждан, было приблизительно двадцать два года и шесть месяцев. Она была чуть выше среднего роста, с большими удивленными глазами, чуть тяжеловатыми коленями, округлыми щеками. Одета она была исключительно – и мы подчеркиваем это – в очень короткое и открытое, но дорогое и яркое платье, ее туфли были вовсе не рассчитаны на хождение по улицам, зато удовлетворяли запросам Эсеба – когда она пыталась в них двигаться быстро, постоянно возникал зазор между телом и платьем. Этого пока достаточно, впоследствии у нас будет возможность описать ее более полно, более подробно и беспрепятственно.
Быстрая походка, а также отсутствие нижнего белья под платьем Гортензии (случай скорее исключительный) объяснялись тем, что она опаздывала. Несколькими минутами раньше она услышала несвоевременный звонок будильника, заметалась по своей большой квартире и спросонок выхватила из полутьмы огромного шкафа первое попавшееся платье, не заметив, что оно невесомое и полупрозрачное, и теперь совершенно неумышленно предстала в нем перед пятью парами устремленных на нее глаз; и впечатления, вызванные ею у каждого из пятерых зрителей, были весьма различными.
Отец Синуль смотрел на нее с добродушной снисходительностью, ибо она напоминала ему его дочек, особенно дочкиных подружек, стайку очаровательных юных созданий, до ужаса неотличимых друг от друга и очень легко одетых, которые постоянно мелькали в гостеприимном доме Синулей. Он уже запасся пивом, куломье и сырками, предвкушал прохладу Святой Гудулы и веселые разговоры в бистро – одним словом, впереди был славный денек, и при виде Гортензии его глаза мягко заблестели за стеклами очков.
Что до меня, то в моем взгляде читалось гораздо большее волнение: вот уже месяц каждое утро (но по иным причинам, нежели Эсеб, и прекрасно зная, кто передо мной) независимо от того, в котором часу удалось заснуть накануне, я непременно приходил в бакалейную лавку, чтобы увидеть, как Гортензия идет по противоположной стороне улицы, и сегодня мне впервые посчастливилось так хорошо ее разглядеть. Конечно, я был взволнован этим видением, но еще больше волновала меня задача, которую я поставил перед собой ради моих профессиональных планов, близких к решающей фазе: не влюбляться в Гортензию. Так я решил, решил твердо, бесповоротно, раз и навсегда; одна-единственная минута созерцания, которую я позволял себе по утрам, эта ежедневная и быстролетная минута должна была обеспечить мне душевный покой в оставшиеся 23 часа 59 минут, однако вместо этого она заставляла меня колебаться в моем решении. Сегодня утром отсутствие кусочка ткани, впрочем, как правило, почти незаметного (хоть у меня нет наблюдательности и опыта Эсеба, все же и я могу судить об этом), а также быстрая походка со всеми своими последствиями представляли серьезную угрозу для моего будущего. Вот почему мой взгляд был не столь безмятежным, как у Синуля, и не столь откровенным, как у Эсеба.
А мадам Эсеб это зрелище оставило совершенно равнодушной. Навидалась она этих милашек за тридцать лет. Одной больше, одной меньше. Раз это занимало Эсеба и он не рассовывал куда попало помидоры, рис и молоко, она даже была довольна. Она подумала только, что эта Гортензия не трусиха, если ходит по улице без трусов, да еще в платье, сквозь которое все видно. Но чему тут удивляться. Известно, какая теперь молодежь.
Александр Владимирович находил поведение Гортензии постыдным и безнравственным, а все в целом – нестерпимо скучным.
Гортензия скрылась за углом улицы Вольных Граждан, провожаемая пятью парами молчаливых глаз, поцокиванием языка и вздохом. Александр Владимирович кашлянул.








