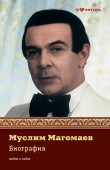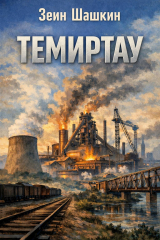
Текст книги "Темиртау"
Автор книги: Зеин Шашкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Да нет, он дома лежит,– ответил Каир.– Так ведь от этого не легче. Застарелый ишиас, неизвестно, когда встанет... А тут еще другая беда – в мое отсутствие главный инженер вынес выговор Сагатовой.
Серегин снова поморщился и махнул рукой.
– Знаю. Из-за этого выговора мы с Муслимом чуть не подрались.
– Вот как? – живо подхватил Каир.– Значит, по-вашему, выговор несправедливый?
– Безусловно! – Серегин с уверенностью кивнул головой.– Несправедливый, как и всякое сведение личных счетов. Но я думал, вы снимете этот выговор, как только приедете.
– Это я сниму? – усмехнулся Каир.– Нет, куда уж мне. '
Каир встал и прошелся по кабинету. Так он делал всегда, когда сильно волновался или сердился.
– Как же мне его снять? – продолжал он.– Ведь этот приказ согласован с горкомом, с Базаровым лично... Они же друзья – Базаров и Муслим. Как что Муслиму не нравится, так сейчас: я к Базарову поеду, я об этом с Базаровым поговорю...
– Черт! – Серегин так рассердился, что ударил кулаком в подлокотник кресла.– Вот я ему покажу, как спекулировать чужим именем. Да и потом, при чем тут Базаров? Дело Сагатовой – дело производственное, оно касается только технической части завода, горком тут явно ни при чем.
– Это-то так,– ответил Каир,– а вот бегает наш главный инженер в горком, и никто ему не указ. А сегодня Муслим прислал мне еще документик. Вот прочитайте-ка! – и он протянул через стол бумагу.
«Недисциплинированность этой бригады,– читал Серегин,– выражается, однако, не только в одном производственном браке. Налицо и бытовое разложение. Бригадир Ораз Курышпаев пьянствует и не всегда аккуратно выходит на работу. Так например...»
Серегин пропустил абзац.
«Не лучшие результаты,– читал он дальше,– дает и смена инженера Дамеш Сагатовой. Не имея никакого производственного опыта, Сагатова тем не менее... Ввиду всего указанного, считал бы необходимым перевести инженера Саратову на работу в технический отдел завода, заменив ее...
Серегин прочел бумагу до конца и бросил ее на стол.
– Знакомая песенка.
Каир молча сложил рапорт и положил его в папку.
– Самая главная наша беда в том,– сказал он,– что бригада действительно сбавила темп. А тут еще бригадир попал в милицию – подрался с кем-то. Милиции, конечно, дела нет, кто он. Не нарушай тишину. А заводу неудобно. Ну как же? Наш герой, орденоносец, и вдруг в милиции за мелкое хулиганство. В общем, бригада распустилась. Слово за вами, товарищ парторг. Надо поговорить с людьми, да так, чтобы у них зачесались затылки. Поговорите?
– Поговорю, Каир Рахимович,—проговорил Серегин и встал.– Крепко поговорю... Зачешутся!..
Прямо из кабинета Каира Серегин пошел в горком.
Хлестал дождь, на улице разливались бурные потоки. Серегин, вымокший и уставший, не раздеваясь, прошел прямо в кабинет секретаря. Около двери стояла небольшая очередь.
Николай Иванович кивнул головой на кабинет и спросил у одного из ожидающих:
– Есть там кто-нибудь?
– Инструктор,– ответили ему,– сидит уже целый час.
– Можно? – спросил Серегин и постучался,
– Одну минуточку,– крикнул Базаров, но Серегин уже толкнул дверь и вошел.
Базаров сидел за столом. Он быстро подписывал какие-то бумаги и отдавал их секретарю. Против него в кресле сидел худой человек в тюбетейке и что-то оживленно рассказывал. Оба улыбались.
Увидев вошедшего Серегина, Базаров поднял голову и сказал:
– Здравствуй, Николай Иванович, заходи! —и снова наклонился над бумагами.
Серегин подошел к столу и спросил несколько официальным тоном:
– Василий Федорович, удели мне минут пять для разговора. Но только один на один.
– Вот только кончу с бумагами,– сказал весело Базаров и, подмахнув еще несколько бумаг, отдал их секретарю.
На минуту наступила такая тишина, что было слышно, как сердито жужжит шмель, ударяясь о стекло.
– Это очень интересно,– сказал Базаров, продолжая прерванный разговор,– но требует самой тщательной проверки. Поезжайте на Магнитку и сами ознакомьтесь с положением на месте. А в первую очередь проверьте торговую сеть. Вопрос снабжения сейчас основной. Впрочем, вы еще зайдете ко мне до отъезда, тогда поговорим поподробнее. .
. Он проводил инструктора до двери, потом вернулся к столу, опустился в кресло и сказал Серегину:
– Так, слушаю.
Серегин посмотрел на него и спросил коротко: – И долго ты думаешь руководить таким образом?
– Как? Что? – обомлел Базаров.
– Я спрашиваю, ты долго будешь руководить городом, не оставляя письменного стола?
Базаров молчал и оторопело смотрел на него.
Серегин вдруг засмеялся.
– Да нет, я еще не совсем с ума сошел, товарищ Базаров.
– Интересно,– протянул наконец Базаров.– Очень интересно! А ты не с левой ноги сегодня встал, а?
– Нет, не с левой! – сурово отрезал Серегин.– И вообще брось-ка этот тон. Пойми: тебя должны уважать как секретаря горкома! А гы вот этого не понимаешь. Считаешь, что все тебе улыбаются и руку жмут только потому, что ты такой гениальный! А в чем твоя гениальность? Три года, как ты сидишь в Темиртау, а что ты сделал за это время? Только поздравительные телеграммы принимал да в президиуме фотографировался – вот и все твои дела. .
– Ты говори, да не заговаривайся! – крикнул Базаров, и лицо у него вспыхнуло.– Вот такие, как ты, и мутят людей, даром что занимают ответственные партийные посты,
– Стой,– поднял руку Серегин.– Я тебя только об одном спрошу: сколько раз ты был на заводе? Вог на нашем заводе, сколько раз ты бывал?
– А я что, отчитываться перед тобой буду? – сказал Базаров и стиснул кулак.
. – Знаю – не будешь. Нечем тебе отчитываться передо мной и перед всеми нами. Нечем, за три года твоего сиденья в этом кабинете ты и на заводе-то был только один раз! Вот как знатный иностранец из-кинохроники!
– Ты прекратишь или нет?—крикнул Базаров и вскочил с кресла.
– Сиди, сиди, Василий Федорович! – Серегин махнул на него рукой.– Это еще только начало. Ты знаешь, сколько я тебе собираюсь высказать всего? Конечно, я и себя виню, и других товарищей. Никто из нас до сих :пор с тобой не поговорил как следует. Вот ты и возомнил про себя... А я ведь жалеючи тебя пришел...
Базаров иронически улыбнулся:
– Вот, оказывается, нашелся у меня благодетель! Да ты в зеркало посмотри, с какой улыбочкой ты говоришь мне все это? Иудина улыбка у тебя, товарищ Серегин.
– Ничего,– ответил Серегин,– я в зеркало каждый день смотрюсь, улыбка у меня нормальная. А говорю я тебе так потому, что о тебе забочусь. Ведь ты же с заводом как знакомишься? По сводочкам да протоколам? А судьбы коммунистов решаешь по докладам вот таких хлыщей, как тот, что только что сидел перед тобой?
– Смотри, уж и инструктор оказывается у тебя
хлыщ! – сказал Базаров.– Хотелось бы знать, что ж ты против меня имеешь? Назови факты.
– Факты? Какие же тебе нужны факты? Разве то,
что ты три года в кабинете просидел, не вылезая из кресла,– не факт? Ты руководишь жизнью города, а видишь город из окна своего кабинета. Это хорошо?
– И все-таки город я знаю, представь себе, лучше, чем ты.
– А, все это болтовня,– сказал Серегин.– Ни завода, ни города нашего ты не знал и не знаешь... Вот в газете «Советская Караганда» появилась статья о нашем заводе, так как, по-твоему, соответствует онa фактам или нет? Можешь ты в этом вопросе разобраться? Нет ведь? Нет! Обсудил ты эту статью на бюро? Опять-таки нет!
Что завод сделал после опубликования этой статьи, ты знаешь? Нет! Главный инженер наш написал письмо в газету, где разбирал статью по пунктам и со многим не соглашался. Читал ты это письмо? Ты его и в глаза-то не видел! Этот главный инженер терпеть не может молодых, всячески изводит и преследует их. Говорил ты с ним об этом? Нет! Вот видишь сколько «нет» получается, как только заговоришь о твоей работе.
– Ну что ж, продолжай, чего ты остановился? – сказал Базаров.
– Могу и продолжить,– спокойно ответил Серегин.– Дружба с Муслимом – это тоже твой грех. Ну как же, он все уши прожужжал в дирекции, всех инженеров тобой пугает, как серым волком: секретарь горко ма – мой лучший друг... Слышишь, друг! Слышишь, лучший! Как что случится, сейчас же у него одна песня: хорошо, будем говорить об этом в кабинете Базарова. И все знают – в кабинете Базарова разговор плохой. Очень плохой для рядового инженера! Ибо всему, что Муслим скажет, тому Базаров свято поверит.
– Ну, хватит,– оборвал его Базаров.– Хватит, послушал я тебя. Замолчи! А то сейчас созову по телефону бюро и поставлю вопрос о твоем поведении в кабинете первого секретаря.
Серегин встал.
– Ох, силен же ты, Василий Федорович,– сказал он насмешливо.– Ну звони, звони, я был бы рад... Очень бы мне хотелось потолковать с тобой на бюро. Я бы уж там все высказал, ничего не скрыл бы, да ведь не позвонишь... Ладно... Придется по-другому действовать! Ничего, мы найдем путь!
И, стуча деревянной ногой, Серегин вышел из кабинета.
Дождь давно перестал, но по улице еще всюду бежали ручьи. Серегин посмотрел на заходящее солнце и покачал головой. Долго же, однако, он проспорил с Базаровым. Все в нем еще дрожало от возбуждения, и он вместо того, чтобы идти домой, повернулся и пошел к озеру.
Да, Василий Федорович,– думал он,– недолго тебе сидеть в своем кресле! Такие друзья, как Муслим Мусин,
заведут тебя в такое болото, что ты из него и не вылезешь... Ведь подумать: секретарь горкома Темиртау в глаза не видел знатного сталевара Ораза Курышпаева... А Ораз работает, учится заочно в металлургическом институте. Если вдуматься как следует, то именно такие люди и являются гордостью республики. А секретарь горкома никогда и фамилии-то такой не слыхал. Впрочем, и он, Серегин, тоже хорош. Его бы тоже палкой бить, да, видно, некому. Ораз сейчас на перепутье, он переживает кризис, ему нужна помощь, чье-то дружеское плечо, рука, которую можно пожать. А он, секретарь парткома, только раз удосужился поговорить с ним и сразу же обозвал его мальчишкой: ты еще и жить-то как следует не начал, а уже с пьяных глаз в милицию попал,– крикнул он тогда и в сердцах вышел, хлопнув дверью. Нет, так не годится, он не должен был кричать. Кричать можно только в самых крайних случаях, а не тогда, когда чувствуешь свое бессилие. Он обязан был найти ключ к сердцу этого Ораза. Не смог найти и раскричался. Разве это дело? Ему казалось, что Ораз – парень твердый, умный, скромный, работящий, и вдруг оказалось, что он пьет. В милицию попал, протокол там на него составили, на тое опять неприятность вышла... Почему? Неужели зазнался? Что ж, и такое бывает... Но может, и наоборот: потому он и запил, что не везет ему... «Выдать рекорд это еще не фокус, а попробуй-ка его удержи»,– сказал он как-то Серегину. .
И в самом деле, этот рекорд бригада Ораза не удержала. Но работать-то Ораз любит и умеет, это все знают.
Глава седьмая
«Горе как рана: одна затягивается бесследно, другая хоть и рубцуется, но болит»,– сказал кто-то.
Сегодня Аскар вновь вспоминал эти слова. Да, раны его еще болят. Вот сказал он о сорок втором годе, и опять заныло сердце. В 1942 году попал в плен – какая простая фраза, а подумать, сколько в ней страданий. Сколько мук он пережил за это время. Казалось, они должны были убить его... А он все пережил и вернулся домой. Но покоя все-таки нет.
Он попрощался с Серегиным и быстро пошел к дому.
Когда открыл калитку, сзади подкатил и остановился грузовой автомобиль. Не успел он подумать о том, к кому же это приехали, как из кабины выпрыгнула Дамеш и бросилась к нему. ,
– Дядюшка, дорогой,– крикнула она,– это пианино нам привезли! Помнишь, я тебе говорила, что купила? Два месяца ждала из Ленинграда.
– Ну, поздравляю,– Аскар обнял Дамеш и поцеловал.– Значит, по вечерам будем слушать музыку. Как ты его только сгружать будешь?
– Да очень просто, отвалим борт машины и спустим по доскам.
– Это-то понятно, что по доскам...
Аскар посмотрел на машину и на минуту задумался. Потом быстро скинул пиджак.
– Ну, где твои доски? Давай их сюда,– сказал он.
Из дому деловито вышел Иван Иванович и остановился на пороге. Он поглядел на Аскара, на шофера, на подсобного рабочего, сидевшего на борту, и расхохотался.
– Столько народу, и не можете сгрузить одно пианино. Эх вы, удальцы!– сказал он.– А что, если я один его сниму и перенесу в комнату, что тогда будет?
– Не осилишь, дед,– сказал шофер.
– Ради бога! – испуганно воскликнула Дамеш – У вас ведь больная нога. Упадете – и себя искалечите, и пианино попортите.
– В самом деле, папа, не надо,– робко попросила Лида,– сейчас еще подойдут мужчины.
Старик молодцевато потер руки и спрыгнул со ступенек на землю.
– А ну, отойди, не мешай,– сказал он, отодвинув • шофера.
– Ну и старичок! – сказал шофер восхищенно.– Плечо как железо. А ведь, наверно, на пенсии?
Старик повернулся к нему и расправил грудь.
– А ты пощупай мускулы,– крикнул он задорно и согнул руку.– Дави, дави, не бойся! Вот то-то! Я ведь бывший грузчик... Бывало, навалят тебе на спину ящики и ничего – идешь, тащишь, только покрякиваешь. А положишь на весы – пятнадцать пудов! Давай сюда эту штуку. Подталкивайте, подталкивайте ее поближе! Мне только одно плечо подставить, а там...
Тут Аскар увидел, что шофер и рабочий уперлись и ящик и толкают его обеими руками к борту.
Старик ждал, согнувшись, и подставлял плечо.
– Иван Иванович! – крикнул Аскар, бросаясь к нему.– Ведь останешься на месте, а мне отвечать придется– я же врач. Қак же я могу это допустить? Ты что, хочешь, чтобы меня по судам затаскали?
– Отойди! – крикнул старик и отмахнулся от Аскара огромной желтой ладонью.– Я свою силу хочу проверить! Если одолею этот ящик, то еще двадцать лет проживу. Эй! – обернулся он к шоферу.– Что ты заснул, что ли? Подгоняй, подгоняй его на край! Не бойся, не разобьется. .
Ящик медленно, под согласными усилиями нескольких рук,сползал к борту.
– Ну, поддай еще.
Старик обхватил ящик одной рукой, поставил его между лопатками, пригнулся к земле, сделал шаг, другой – тут колени его дрогнули, и он начал опускаться на землю.
К нему бросились с разных сторон, но он только крикнул:
– Не трогайте.
И, согнувшись почти до самой земли, прошел еще несколько шагов. Теперь около ворот собрались соседи, прохожие, мальчишки. Все они смотрели на старика, затаив дыхание, ждали.
Старик сделал еще несколько шагов, потом задержался на секунду, быстро шагнул в сторону и вдруг начал оседать.
– Папа! – отчаянно крикнула Лида.
Но Аскар, который был все время настороже, успел предупредить катастрофу. Он крикнул шоферу:
– Держи другой край.
Аскар подсунул доску между спиной старика и ящиком, а другой конец ее занес на борт машины. Тут подбежали Лида и Дамеш и тоже поддержали доску. Груз больше не давил старика, но колени его дрогнули, и он тяжело сел на землю.
– Нет, не судьба,– сказал он хрипло.– Значит, я уже свое отработал...
Ящик опустили на землю, а Аскар наклонился к старику и пощупал пульс.
– Не трогай,– поморщился старик.– Что тут уж трогать. Со старостью не поспоришь! Ты ей свое, а она свое твердит... И сколько ты ей не доказывай, а все равно она правее тебя будет. Помогите-ка, я встану.
Аскар протянул ему руку. Старик попытался приподняться, но только качнулся и снова сел на траву.
– Ну вот видишь, никак! – сказал он, скорбно улыбаясь.– А знаешь, я когда-то это пианино не то что поднять, а сам сделать хотел. Был у меня такой дружок Володька Богаев. Вот мы с ним и задумали это дело. Все чертежи достали. Полгода работали, столько досок перепортили – страсть! И ничего не получилось! Вот! – он поднял правую руку.– Видишь, половины большого пальца нет? Это я топором снес, когда работал. Вот так, дорогой, и вышло, что мечтал я быть музыкальным мастером, а сделался рабочим. Хотел делать рояли, а пришлось их на спине таскать. А сейчас и таскать не могу, Значит, конец.
Аскар прошел в свою комнату и лег: сегодняшний нелепый случай с роялем объяснил ему многое. Раньше – что греха таить – он считал старика болтуном, старым бахвалом. Все «я» да «я», а что «я» из себя представляет, никому не известно. Сегодня Аскар понял, что старик по-настоящему страдает. Ему бы по его характеру горы ворочать, рояли на спине таскать, земные недра выворачивать, а вместо этого приходится по целым дням сидеть на скамеечке под пыльной сиренью, вспоминая старину и свою былую славу. И рядом с ним, на той же самой скамеечке, сидит его друг по несчастью Аскар Са– гатов. Так они и коротают свои дни: казах и русский, врач и грузчик, обоим им нелегко, и оба понимают друг друга с полуслова.
Да, люди сейчас научились понимать друг друга...
В соседней комнате Дамеш заиграла на рояле. Аскар прислушался: она играла Грига. Тот самый ноктюрн, который любила и хорошо исполняла Айша. Аскар закрыл лицо и лежал неподвижно.
Потом, после обеда, когда они еще сидели за столом, Аскар спросил Дамеш:
– Дамешжан, а где работает Айша?
Дамеш, вдруг что-то вспомнив, быстро вскочила с места и бросилась к Аскару,
– Дядюшка, милый, прости меня,– заговорила она торопливо,– Айша еще вчера тебе передавала привет, да я забыла, она хочет поговорить с тобой. Да...
Она внезапно остановилась, не договаривая до конца.
– Ну что да – говори.
– Да вот больно муж-то у нее ревнивый.
– Муж? Кто же он?
– Да ты его знаешь,– сказала Дамеш,– главный инженер Муслим Мусин.
В этот момент Аскар держал в руках часы и заводил их. Часы упали на пол.
– Ах, дьявол! – Он тяжело опустился на стул.
Дамеш молча смотрела на него.
– Дядюшка, милый, да что с вами? – спросила она робко.– Я не должна была этого говорить? Да?
У нее на глазах были слезы, и Аскар не выдержал. – Да ведь этот Муслим и посадил меня,– сказал он. – Как?
– Да вот так.
Больше Дамеш ничего не спрашивала, она повернулась и пошла к себе. Потом легла на кровать и долго лежала неподвижно, глядя в потолок и припоминая все: слова Муслима, его поступки, речи на собрании. Да, такой, решила она, может все: предать, продать, ударить чем-нибудь тяжелым из-за угла.
Заснула она только под утро.
И Аскар тоже не спал всю ночь. Он лежал с открытыми глазами. «Вот,– думал он,– больше молчать невозможно, надо рассказать всем... Но какие у него доказательства? Муслим работает на заводе много лет, его хорошо знают, уважают как специалиста, о нем пишут в газетах. А кто знает Аскара? Ну, конечно, знают, что он бывший пленный и что пробыл в лагере пятнадцать лет за измену родине. Не слишком ли это мало для того, чтобы обвинить уважаемого и известного всем человека? А вдруг скажут: вот его отпустили, а он еще клеветой занялся, стал наших лучших людей чернить. А что подумает Айша? Впрочем, может быть, она и сама кое-что знает. Ведь столько лет они муж и жена. Так что же за все эти годы она так и не поняла, кто ее муж? Сомнительно, очень сомнительно... Ладно, так или иначе, а письмо Айше он напишет, пусть разберется во всем сама».
Аскар зажег свет, сел к письменному столу.
«Дорогая Айша, ты, конечно, хочешь узнать, что со мной произошло за время нашей разлуки. Коротко пишу тебе обо всем. Суди как знаешь.
Попал я в плен в 1942 году под Харьковом, вместе с госпиталем. Я там был главным хирургом. До этого фашисты бомбили госпиталь с воздуха, и одна бомба разорвалась в соседнем помещении. Меня придавило стеной, и когда я пришел в себя, то сутки ничего не видел и не слышал. Но больным приходилось еще хуже. Я-то хоть еще двигаться мог. Погрузили мы кое-как раненых на машины и стали пробираться к своим через лес. Тут нас и захватили. Ну, скажи, что я должен был делать? Застрелиться? Но это ведь легче легкого. А с больными что тогда было бы? Ведь у них у кого рук, у кого ног нет, и только на меня надежда, а я, выходит, дезертирую? Нет! И мой отец Жунус, которого в 1916 году прозвали богатырем, тоже погиб не от собственной пули. И потом вспомнил я еще слова Горького о том, что смерть от тебя никуда не уйдет, а ты попробуй за жизнь поборись – вот это настоящий героизм. Нет,– решил я,– покажу фашистам, что такое советский человек! Коммунист, попавший в руки врагов, и со связанными руками бьется до последнего дыхания и в конце концов побеждает...
В ту последнюю ночь перед пленом я сделал еще вот что: вырезал из партбилета ленточку с номером, засунул ее в капсюлю из-под барбомила и спрятал капсюлю в нагрудный карман. А билет закопал под дубом и сделал на дубе зарубку. Так что и в плену я чувствовал себя коммунистом с партбилетом в кармане.
Немцы пригнали нас сначала в Киев, а оттуда эшелоном отправили в Бобруйск. В Бобруйске наш эшелон разделили на две части. Тех, кто совсем не мог двигаться, оставили на месте, а остальных загнали в вагон и погнали во Львов, в лагерь... Железные ворота, проволока в несколько рядов, а через нее пропущен ток высокого напряжения. И вышки, вышки, вышки... А на вышках солдаты с пулеметами и прожекторами. Пригнали нас в караулку, раздели догола, обыскали, потом отвели в брезентовую палатку. Двухэтажные нары, набитые доверху людьми.
Посмотрел я на этих людей – оборванные, грязные, лежат боком, так, что между ними и руку не просунешь. Однако для меня место все-таки нашлось.
С того дня и пошло меня швырять по пересылкам, пока я, наконец, не угодил в венское гестапо. Этих дней мне никогда не забыть. Меня секли плетью, скрученной из электрических проводов, так секли, что потом рубашку приходилось отдирать с кожей, а когда я терял сознание, обливали ледяной водой из шланга и снова били. А раз посадили в камеру с раскаленным полом. «Ты жаловался, что тебе холодно, так вот отогрейся». Пробыл я в камере часа три и целый месяц после этого не мог стоять – все подошвы были в пузырях! Хорошо, что все это вспоминаешь, как в тумане.
Требовали от меня лишь одного: «Сознайся, что ты командир». И было в эти дни у меня только одно желание: умереть спокойно. Ходить уже не мог, к следователю меня таскали на носилках. И вот однажды все кончилось, и от меня отступили. А причиной тому послужил сущий пустяк.
Принесли меня, как обычно, под вечер из камеры и опустили на пол. И гут я сразу же как будто ослеп – и это потому, что вся комната была залита солнцем. Это было так необычайно,– солнце в гестапо! – что я забыл про все на свете и видел только это солнце, чувствовал только солнечное ласковое тепло. Как будто все тяготы свалились с меня и не было уже ни плена, ни исполосованного тела, ни обгорелых ступней, ничего, кроме этого яркого солнца. Я купался в нем, я подставлял ему лицо, руки, голову, щурился, смеялся, хотел зачерпнуть его в пригоршню, как воду. Следователь даже вскочил из-за стола, потом покачал головой, выругался сквозь зубы, вызвал по телефону конвой и приказал меня унести, подумал, наверное, что я рехнулся. После этого меня больше уж не трогали. Продержали в гестапо недели две, подлечили и отправили в Маутхаузен. Сейчас весь мир знает, что это такое, а тогда это было величайшей тайной. Это я тебе скажу: был настоящий ад Данте. А надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий!» надо было вырезать именно на воротах Маутхаузена.
Капсюлю с номером партбилета я сунул в ухо, а сверху заложил тряпочкой – мол, простудился во время этапа.
Да, милая Айша, может быть, и ты не поверишь, если я скажу, что мне трижды удавалось бежать. Первый раз из Львовского лагеря. Поймали. Полуживого бросили снова в лагерь и через месяц отправили в глубь Германии.
Нас везли в товарном вагоне. Мы разобрали пол и один за другим стали прыгать под колеса. Когда я очнулся после падения, то увидел поблизости густой лес. Но мне не повезло: наткнулся на предателя, бендеровца, работавшего у помещицы; он и сдал меня полиции.
Когда позже меня посадили у нас, мой следователь не поверил, что я бежал из Маутхаузена. «Тебя,– говорил он,– завербовали и забросили к нам». После такого обвинения я решил покончить с собою. Лучше было бы сдохнуть в лагере смерти.
Но потом я подумал о тебе, о Дамеш, и решил бороться, и рассказать тебе всю правду. Я хотел рассказать при встрече, но не смог. Я хочу, чтобы ты поверила, что я действительно бежал из ада.
Как-то ночью была бомбежка, да такая, что земля гудела. А утром начальство отобрало триста человек покрепче и погнало в город разбирать завалы на улицах, Я и казах Жаксенов тоже попали в эту партию. Нас привели в какое-то большое депо и приказали раскапывать машины, заваленные рухнувшим потолком. Вот мы и стали копать. Собственно говоря, тут и копать-то было нечего: где стояло здание, там теперь высилась груда кирпича, да торчали из него, словно руки и ноги покойников, вылезающих из могилы, трубы да радиаторы. И вот через час оба мы стоим в глубокой канаве около железной трубы, обнаженной взрывом. Заглядываю в нее – это же целый туннель, ворота в подземное царство. По такой трубе можно не ползти, а бежать, только чуть-чуть пригнув голову...
Мы все копаем да копаем. Выкидываем из траншеи глыбы, какие-то рельсы, железные крепления, словом, освобождаем себе выход в трубу. Конвой на нас и не смотрит, мы же в оцеплении! Вот толстый понурый немец – руководитель работ – повернулся спиной к нам. Тогда я сделал знак напарнику, и мы оба мгновенно нырнули в трубу. Вошли в тоннель и побежали во всю мочь.
...Дорога ровная, гладкая и сухая – металл!
– А вдруг газ? – спросил Жаксенов. Я махнул рукой,– в таких широченных трубах газ не скапливается.
– А если собак за нами спустят? – опять спросил Жаксенов.
– Да ты беги! – ответил я сердито.– Ты беги и не спрашивай! Через час работа кончится и нас хватятся. Надо успеть выбраться. ,
Тут труба сделала неожиданный поворот, я упал и больно расшиб лицо, но раздумывать некогда, поднимаюсь, обтираю кровь и снова бегу. Болела согнутая спина, кололо где-то в боку, но ноги несли меня сами. Жаксенов не отставал от меня; все время я чувствовал на своей шее его горячее дыхание. А проклятая труба все не кончалась. Куда же она нас приведет? К сатане на рога?
– Смотри,– сказал я не оборачиваясь,– труба-то пошла вниз! А старики говорят: ад в земле под седьмым слоем. Сколько же мы уже слоев пробежали, как ты думаешь?
– Много, ох, много! – ответил Жаксенов.
Опять побежали.
«Черт возьми, а вдруг они пустят за нами собак? – подумал я и ответил сам себе: – Да нет, не пустят: собаки не полезут в темноту, да и след, наверно, на железе не возьмут. А без собак ни один эсэсовец не сунется в такую ловушку».
– А вдруг собаки? – услышал я вдруг голос Жаксе– нова.
«Вот она, передача мысли на расстоянии».
– Души ее, подлую,– сказал я.
– А эсэсовца куда?
– Пошли, не болтай глупости,– сердито ответил я.
А труба все тянется и тянется, нет ей конца,*и шайтан ее знает, куда она нас приведет. Хорошо, если не выползет где-нибудь около самого лагеря или не уйдет в воду. А то еще лучше может быть: мы вылезем и попадем прямо в объятия эсэсовцев с собаками. Эх, не догадался я взять с собой обломок железной трубы. Так бы угостил ею Овчарку, что она бы и не гавкнула.
А туннель наш все не кончался, он загибался вправо, влево, опускался, поднимался снова, и, казалось, нет ему ни конца ни края. Приходили всякие мысли: а вдруг к этой трубе примыкает еще другая. А вдруг трубы соединятся? Вот и будешь плутать, пока не выбьешься из сил, а там тебя затравят собаками.
И вдруг увидел впереди слабые проблески света.
– Ура! – крикнул я.– Смотри, свет. Свет! Кончилась труба! – но тут же меня охватил страх: на нас лил-
ся какой-то очень странный свет, не тот ясный, трезвый свет дня, который бодрит и вселяет веру, а какие-то сумерки – полутьма, полусвет.
– А вдруг колодец сверху загорожен решеткой?—! спросил я.
– Стой, я полезу посмотрю,– ответил Жаксенов.
Вернулся он через минуту и бросился мне на шею.
– Спасены! – крикнул он.– Труба выходит под виадук. Рядом лес и никого нет!
– А темно почему?
– Да вечер же, и дождь начал накрапывать! Лезь скорей!
Вылезли мы из трубы, выкарабкались к краю дороги, оглянулись: железнодорожное полотно.
Хлестал сильный дождь, текли ручьи, виднелся лес.
Счастье, Асаке,– сказал один мой друг,– это не слепая баба-фортуна, а волшебный скакун, и нрав поэтому у счастья далеко не женский. Иногда все хорошо и ты, предположим, едешь на свою свадьбу. Вдруг испугается твой конь, понесет тебя, да и сбросит в реку, и будешь ты тонуть и пускать пузыри. Тогда схватит тебя конь зубами за рубаху, вырвет из бешеного потока и вынесет на сушу!
Этими словами я хочу закончить свое затянувшееся письмо. Вышло длинно, но что поделаешь... Писал всю ночь. Колебался, хотел разорвать, наконец решил: нет, все-таки пошлю. Вот теперь ты знаешь обо мне все. Так суди же меня по совести. Твой Аскар».
Аскар долго стоял у окна. На улице было тихо. Изредка возникал шум автомашины и вскоре угасал. Еле пробивалась утренняя заря, и отчетливо выступали карнизы, рамы противоположных домов.
А Аскар все стоял и вспоминал свое далекое прошлое.