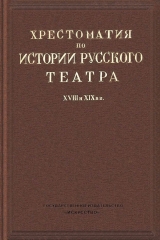
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Итак, какой же вообще характер игры его? Преодолевать трудности, делать все из ничего. А для этого, разумеется, нужны одни эффекты, одно искусство, обдуманность, предварительное изучение роли, созданной не автором, но актером. Смотря на его игру, вы беспрестанно удивлены, но никогда не тронуты, не взволнованы. Искусство без чувства – это классицизм, холодный, как зима, выглаженный, как мрамор, но пленяющий искусно отделанными формами. Впрочем, может быть, я и неправ, ибо насчет этого у меня свой образ мыслей, в котором меня целый свет не переуверит: я не понимаю, как мог восхищать своей игрой Тальма, ибо не понимаю, как можно восхищаться трагедиями Корнеля, Расина, Вольтера, в которых отличается этот любимец Наполеона. Где нет истины, природы, естественности, там нет для меня очарования. Я видел Каратыгина несколько раз и не вынес из театра ни одного сильного движения; в его игре все так удивительно, но вместе с тем так поддельно, придуманно, изысканно. Каратыгин – Марлинский сценического искусства, у него есть талант, но талант, образованный силой воли, прилежным изучением, но не самобытный, не природный, как у Мочалова, талант ходить, говорить, рассчитывать эффекты, понимать, где и что надо делать, но не увлекать души зрителей собственным увлечением, не поражать их чувства собственным чувством… Пластика, грациозность движений и живописность поз составляют сущность балетов, а в драме суть средства вспомогательные, второстепенные. Чувством можно заменить недостаток их, но никогда ими невозможно заменить недостаток чувства. А чем восхищались еще три года назад тому жаркие поклонники таланта Каратыгина? О, нет! давайте мне актера-плебея, но плебея Мария, не выглаженного лоском паркетности, а энергического и глубокого в своем чувстве. Пусть подергивает он плечами и хлопает себя по бедрам, это дергание и хлопанье пошло и отвратительно, когда делается от незнания, что надо делать, но когда оно бывает предвестником бури, готовой разразиться, то что мне ваш актер-аристократ!..
Я сказал все, что хотел сказать. Почитаю нужным заметить, что никогда не бывал за кулисами, никогда не находился ни в каких отношениях с артистами, о которых сужу, и не знаком ни с одним из прочих, и поэтому судил без всяких личных предубеждений, без всякого личного пристрастия, по моей совести и разумению. Легко может статься, что мое мнение будет очень не важно как в глазах артиста, так и в глазах публики, но оно должно быть важно для меня, ибо тот недобросовестен, кто не дорожит своими мнениями, как человек, если не как литератор… Стыжусь и краснею, делая эту пошлую оговорку, но что же делать, когда не только толпа, но и некоторые из людей, руководствующих мнениями этой толпы, во всяком суждении, откровенно и резко высказанном не в пользу судимого лица, видят наветы, недобросовестность и недоброжелательство!
(В. Г. Белинский.Об игре Каратыгина. Собр. соч. в 4 томах. Том I, 1902, стр. 619–627.)
3
Каратыгин принадлежит к числу тех художников, которые в высшей степени постигли внешнюю сторону своего искусства. Я никому не навязываю моих убеждений, но не отказываю себе в праве иметь свои убеждения и открыто выговаривать их: я не пойду смотреть Каратыгина в роли Гамлета, которую он играет искусно, но в которой я требую от актера, кроме искусства, еще кой-чего такого, чего мне не может дать Каратыгин; я не пойду смотреть в роли Лира ни Мочалова, ни Каратыгина, потому что в первом, может быть, увижу Лира, но только Лира, а не короля Лира, а во втором – только короля, но не Лира-короля; я не пойду смотреть на Каратыгина в роли Отелло, потому что ровно ничего не увижу, но всегда пойду смотреть Мочалова в этой роли, потому что если иногда тоже ничего не увижу, зато иногда много увижу, точно так же, как всегда пойду смотреть Мочалова в роли Гамлета, потому что всегда увижу что-нибудь великое, а часто и много великого, но я никогда не пойду смотреть Мочалова в роли Лейчестера, Людовика XI, Велизария, и всегда пойду смотреть в этих ролях Каратыгина. Игра Мочалова, по моему убеждению, иногда есть откровение таинства, сущности сценического искусства, но часто бывает и его оскорблением. Игра Каратыгина, по моему убеждению, есть норма внешней стороны искусства, и она всегда верна себе, никогда не обманывает зрителя, вполне давая ему то, что он ожидал, и еще больше. Мочалов всегда падает, когда его оставляет его вулканическое вдохновение, потому что ему, кроме своего вдохновения, не на что опереться, так как он пренебрег технической стороной искусства; поэтому он всегда падает и там, когда берется за роли, требующие отчетливого выполнения, искусства – в техническом смысле этого слова. Каратыгин за всякую роль берется смело и уверенно, потому что его успех зависит не от удачи вдохновения, а от строгого изучения роли, поэтому он падает только в ролях и сценах, требующих по своей сущности огненной страсти, трепетного одушевления, как в Отелло; но его падение видно не толпе, а немногим знатокам искусства. Оба эти артиста представляют собой две противоположные стороны, две крайности искусства, и оба они – представители наших столиц, со стороны вкуса и направления публики. Оба они достойны того уважения и той любви, которыми пользуется каждый на своей родной сцене. Без вдохновения нет искусства, но одно вдохновение, одно непосредственное чувство есть счастливый дар природы, богатое наследство без труда и заслуги; только изучение, наука, труд делают человека достойным и законным владельцем этого чисто случайного наследства; – и они же утверждают его действительность, а без них оно и теряется, и проматывается. Из этого ясно, что только из соединения этих противоположностей образуется истинный художник, которого, например, русский театр имеет в лице Щепкина. Односторонности сами по себе не удовлетворительны. Что мне за радость видеть умное, отчетливое, но холодное выполнение роли Отелло, в котором можно простить неровности, промахи, неудачи, но в котором нельзя простить недостатка бушующей, опустошительной страсти африканского тигра и великого человека вместе?.. С другой стороны, что мне за радость, увидевши в патетической сцене Лира с дочерью истинно оскорбленного отца-короля, видеть потом какого-то мещанина, который силится уверить, что будто он король!.. Впрочем, в историческом развитии искусства односторонности имеют свое значение, и потому будем желать, чтобы московский Мочалов не переставал, как Весталка, хранить священный огонь сущности своего искусства, без которого нет искусства, а есть только умение; и пусть петербургский Каратыгин не перестает показывать, что такое художественность формы, без которой и истинное искусство недостаточно и неполно…
Каратыгин создал роль Велизария. Он является на сцену Велизарием и сходит с нее Велизарием, а Велизарий, которого он играл, есть великий человек, герой, который до своего ослепления является грозой готов и вандалов, хранителем христианского мира противу врагов, а после ослепления
… Видит в памяти своей
Народы, веки и державы…
Я – враг эффектов, мне трудно подпасть под обаяние эффекта; как бы ни был он изящен, благороден и умен, он всегда встретит в душе моей сильный отпор, но когда я увидел Каратыгина – Велизария, в триумфе везомого народом по сцене в торжественной колеснице, когда я увидел этого лавровенчанного старца-героя, с его седой бородой, в царственно скромном величии, – священный восторг мощно охватил все существо мое и трепетно потряс его… Театр задрожал от взрыва рукоплесканий… А между тем артист не сказал ни одного слова, не сделал ни одного движения – он только сидел и молчал… Снимает ли Каратыгин венок с головы своей и полагает его к ногам императора или подставляет свою голову, чтобы тот снова наложил на нее венок, – в каждом движении, в каждом жесте виден герой Велизарий. Словом, в продолжение целой роли благородная простота, геройское величие видны были в каждом шаге, слышны были в каждом слове, в каждом звуке Каратыгина; перед вами беспрестанно являлось несчастие в величии, ослепленный герой, который
… Видит в памяти своей
Народы, веки и державы…
Мы не будем в подробности разбирать игры и замечать лучшие места. Скажем только, что сцена, где поется романс Мерзлякова, была исполнена такого неотразимого поэтического обаяния, о котором нельзя дать словами никакого понятия, – и это опять было делом Каратыгина: седой герой, лишенный зрения, сидел на пне дерева и лицом, движениями головы и рук выражал те грустно-возвышенные ощущения, которые производил в нем каждый стих романса, петого о нем крестьянином, не подозревавшим, что его слушает сам тот, о ком он пел… Превосходная сцена!.. Сам романс хотя по недостатку художественности и сделался несколько тем, что светские люди называют mauvais genre, но в нем так много чувства, души, некоторые стихи так удачны, а музыка так прекрасна, что его нельзя слушать без восторга и умиления.
(В. Г. Белинский.Александринский театр. «Велизарий». Соч. в 4 томах. 1902, том I, стр. 739–741.)
4
«Уголино» Полевого. В этой пьесе Каратыгин играл Нино. Читателям более или менее должно быть известно содержание пьесы. Я напомню только самую сильную сцену трагедии.
Два молодых существа, Нино и Вероника, любят друг друга, но они принадлежат к семействам, враждующим между собою и питающим мысль о мщении. Нино убегает с Вероникой, и они скрываются в горах, в хижине. Ежедневно Нино ходит в деревню за добыванием провизии. Сцена представляет площадку в горах; в ущелье видна хижина, и Нино с Вероникой сидят на скамье под деревом, перед его уходом на часок в деревню. Молодая пара наслаждается любовью, и Каратыгин особенно рельефно напирал на эту сцену, чтобы рельефнее вышла следующая за тем ужасающая, трагическая сцена. В роли Вероники я видел сначала г-жу Дюр, но она была полна для этой роли; а потом я видел в этой роли восхитительную Веру Самойлову, незадолго до того поступившую на сцену. Иллюзия нежных взаимных ласк была полная. Для Каратыгина Вера Самойлова была дитятей, его ученицей. Веронику беспокоит какое-то тяжелое предчувствие, а потому она старается как можно долее задерживать Нино; любящая друг друга парочка не подозревает, однако, что за нею уже следят.
Спустя немного по уходе Нино является дядя Нино, Уголино, который требует, чтобы Вероника следовала за ним. Вероника убегает, но Уголино догоняет ее, в ярости закалывает и оставляет кинжал, принадлежащий его врагу Руджиро, дабы отстранить от себя подозрение. Вскоре возвращается Нино, удивляется, что Вероника не бежит к нему, по обыкновению, на встречу, и полагает, что она спряталась где-нибудь за деревьями; но никого не видно и не слышно. Тогда Нино идет в хижину. Публика ждет неистового крика и вопля отчаяния; ничуть не бывало; в хижине царит гробовая тишина, и такая пауза длится несколько минут. Наконец, появляется на пороге Нино, молча, бледный, как смерть; его ноги дрожат, он прислоняется спиной к стене хижины, у самых дверей, и молчание продолжается. Потом Каратыгин несколько нагибается и манит к себе рукой старика-пастуха, тут находящегося. Старик подходит, Каратыгин схватывает его за ворот у затылка, сильно нагибает его голову и тычет ее в низенькую дверь хижины. Тогда только Каратыгин раскрывает рот и спрашивает шопотом, но таким шопотом, от которого волос становится дыбом и который был слышен во всех концах залы: «Видал ли ты мертвых?» и повторяет этот вопрос раза три, причем с каждым разом усиливаются в голосе звуки подготовляемого рыдания, и затем Каратыгин грохается во весь рост на землю без чувств. После того прибегают люди, вместе с убийцей, и приводят Нино в чувство. Но когда он приходит в себя, когда ему показывают кинжал, тогда только вступает в свои права могучий голосовой орган Каратыгина; зритель слышит как бы рыкания льва в пустыне; нет меры проклятиям, нет тех тираний, которых не придумал бы Нино подвергнуть убийцу Вероники. Всю эту сцену Каратыгин ведет, не подымаясь еще на ноги. Так изображал Каратыгин ужасающую трагическую сцену, которая у всех виденных мною после Каратыгина актеров в этой роли выходила до невозможности слабой. В самом деле, момент для Нино ужасен, и нужен могучий талант, нужен для артиста большой ум, чтобы действительно потрясти зрителя и чтобы вся описанная сцена не представилась ему зрелищем балаганным. Белинский не видал Каратыгина в этой роли, но заметил в одной своей статье, что в этой роли Каратыгин должен быть превосходен и может пожинать лавры вместе с Полевым. [39]39
В рецензии на пьесу Белинский писал (1838 г.): «Ни одно сочинение не производило на нас такого грустного впечатления. „Уголино“ есть лучшее доказательство той непреложной истины, что нельзя писать драм, не будучи поэтом. Мы уверены, что в „Уголино“ Каратыгин был превосходен, выше всякого сравнения с Мочаловым. У всякого поэта должен быть свой актер. Каратыгин может делить с Полевым славу создания „Уголино“».
[Закрыть]Эта ирония относилась к Полевому, а не к Каратыгину. Каратыгин должен был играть эту роль и играл ее более, нежели превосходно. Но и ирония относительно Полевого совершенно не заслужена, так как трагедия Полевого комбинирована искусно и удачно.
(В. А. Панаев.Воспоминания. Цит. по книге: П. А. Каратыгин.Записки. «Academia». Л. 1930, т. II, стр. 396–398.)
5
[На обеде по случаю открытия журнала «Пантеон», где присутствовало много литераторов и артистов], завязался диспут между Василием Андреевичем Каратыгиным и Виссарионом Григорьевичем Белинским по поводу статьи последнего в «Отечественных Записках» о недавних гастролях московского трагика Мочалова на петербургской сцене. В этой статье Белинский восхищался в особенности исполнением роли Гамлета в шекспировской трагедии. Он назвал это исполнение «гениальным, вдохновенным, естественным» вследствие «истинно поэтического, глубокого понимания Мочаловым интенций великого автора»; он противопоставил его «свободную от всяких кулисных ходуль» игру той «рутинной по стопам Тальма развившейся школы», где всякий нюанс интонации, всякое ударение на какое-нибудь слово щепетильно рассчитаны по педантическим правилам доктринарной теории о «красивой декламации», где каждое движение тела, каждый шаг ноги, каждый жест руки, каждый поворот головы «разучены пред зеркалом». Каратыгин принял эту статью за враждебную, личную выходку против себя и, чувствуя себя крайне обиженным, стал язвительно оспаривать взгляды Белинского на драматическое искусство; начал говорить о долголетнем, всеми признанном и художественном своем служении искусству; высказал, да слишком горячо и резко, что не ему, Каратыгину, учиться еще у едва школьную скамью оставивших и далеко незрелых еще критиков и т. д. А тут вмешался еще Булгарин, начав говорить о «глупых» журналах, о с ума свихнувшихся новых «профетах искусства и науки» и далее в том же роде. Белинский, наконец, также разгорячился, да порядочно надавал сдачи. И пошли они втроем кричать: двое на одного, а один и того сильнее на двух. Напрасно Кони уговаривал спорящих успокоиться, напрасно Кукольник и Розен выказывали всю свою готовность поддерживать старания хозяина: все оказалось без результата.
(Ю. Арнольд.Воспоминания. Цит. по книге. П. А. Каратыгин.Записки. «Academia». Л. 1930, том II, стр. 362–363.)
(1816–1860)
1
От Александринского театра к Чернышеву мосту строился ряд домов, в которых должна была поместиться вся административная часть театра, театральная школа и квартиры артистам. Первоначальный фасад домов предполагался по плану Пале-Рояля в Париже. С двух сторон шли арки, а в глубине их должны были находиться помещения для кофейных и для магазинов. Государь изменил план, находя близкое соседство магазинов и кофейных со школой невозможным. Арки заделали и превратили их в жилые комнаты, в которых устроили гардеробную и разные другие помещения; над арками поместили воспитанников, а в верхнем этаже – воспитанниц. Во дворе выстроены были большие флигеля для квартир артистов. Но в это время театральные чиновники так размножились, что заняли лучшие квартиры, а для артистов остались маленькие квартиры, да и то, чтобы получить артисту или артистке квартиру, надо было иметь покровительство какого-либо чиновника. Отец переехал на частную квартиру.
Власть свою чиновники распространили на все; в театральной школе не оказывалось вакансий для детей бедных артистов, потому что чиновники их замещали детьми своих знакомых и тех артистов, которые делали им подарки. Чтобы дать место в школе своим протеже, чиновники придумали перед приемом детей выключать за бездарность уже взрослых воспитанников и воспитанниц, пробывших в школе несколько лет. Эти исключения были нововведением. По прежним театральным правилам, воспитанники при выпуске, если оказывались бездарными, назначались в статисты или поступали в хоры. Но и в хорах было набрано с воли множество народу. Были такие хористки, которые ни слова не знали по-русски, не понимали нот и не имели никакого голоса, а на сцене только разевали рот.
Так как к нам часто ходили играть в карты чиновники, имевшие власть, то я слышала от них, какие жертвы ими намечены для исключения. В числе этих жертв попался и воспитанник А. Е. Мартынов, которому оставалось еще год до выпуска. Мне его было очень жаль; я знала, что за него некому было заступиться.
Программа наук в школе была хорошая, но учение было плохое, так что исключенный воспитанник не мог себе найти заработка. Других театров, кроме императорских, тогда не допускалось.
Мне потому было жаль Мартынова, что он очень меня смешил, когда я стояла за кулисами во время спектакля, а он, находясь в той же кулисе с своими товарищами, передразнивал всех артистов, которые в это время говорили на сцене: Толченова, Каратыгина, моего отца [40]40
Я. Г. Брянского.
[Закрыть]и др. Иногда Мартынов вдруг придавал своему лицу такое комическое выражение, что его товарищи бежали из-за кулисы, будучи не в силах удерживаться от смеха. Мартынов был худенький, небольшого роста, с светло-белокурыми волосами и слегка вздернутым носиком.
Наступила масленица – страда артистов. Спектакли шли утром и вечером. Водевиль в двух актах «Филатка и Мирошка» делал большие сборы; по масленичному недельному репертуару его назначили давать под конец спектакля утром и вечером. Сюжет его был из народного быта: дурачок Филатка идет в солдаты за своего брата; сначала он очень трусит, но потом храбрится. Роль Филатки всегда играл А. В. Воротников, публика его очень любила и была снисходительна к нему, когда он зачастую в последнее время выходил на сцену, едва держась на ногах.
На первых днях масленицы государь Николай Павлович привез на утренний спектакль своих детей. Государь сидел в боковой царской ложе, и я стояла за кулисами против царской ложи. Только что начали последний акт пьесы, после которой должен был пойти «Филатка и Мирошка», вдруг сделалась суета за кулисами, все передавали что-то друг другу, чиновники бегали с потерянным видом. Оказалось, что Воротников не явился еще в театр. После розысков по трактирам, его привезли в театр, но в бесчувственном состоянии. Окачивали его холодной водой, но он не отрезвлялся. Надо было доложить директору. Я как раз стояла у кулисы, где из ложи директора устроен выход на сцену. Гедеонов прибежал впопыхах и жалобно произносил:
– Зарезали, злодеи! Не могли позаботиться заранее, все ли в сборе к последней пьесе. Я вас всех! Господи, что мне делать?
Все это Гедеонов говорил вполголоса, потому что на сцене шла пьеса.
– Я знаю роль Филатки… позвольте, я сыграю! – неожиданно для всех сказал Мартынов, подойдя к директору, который сначала шопотом выругал его «дурак», но потом, как бы вспомнив с ужасом, что «Филатка и Мирошка» не может итти, приказал Мартынову отправиться за собой в фойе, чтобы посмотреть – может ли он хотя кое-как сыграть Филатку. Из фойе директор вышел веселый и сказал подчиненным, которые за ним следовали:
– Может сыграть! Вот счастье! Что бы было без него! Одевайте его скорей.
Когда занавес опустилась, Мартынов уже был на сцене, в пестрединной рубахе, в лаптях и в белобрысом трепанном парике. Все с изумлением глядели на смельчака. Анонс сделали при поднятии занавеса. Мне было страшно за Мартынова, но я успокоилась, когда он начал играть. Он был так естественно комичен, изображая дураковатого парня, что царские дети заливались смехом. Государь тоже улыбался. За кулисами была тишина, все напряженно следили за импровизованным дебютантом. Когда окончилась пьеса, то из царской ложи раздались детские голоса: «Мартынова, Мартынова!» Публика также кричала: «Мартынова!»
Успех дебютанта был полнейший, и Мартынов всю масленицу играл Филатку, потому что Воротников слег в постель, вероятно, простудившись от усердного окачивания холодной водой, когда его старались отрезвить. Болезнь Воротникова спасла Мартынова от исключения из театральной школы. Но чиновники все-таки считали себя компетентными судьями и назначили Мартынову при выпуске самое грошевое жалованье, как бездарному артисту, и не давали ему хороших ролей, выпуская его на сцену только на выходных ролях. Но после смерти Воротникова [в 1840 г.] не было комика, и поневоле пришлось заменить его Мартыновым. С ним поступали безбожно, заставляя его играть без отдыха зараз в трех водевилях, а иногда он скакал из Александринского театра в Большой, чтобы сыграть в четвертом. Жалованья ему не прибавляли: он получал вчетверо менее, чем какая-нибудь бездарная актриса.
Мартынов очень скоро сделался любимцем публики, она всегда встречала его аплодисментами, что вызывало зависть к нему за кулисами. Я видела раз, как государь громко смеялся, смотря какой-то водевиль, где играл Мартынов; это очень редко случалось с государем.
Мартынов долго бедствовал, особенно когда сделался семейным человеком. [41]41
Своим актерским жалованием Мартынов содержал большую семью (отца, мать, брата и двух сестер) и отдавал ей весь заработок. Жили они очень бедно. (А. И. Шуберт.Моя жизнь. П. 1911, стр. XLI.) – Прим. ред.
[Закрыть]Он не способен был, как другие актеры, заискивать расположение богатых театралов-купцов, которые давали денежные вспомоществования актерам. Некоторые артисты даже умели выпрашивать у них себе деньги на покупку дома. Имеющие власть чиновники покровительствовали тем артистам, которые в их именины и в новый год подносили им ценные подарки. В эти дни на квартиру такого чиновника, с черной и парадной лестницей, являлось множество поздравителей с приношениями. Мартынову из своего маленького жалованья трудно было делать подарки тем, от кого зависела прибавка жалованья. Только под конец его 25-летней службы уравняли его жалованье с товарищами, да и то дали ему менее разовых, хотя он, играя в один вечер в трех пьесах, получал менее, чем другой артист получал разовые за одну им сыгранную роль в водевиле. Эти разовые придуманы были директором для того, чтобы не увеличивать жалованья, которое назначалось артисту не свыше четырех тысяч ассигнациями в год: это жалованье шло потом в пенсию за 25 лет службы на театре. Гедеонов накинул еще два года до получения пенсии; эти два года назывались «благодарностью». Бенефиса Мартынову тоже долго не давали, тогда как многие товарищи уже получили его.
Здоровье Мартынова очень расстроилось в последние годы, да и как было не расстроиться ему, когда он проводил целые дни в театре: утром на репетиции, а вечером на спектакле. Летом играл в Петергофском или Каменноостровском театрах.
Комедии А. Н. Островского дали возможность Мартынову показать, насколько он был талантливый артист, потому что, играя в пустых водевилях, он не мог вполне выказать свой талант.
Я была на первом представлении «Грозы» Островского. Мартынов так сыграл свою роль, что дух замирал от каждого его слова в последней сцене, когда он бросился к трупу своей жены, вытащенной из воды. Все зрители были потрясены его игрой. В «Грозе» Мартынов показал, что обладает также замечательным трагическим талантом. В конце мая 1860 года Мартынов взял отпуск на лето, чтобы ехать лечиться на юг, потому что у него стала быстро развиваться чахотка. Островский отправился вместе с ним. Мартынов приехал проститься к Панаеву и долго просидел у нас. Он возлагал большие надежды на поправление своего здоровья от отдыха и южного климата, но его худоба, кашель и зловещий румянец на щеках пугали меня.
– Мне необходим отдых! – говорил он. – Вы не можете себе представить, до чего я устал; мне теперь очень трудно выучить роль, тогда как прежде, бывало, прочитаешь раз-два свою роль – и готово! Притупил совершенно свою память в продолжение двух десятков лет заучиваньем массы глупейших ролей. Я дошел в последнее время до того, что начну играть на сцене, и вдруг чувствую, что у меня в голове перепутались роли, я начинаю импровизировать, и только благодаря хорошему суфлеру, который подавал реплики, я не сбивал других и дело сходило с рук.
28-го августа того же года [1860] получено было моим мужем из Москвы от Островского следующее письмо:
«Горе, любезнейший Иван Иванович, большое горе! – нашего Мартынова не стало. Он умер в Харькове [42]42
Мартынов возвращался из Крыма в С.-Петербург. (Примеч. автора.)
[Закрыть]на моих руках. Без страдания, угасая день за днем, он скончался, как ребенок, не сознавая даже своего положения. Я только вчера приехал в Москву разбитый, усталый. Я вам напишу подробно в виде письма о его болезни [43]43
Чтоб напечатать в «Современнике». (Примеч. автора.)
[Закрыть]в продолжение четырех месяцев его жизни, дайте мне только немного опомниться. С Мартыновым я потерял все на петербургской сцене. Теперь не знаю, когда буду в Петербурге, мне как-то не хочется туда ехать. Пьеску я выправил и посылаю вам, сделайте милость, прикажите получше просмотреть корректуру. В Крыму я кой-что приготовил, а теперь засяду за работу. „Сон на Волге“ постараюсь окончить поскорее. До свидания.
Преданный Вам А. Островский».
Еще до получения письма от Островского печальная весть о смерти Мартынова уже разнеслась по Петербургу.
В день прибытия тела Мартынова по Московской железной дороге [11 сентября 1860] собралась на площади у дебаркадера такая толпа народа, что, как говорится, негде было упасть яблоку. На протяжении всего Невского проспекта такая же сплошная масса ждала похоронной процессии. Движение экипажей было приостановлено, сама публика позаботилась не пропускать экипажей с боковых улиц, чтобы не давили народ. Полиция застигнута была врасплох, да она и не была нужна, потому что порядок везде был удивительный, с таким тактом и приличием держала себя публика.
Замечательно, что никаких приготовлений для встречи тела Мартынова не было, только появилось в двух или трех газетах извещение, что тогда-то гроб с телом Мартынова прибудет на Московский вокзал и последует на кладбище. Не было выбрано распорядителей. Не было подписок на венки, не устраивалось никаких депутаций, не раздавалось билетов для входа в кладбищенскую церковь. А торжественнее этих похорон трудно что-нибудь себе вообразить. В церкви было очень мало русских артистов, но зато очень много из французской и немецкой трупп, а театральные чиновники и начальство совсем не удостоили явиться на похороны Мартынова.
Много было толков о небывалых похоронах Мартынова. Некоторые даже как бы обиделись, что публика оказала ему такой почет. Я слышала, как одно значительное лицо негодовало: «Скажите, пожалуйста, – говорило оно, – везут гроб актера, и нет проезда по Невскому!.. Такого беспорядка не должна была допустить полиция! если видит, что не может сладить с толпой, требуй казаков, чтобы нагайками разогнали дураков!»
(Авдотья Панаева.Воспоминания. «Academia», Л. 1929, стр. 56–65.)
2
Нерасположение к Гоголю всего страннее было встретить в Мартынове, артисте, действительно, одаренном выдающимся сценическим дарованием; уже самая тонкость чутья – принадлежность крупного таланта – должна была, казалось бы, подсказать ему, что ни один автор до Гоголя не давал ему столько материала для развития его комического таланта. Но Мартынов воспитывался в театральном училище в то время, когда на литературное образование не обращали почти никакого внимания; вся забота сосредоточивалась на приготовлении хороших танцовщиц и танцоров; выйдя на волю, он не имел времени доучиться. Пользуясь его возраставшим успехом на сцене, его заставляли играть чуть ли не каждый день, не обращая внимания, что такая усиленная деятельность могла иметь пагубное влияние на его здоровье. Я преднамеренно коснулся чутья Мартынова, потому что в начале своей карьеры он часто им только руководился, лишенный возможности обдумывать и изучать то или другое лицо пьесы. Ему случалось выходить на сцену, успев только бегло просмотреть роль; но уже и этого было для него достаточно, чтобы создавать иногда своеобразный тип. Раз он совсем не знал роли; вооружившись перед выходом длинным чубуком, он явился на сцену и через каждую фразу, подсказанную суфлером, стал производить долгие затяжки, придавая, в то же время, своему лицу и всей фигуре натянутый, недовольный вид; вышел от головы до ног тип строптивого, неуживчивого департаментского чиновника. Чутье подсказало ему также замечательную сцену в пьесе Чернышева «Не в деньгах счастье». [44]44
Комедия Чернышева «Не в деньгах счастье» шла с участием Мартынова в 1859 году. – Прим. ред.
[Закрыть]Изображая скрягу, отказавшегося от дочери и перед смертью неожиданно смягчившегося и признавшего дочь, Мартынов внес оттенок, о котором не помышлял автор: обнимая дочь в порыве раскаяния, скряга-отец начинает опасаться, что ее снова хотят отнять у него; он бешено обхватывает ее, комкает под собою и пугливо, как зверь, озираясь вокруг, начинает произносить какие-то дикие, невнятные звуки. Вся эта сцена, импровизированная Мартыновым, производила всякий раз потрясающее впечатление. Обаяние его как актера было так сильно, что стоило ему показаться на сцене, и, прежде чем он начинал играть, публика была уже наэлектризована. Никогда не забуду и его бенефиса; давали, между прочим, одноактную пьеску «Дочь русского актера»; [45]45
Водевиль П. И. Григорьева «Дочь русского актера» выдержал 8 спектаклей в сезон 1843—44 года. Мартынов играл роль Лисичкина.
[Закрыть]Мартынов играл роль отца; когда он в конце, обняв дочь, приблизился к рампе и пропел куплет:
Дитя мое, мой час пробил;
Я думал, мне дадут прибавку,
И вдруг нежданно получил
С печатью чистую отставку.
Но не забудутся во мне
Талант и гений исполинский,
И после смерти обо мне
Вздохнет театр Александринский!
страшно, право, было оставаться в креслах. Зрители партера поднялись со всех мест, как один человек; все бросились к оркестру; поднялся невообразимый шум, крики; стучали стульями и палками; из лож со всех концов летели букеты. Стены Александринского театра, наверное, в этот вечер должны были где-нибудь дать трещину.
(Д. В. Григорович.Литературные воспоминания. «Academia», Л. 1928, стр. 102–106.)
3 [46]46
Речь А. Н. Островского в честь Мартынова. – Прим. ред.
[Закрыть]
«А[лександр] Е[встафьевич]! Публика вас ценит и любит. Каждая новая роль ваша для публики – новое наслаждение, а для вас – новая слава; вы постоянно слышите громкие выражения восторга, вызванного вашим дарованием и тридцатилетним честным служением искусству; вы, наконец, накопили столько приятных ощущений в зрителях, что они сочли долгом выразить вам лично и торжественно свою благодарность за те минуты наслаждения, которых вы были виновником; но в огромном числе почитателей вашего таланта есть некоторые, их у нас очень еще немного, которым ваши успехи ближе к сердцу, которым ваша слава дороже, чем кому-нибудь; это драматические писатели, от лица которых я и беру на себя приятную обязанность принести вам искреннюю благодарность.








