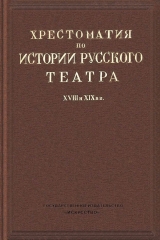
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
(1817–1885)
Из старых актеров я помню Самарина на его 50-летнем юбилее в 1884 году. Это был первый парадный спектакль на моей памяти. Я был уже юношей и помню, как захватило меня это торжественное чествование, которое было устроено Самарину в Большом театре. Все, что было лучшего и талантливого в то время, как прославленного, так и молодого, – все собралось на сцене, в ожидании юбиляра. В первой части пролога, написанного актером Вильде белыми стихами, М. Н. Ермолова изображала Трагедию, а Г. Н. Федотова – Комедию. Одна у другой оспаривали Самарина, доказывая на него каждая свои права.
Комедия
Сознайся в том: я более имею
Причин сочувствовать ему, чем ты.
Он ближе мне, ко мне любви он больше
Питал всегда…
Трагедия
Нет, в этом я поспорю.
Когда предстал он в первый раз на сцене
Цветущим юношей, почти ребенком,
Я на него вниманье обратила
И славный путь артисту предрекла…
Из этого спора должно было выясниться, что Самарин одинаково близок и дорог как комедии, так и трагедии. Если припомнить, что имена Ермоловой и Федотовой были самыми популярными артистическими именами того времени, что обе актрисы были самыми любимыми героинями сцены, то нетрудно представить, какое впечатление производило на зрителей их выступление в торжественный момент.
Во второй картине того же пролога участвовала вся труппа: старшие актрисы Медведева, Акимова, Рыкалова, затем Федотова, Ермолова, Никулина, затем Макшеев, Музиль, Ленский, Решимов, Правдин, Садовский – всё это крупнейшие фигуры того времени. Все они участвовали в «Ряде воспоминаний», называя вместе с характеристикой великие имена предшественников, которые вместе с Самариным составляли гордость и славу Малого театра: Мочалова, Щепкина, Шумского, Садовского, и в связи с произносимым именем появлялись на экране портреты этих славных предшественников.
Настроение поднималось с каждой минутой. Наконец, возгласили:
– Самарин идет!
Хор запел «Славу», артисты выстроились для встречи, и в отворившихся на сцене дверях появился Самарин. Он был во фраке, с тростью в руках, на которую тяжело опирался. Публика встала; гром аплодисментов слился с торжественными звуками «Славы». Медведева, Федотова и Ермолова, поддерживая под руки юбиляра, помогли ему дойти до авансцены и усадили в кресло… Это было последнее общение Самарина с публикой, последние проводы его со сцены, которой он отдал полвека жизни. Участвовала в торжестве вся Москва. Островский написал стихи для заключительного хора, которые кончались словами:
Его минутны вдохновенья,
Но вековечно торжество;
Ему – венки и поклоненье,
Бессмертье – имени его.
Помню, на этом торжестве было много восторгов, много любви и уважения и много хороших слез… Здесь же я впервые увидел А. Н. Островского, выходившего на вызовы в качестве автора «Леса», один из актов которого был в этот вечер поставлен.
(Н. Телешов.Литературные воспоминания. М. 1931, стр. 149–151.)
(1846–1925)
1
Г-жа Познякова, воспитанница московской театральной школы, дебютировала на московской сцене Малого театра 8 января 1862 года в драме г. Боборыкина «Ребенок» (бенефис Спирина). [47]47
Еще прежде г-жа Познякова являлась на сцене в незначительных ролях комедий и водевилей до тех пор, пока не обнаружился в ней талант замечательный и оригинальный. Она играла в «Испанском дворянине» (перевод М. Н. Лонгинова), в «Мастерской русского живописца» и т. д. – Прим. авт.
[Закрыть]Задолго до спектакля в некоторых литературных кружках и их органах ходила молва о новом замечательном таланте. Говорили, что такой актрисы еще не бывало, что она стоит совершенно особняком от всех прочих и что все, кому дорог русский театр, должны благодарить И. В. Самарина за образование подобного таланта. Те немногие, которым посчастливилось увидать молодую актрису на школьных спектаклях, говорили о ней с таким восторгом, что немедленно возникло целое племя дешевых скептиков. За несколько дней до спектакля в одной московской газете явилась статья – нечто в роде дифирамба. Впрочем, это казалось таким только прежде спектакля, но после, когда публика увидала предмет дифирамба, самое восторженное в нем казалось только-только что в пору. С первой же сцены дебютантка овладела публикой. Необыкновенная, невиданная простота и наивность, серьезная реальность и выдержанность игры незаметно увлекли зрителей в тот мир, в котором жила и дышала Верочка. Потрясений, эффектов никаких не воспоследовало. Через несколько минут после появления молодой артистки на подмостках публика привыкла к ней, как к чему-то знакомому и необычайному. В уме шевелился наивный вопрос, лучшая награда реальному художнику: да можно ли играть иначе? Сцена с учителем (1-е действие) была сыграна превосходно. Детская веселость и оттенок грусти и глубокой тревожной думы – переход от детской беспечности к пониманию грустной действительности – это было превосходно понято и выражено с редкой искренностью и теплотою. Характер Верочки и ход драмы осветились ярким лучом жизни и правды.
Занавес опустился. Раздались обыкновенные бенефисные аплодисменты (или, как говорили в 30-х годах, аплодисманы), но публика была в каком-то недоумении. Скептицизм ее был сильно поколеблен. Тут было, очевидно, что-то, что даже знатоков ставило в тупик. Неужели же?.. поднимался вопрос и невольно замирал. Утвердительный и положительный ответ пугал своею продерзостью. Люди ума ограниченного и дилетанты с разгоревшимися от восторга лицами говорили прямо, что это дивный, великолепный талант, но, к счастью, нашлось несколько умных людей, которые выручили погибающий было скептицизм, насмешливо пожимая плечами и помахивая головами.
Начался второй акт. Вся пьеса была поставлена необыкновенно хорошо. Г. Шумский в роли отца Верочки был превосходен. Замечательно умное понимание характеров и типичность, которую умеет придавать им г. Шумский, и здесь явились в полном блеске. Нельзя было лучше передать смесь тупоумия и уважения к «принципам», которыми проникнут Куроедов. Г. Рябов 2-й в роли брата был очень хорош. Заметим, что до этого времени г. Рябов занимал самые ничтожные роли и что в «Ребенке» ему в первый раз досталась роль серьезная. Личность Верочки выступила еще отчетливее среди прекрасной обстановки. Не имея под рукою пьесы (помещенной в Библиотеке для чтения), мы не можем, к сожалению, проследить по ней игру молодой артистки, что, впрочем, вышло бы из пределов нашей статьи. Скажем только, что в третьем действии, когда Верочка узнает от старой тетки о семейных несогласиях, бывших причиною смерти матери, когда в душе ее возникает страшная мысль, что отец ее виноват в смерти горячо любимой матери, – г-жа Познякова с замечательною искренностью чувства и умом уклонилась от эффектов и выкрикиваний, в которые так легко было бы впасть молодой артистке. Актриса, взросшая на известковой почве мелодрамы, уж конечно не преминула бы воспользоваться этою сценой, чтобы доставить зрителям несколько сильных, но очень неприятных, нервных ощущений. Публика прекрасно поняла и оценила этот художественный такт. Из среды ее вырвался, в первый раз, сильный взрыв сознательных рукоплесканий. Публика поняла артистку. Драматизм игры г-жи Позняковой в этой сцене был проникнут тою глубиною и искренностью чувства, которые составляют характеристическую черту в таланте молодой актрисы. Этот драматизм был в своем роде откровением.
Восторг публики после этой замечательной сцены шел все crescendo. Смерть Верочки, как торжественный аккорд, заключил сцену. Дебютантка была вызвана по-московски, т. е. с исступлением и неисчислимое число раз. Люди восторженные и молодые, видевшие в новом таланте представительницу молодого поколения на сцене, и вчерашние скептики, которые обижались, когда им напоминали об их двусмысленных отзывах и поспешных заключениях, все вполне сходились на том, что у г-жи Позняковой весьма замечательный талант и что от этого таланта русская сцена вправе ожидать многого. Дебют молодой актрисы был один из блистательнейших, которых могут запомнить театры. Все лучшие органы московской журналистики с сочувствием отнеслись к юному таланту, который сразу поставил себя на ту степень, до которой другие доходят ощупью, долгим путем опыта, теории, ошибок и успехов, а очень многие и вовсе не доходят. И в самом деле, если какое явление редко и утешительно, то именно – появление серьезного дарования, которое, не эксплоатирует свои средства и не сбивается на рутину.
Но отрезвившись от обаяния успеха, можно было указать на несколько довольно крупных недостатков в дебютантке. Случалось, что в патетических сценах она вдруг переходила в какой-то пафос; слышалась какая-то, очевидно, привитая искусственность, являлись какие-то архаические приемы. Зачем было, например, перед сценой объяснения с теткой (если не ошибаемся), сбрасывать так эффектно мантилью и несколько минут молчать, подготовляя публику к патетическому месту. «Э, – сказали друг другу Петры Ивановичи, – в этом что-то знакомое»… В некоторых местах артистке изменял голос, и она впадала в довольно неприятную монотонность дикции. От этого недостатка г-жа Познякова не совсем отрешилась и до сих пор (например, в последнее представление «Женский ум»). Но эти недостатки в деталях имеют только временное значение. В этом легко убедиться из следующих представлений «Ребенка». Г-жа Познякова постепенно отрешалась от них, и в настоящую минуту, когда кончился летний сезон и начался зимний 62-го года, 9 спектаклей дали возможность достаточно изучить новый талант, чтобы подвергнуть его критической оценке.
(Кн. А. И. Урусов.Статьи его о театре, о литературе и об искусстве… Т. I, М. 1907, стр. 37–40.)
2
В Московском Литературно-Художественном Кружке в свое время висело большое полотно кисти Валентина Серова, где в обстановке кабинета были изображены во весь рост Южин и Ленский, два артиста, имевшие громадное влияние на жизнь Малого театра за целый ряд последних десятилетий. Помещенные на одном полотне, эти портреты всегда вызывали воспоминания о совместных выступлениях Южина и Ленского на сцене в одних и тех же пьесах одновременно, – и в памяти возникали при взгляде на оба эти лица яркие образы то Лейстера и Мортимера, то маркиза Позы и Дон-Карлоса, то принца Оранского и Эгмонта. А вспоминая Эгмонта – Южина, невольно вспоминаешь Клерхен – Ермолову, под гнетом тирании добровольно уходящую из жизни, видишь на опустевшей сцене последними вспышками угасающий забытый светильник – эмблему наступающей смерти – под тихие звуки бетховенской музыки, полной исключительного настроения… А вспоминая Ленского, видишь его Уриэлем Акоста и рядом с ним Медведеву в сцене, когда приходит к сыну слепая мать. Точно в волшебном калейдоскопе начинают перебрасываться в памяти и стройно группироваться и вновь разбрасываться сценические фигуры, знакомые лица, то в гриме, то так, какими были они в частной жизни, вне сцены. И вспоминаешь без конца этих милых, близких, хотя и незнакомых в то время людей, но хорошо знаемых и нередко любимых. Вспоминается городничий Макшеев, Никулина, несравненная в комедийных ролях и обаятельная, вечно укрощаемая, но неукротимая Лешковская с ее своеобразной яркой силой дарования; вспоминаются Музиль и Рыбаков в образах Шмаги и без вины виноватого Незнамова; Михаил Садовский – многогранный и глубокий талант; жена его, Садовская – лучшая изобразительница старух, которых начала играть еще смолоду, то комических, то трогательно-нежных; это ее голос над колыбелью в «Воеводе» я слышу через три десятка лет и ее тихую песенку, пленявшую неизменно всякий состав публики, как бы разнообразен он ни был. Вспоминается Дездемона – Яблочкина с великим гостем Малого театра, самим Томазо Сальвини в роли Отелло.
На моей памяти в Малом театре были одновременно две самые знаменитые артистки: Г. Н. Федотова и М. Н. Ермолова, которых я застал на сцене в полном расцвете их исключительных сил и дарований. Они в течение долгого срока несли на себе почти весь репертуар вместе с своими достойными партнерами – Ленским, Южиным и Рыбаковым. Как в пьесах классического репертуара, так и современного артистки давали незабываемые образы. Перечислять те роли, которыми они прославили свои имена, значило бы выписать почти все, в чем они выступали. Но вот сцена из «Марии Стюарт», где обе они, Ермолова и Федотова, встречаются, как две королевы, как две смертельные соперницы. Много лет прошло с тех пор, когда я был свидетелем этого потрясающего столкновения, но не забыл и не могу забыть ни впечатления, ни лиц, ни голосов их.
Незадолго, всего лишь за несколько недель до смерти Г. Н. Федотовой, я навестил ее, тяжким недугом и преклонным возрастом прикованную уже много лет к постели.
С поступления в театральную школу и до конца ее дней она была связана с Малым театром 68 лет, и когда она говорила о своем родном театре, к ней словно возвращались силы, и она рассказывала много и хорошо о былом.
Ей не было еще 17 лет, она только что вышла из театрального училища и не знала ни людей, ни жизни, а ей поручили в бенефис П. Васильева ответственную роль Катерины в «Грозе».
– Тоска, стремления Катерины, ее греховные помыслы, ужас совершившегося и гнет окружающих – инстинктивно все это я чувствовала, но передать не умела, – вспоминала Гликерия Николаевна. – Самарин очень помогал мне изучать эту роль, объяснял правдиво и ярко все душевные движения Катерины, но внешняя передача, бытовая сторона нам обоим не давалась. На репетициях помогали все: Пров Садовский, Васильев, Рыкалова, Бороздина, Акимова – все, все. А что вышло из этого во время представления? – я ничего не сознавала от страха.
Впоследствии я больше всех других ролей любила Катерину, и больше и больше сживалась с этим дивным трогательным образом. В последний раз я сыграла и простилась с бедной Катериной, когда мне было уже 52 года. Стало быть, я играла ее в течение 35 лет.
Шекспир и Островский, Шиллер и Аверкиев и все другие авторы, от классиков до современников включительно, всегда находили в Федотовой искусную истолковательницу образов, характеров и положений. По силе чувства, по яркости, по художественно-тонкой обрисовке фигур, темпераменту – Федотовой принадлежит первенствующее значение и место на русской сцене. Писемский признается, что объездил всю Европу, переглядел все театры, видел много хороших актрис, но «другой такой актрисы, как Федотова, – по полноте чувств, нигде нет. Сойдет она со сцены, и другой такой не дождемся».
Значение Федотовой была огромно. Когда вследствие тяжкого недуга она принуждена было сойти со сцены, влияние ее не ослабело. К ней за ее мудрыми советами прибегали не только ее товарищи и сверстники по сцене, не только молодежь Малого театра, но и многие из артистов и руководителей Художественного театра с самим Станиславским во главе.
Вот что говорится, между прочим, в письме к Федотовой от имени Московского Художественного театра в день ее 50-летнего юбилея:
«Наши первые шаги обвеяны духом вашей чудесной энергии… На протяжении с лишком двух десятков лет мы не имеем перед собой примера более яркого, более блестящего, как пример вашей артистической личности… И лучшее выражение благодарности, какое мы можем принести вам сегодня, в день вашего полувекового горения для искусства, это наше обещание передавать ваши заветы дальше – следующим поколениям. В этом обещаем и клянемся».
И вот как отвечала на это Художественному театру Гликерия Николаевна (14/I 1912 г.):
«… Еще в те далекие дни, когда кружок молодых людей, охваченных любовью к искусству, дружной сценической работой посеял то зерно, из которого вырос Московский Художественный театр, я всей душой участвовала в этом деле, помогая по мере сил моих любовью и советом. С чувством глубокой признательности, выслушав привет вашего, ныне славного театра, радостно принимаю ваш обет – непрестанно служить тем великим заветам, которыми вдохновлялись мы и отошедшие великие учителя наши. Всей душой любящая вас Гликерия Федотова».
Между прочим, на юбилее Самарина, о котором я говорил выше, среди многочисленных подношений был передан юбиляру небольшой венок из позолоченного серебра от Об-ва драматических писателей. Этот венок растроганный Самарин возложил на голову своей любимой ученицы – Г. Н. Федотовой, а та, в свою очередь, через много лет передала венок К. С. Станиславскому, которого она всегда считала своим любимым учеником. Таким образом с этим венком связаны, как бы преемственно, три крупных театральных имени: Самарина – Федотовой – Станиславского.
Венок в настоящее время хранится в Музее Московского Художественного театра.
Необходимо коснуться одного многолетнего недоразумения. В публике всегда считали Федотову и Ермолову соперницами: им приписывалась непримиримая рознь, борьба и почти вражда. Их считали и в жизни и на сцене вроде двух королев из «Марии Стюарт». И было время, даже продолжительное время, когда сама публика разделилась невольно на два лагеря: на федотовцев и ермоловцев.
– На самом же деле, в жизни мы были все время друзьями, самыми близкими, – говорила мне Гликерия Николаевна. – Отношения наши были всегда самые сердечные, дружеские, и дружба эта сохранилась до сих пор.
Прежде, чем взять какую-нибудь роль, обе они обычно советовались между собой, которой из них эта роль больше подходит, и решали это сообща, никогда не переходя друг другу дороги. На спектакле, бывало, Ермолова не выйдет на сцену без дружеского напутствия Федотовой. Передо мной лежит подлинное письмо М. Н. Ермоловой, которое начинается следующими словами: «Дорогая, родная, любимая Гликерия Николаевна, я была в таком горе, что без вашего благословения буду 2-го мая. И вдруг перед самым выходом на сцену я получаю ваше благословение… С моей души точно камень свалился…»
(Н. Телешов.Литературные воспоминания. М. 1931, стр. 157–162.)
(1853–1928)
1
Так подошел вечер 30-го января 1870 г.
Вот небольшой отрывок из рассказа самой М. Н. Ермоловой, записанный мною много лет назад.
«Было часов пять. Я пробежала еще раз роль и стала бродить по коридору школы. Кажется, в эти минуты я уже ничего не чувствовала, как будто забыла, что вечером играю… По крайней мере, когда меня позвали и сказали, что за мной приехала карета, я не сразу поняла, в чем дело, на меня все это произвело впечатление какой-то неожиданности. Я было оробела, но скоро оправилась, и почти до самого спектакля робость моя была лишь очень слабая». В театре дебютантку провели в чью-то уборную, стали завивать, одевать. Ермолова была по-прежнему спокойна. Все в ней точно замерло. Когда ее одели в безобразные, плохо сидевшие лиф и юбку, – ее провели к Медведевой. Медведева приколола вуаль, велела не снимать его, перекрестила: «Ну, ступай с богом». По дороге на сцену встретился Самарин. Он ласковее обыкновенного заговорил с нею, сказал, что бояться нечего, что все сойдет хорошо, или что-то в этом роде.
Первый акт, в котором Эмилия не занята, кончился. «Я слышала, как подняли опять занавес, – пишет Ермолова в своем дневнике, – и вдруг все мое спокойствие пропало. Меня охватил ужасный панический страх. Я вся задрожала, заплакала, лихорадочно крестилась. Меня подвели к кулисе. Со сцены доносились чьи-то голоса, но я ничего не могла разобрать. В ушах был какой-то гул. Страх все рос».
«Возле меня у кулисы стояла мама, сама дрожавшая не меньше меня… Екатерина Ивановна (классная дама школы) держала мой платок и стакан с водой».
«Не отходил от меня и Охотин (муж Медведевой, талантливый актер Малого театра), шутил, чтобы меня успокоить, уверял, что выходить на сцену совсем не страшно, что он никогда не боится. А у самого голос дрожал от волнения. Мне казалось, что я забыла роль, что я не скажу ни слова. Вдруг меня кто-то толкнул сзади. И я была на сцене».
Дополняя записанное в дневнике, М. Н. Ермолова передала еще некоторые воспоминания. «Мне казалось, будто я провалилась в какую-то дыру. Я была в сумасшедшем страхе. Перед глазами вместо зрительной залы – громадное черное пятно, а на нем – два каких-то огня. Сама не знаю как, – я произнесла первые слова. Раздались громкие аплодисменты. Я не понимала, в чем дело. Потом сообразила, что аплодируют мне. Весь страх слетел с меня. Как я играла, я не знаю, но меня вызвали „за сцену“, а после акта одну». […]
«Меня поздравляли, обнимали, говорили, что ничего подобного не ожидали. За кулисы пришел управляющий конторою театров Пельт, на спектакле не присутствовавший. Спросил у Вильде: „Ну что, недурно? Есть понимание?“ „Даже больше, есть талант“, – ответил актер. „Вот как! Что ж, очень рад“». После последнего акта Ермолову вызывали без конца. «30-го января 1870 года – день этот вписан в историю моей жизни такими же крупными буквами, как вот эти цифры, которые я сейчас написала. Я счастлива, нет, – я счастливейший человек в мире. Сбылось то, о чем я пять дней назад не смела и мечтать. Я думала, что меня вызовут раз, меня вызвали двенадцать раз».
(Сборн. «М. Н. Ермолова», изд. «Светозар». 1925, стр. 90–92.)
2
Когда на первых репетициях «Орлеанской Девы» в сумерках полуосвещенной сцены, обставленной случайными декорациями, на венском стуле, поставленном около воображаемого Домремийского дуба, сложив руки на коленях, сидела Мария Николаевна, а кругом, с тетрадками в руках, ходили актеры, игравшие Тибо, Бертрана и других действующих лиц пролога, – уже тогда, в сосредоточенном молчании неподвижной Жанны неотразимо ощущалось всеми, кто был на сцене и даже окружал ее, не участвуя в действии, что весь нерв, смысл, все будущее развитие произведения кроется в этом молчании, в этой отчужденности от всего, что говорится и делается вокруг Девы. Анатоль Франс в одном из отрывочных воспоминаний своего детства говорит о том, как он, больной ребенок, играл в своей постели в течение своего выздоровления старыми поломанными игрушками, создавая из них свой театр, сочиняя для них пьесы, и какие это были чудные, полные невиданной красоты, спектакли. Когда обрадованная его выздоровлением мать подарила ему настоящий игрушечный театр с разодетыми марионетками, с роскошными декорациями дворцов, парков и башен, он с восторгом ждал еще более сильных художественных ощущений. Оказалось, что поломанные игрушки, изображавшие рыцарей и волшебников, похищавших и освобождавших – из-за пузырьков с лекарствами и детских подушек, изображавших леса и подземелья, – очарованных красавиц, играли лучше, чем прекрасные марионетки, а пузырьки и подушечки представляли правдивее замки и горы, чем великолепные декорации кукольного театра. Понятно почему: первая игра была вся обвеяна духовным слиянием больного ребенка с созданным им миром, а во второй – место этого творческого озарения заняло любование внешней красивостью, и это любование погасило мечту. Ложь представления сменила вечную правду грезы, – и жизнь пропала.
Этой лжи представления никогда не знала душа Ермоловой. И в своем темном репетиционном платье, на коновском соломенном стуле она была тою же Иоанной, какую она потом одела в панцырь и шлем. В антрактах репетиции, в своей уборной, выслушивая остроумные шутки Михаила Провыча Садовского, или колкие, намеренно утрированные передразнивания Надежды Михайловны Медведевой, которыми эта исключительная артистка умела, как никто, заставлять свою гениальную ученицу совершенствоваться в великом деле сценической техники, Ермолова, смеясь своим тихим задушевным смехом, все же в глубине своей души продолжала жить только своей Иоанной. Это особенная, мало кому понятная и еще меньше кому доступная способность. Это не то, что называется подсознательным творчеством, так как в этой способности сознательность внутренней работы стоит на первом плане. Это просто результат постепенного слияния в одно целое артиста с создающимся в его душе образом, слияния, растущего с каждым часом и приводящего в конечном результате к полному отождествлению образа с его воплотителем. И как сама Жанна Д’Арк пасла и считала своих овец, ела и пила, разговаривала со своими сестрами, отцом, женихом, вздрагивала, уколовшись терновником, вероятно и смеялась, и бегала, и как ей это не помешало вырасти в легендарный образ спасительницы родины и вождя ее защитников, путем долгой и обособленной духовной жизни, так Ермоловой вся ее внешняя, лично ермоловская жизнь в театре и вне его не могла помешать всецело влиться в этот героический образ.
И вот, сидит на своем камне, под дубом, среди холмов Дом-Реми, под ясным небом Средней Франции Иоанна. Но эта Иоанна – Мария Николаевна, камень – соломенный стул, холмы – спущенный старый задний занавес, изображающий какую-то мольеровскую улицу, ясное небо – колосники Малого театра, обвешанные множеством пыльных декораций. А вместе с тем, всего этого просто не видишь. Не оторвать глаз от молчащей Ермоловой, и из ее слегка наклоненной прекрасной головы, из всей ее фигуры, подчиненной живущему в глубине ее души образу, вырастают и холмы, и «дуб таинственный», и небо прекрасной истерзанной Франции. Это она – силою внутренней жизни, своим взглядом и всею собою заменила и декоратора, и освещение, – и в январском нагретом воздухе Московского театра всем чудится мягкий вечерний ветерок далекого юга. Ваша скептическая душа бессильна сомневаться в подлинности видений такой Иоанны, а когда эта тихая девушка кончает пролог вдохновенным видением:
То битвы клич. Полки с полками стали.
Взвились кони и трубы зазвучали,
вам начинает казаться, что появление подлинных полков с рыцарями в тяжелых доспехах, на взвившихся конях, меньше убедило бы вас в неизбежном освобождении Франции от нашествия, чем этот голос и эти глаза великой артистки. И если бы какая-нибудь лондонская сцена дала постановку такой картины (лондонские театры дают изумительные иллюстрации таких сцен), – то все же и эта постановка не заменила бы вам той картины, которую создало ваше воображение под очарованием этого голоса и этого лица. […]
Пролог Орлеанской Девы был той твердой опорой, с которой Ермолова, как орлица, широкими взмахами крыльев взмывая все выше и выше, понеслась по необъятному небу шиллеровской фантазии, превращая ее самые чудесные, самые сверхъестественные положения во что-то глубоко жизненное, почти неизбежное при той окраске, какую образ Иоанны получил в ее творчестве. В следующем за прологом первом акте, когда в присутствии короля и своевольных вассалов Иоанна властно велит английскому герольду передать свою волю победителям словами:
Ты, английский король, ты, гордый Глостер,
И ты, Бедфор, бичи моей страны,—
Готовьтесь дать всевышнему отчет
За кровь пролитую… […]
Все дальше, все шире, все выше ее могучее проникновение в правду поэтического образа. Иоанна в бою встречает Лионеля. Подвижница становится женщиной. Невозможно с большей жизненностью, с большей простотой передать этот перелом. Не отводя глаз от лица поверженного Лионеля, Ермолова, в шлеме и панцыре, с мечом в руках, точно теряет все, что оправдывает и меч, и панцырь, и шлем для женщины. Начиная с опущенных, точно обессиленных рук и кончая глазами, полными и ужаса перед новой силой, покорившей ее душу, и какого-то сомнения перед властно и неожиданно нахлынувшим чувством, – все существо Ермоловой, все ее тело, черты лица, звуки становятся глубоко женственными, прекрасно-беспомощными. С нее точно реально спадает ее вооружение, – оно точно отделяется от нее, то самое вооружение, которое так неразрывно было со всем ее существом, когда она по пьесе:
…………………… в грозном
Величии пошла перед рядами…
и когда она клеймила «бичей своей страны».
Выйдя на сцену после этой встречи, я все сто или больше представлений этой пьесы, поддерживая падающую ко мне на руки Иоанну, не мог отделаться от впечатления, что у меня на руках умирает девушка, почти ребенок, от какого-то страшного душевного потрясения… Именно тут, в этой сцене второго или третьего акта, а не в пятом, кроется трагическая развязка ее жизни. И если вы меня спросите, после этих ста или больше представлений, какЕрмолова это играла, я должен с полной искренностью ответить: никак. Ничего не играла. Ни одного трагического жеста, ни одного искусственного вздоха или звука. Ни одного страдальческого искажения лица. Просто умирала, отвечая на мои слова:
Но льется кровь!
– еле слышным голосом, —
Пускай она с моею льется жизнью.
Опускался занавес. Шли вызовы. Кончались. Ермолова шла в свою уборную. Я шел за нею в свою. И глядя на ее плечи, на ее склоненную шею, голову – я не мог оторваться от мысли, что это – умирающая Иоанна. Ей по пути встречался кто-нибудь, заговаривал с нею, иногда шутил, иногда и она отвечала ему, улыбалась, – словом, жизнь не-сценическая шла своим путем, – но от Ермоловой веяло все тем же, чем она жила на сцене – моментом умирания. И это было помимо ее воли: она уже не могла оторвать себя, Ермолову, от того, во что она себя внутренно претворила. И это же веяло от нее в сцене – «Молчит гроза военной непогоды». Нельзя было слушать без слез тех нот глубокой предсмертной тоски, с какими она говорила:
Ах, зачем за меч воинственный
Я свой посох отдала
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была!
Мне почему-то каждый раз в этом месте вспоминался лермонтовский стих из «Демона» – «прощанье с жизнью молодой».
Тою же тоской прощанья и ужаса перед совершившимся в ее душе переломом было насыщено все ее существо в знаменитой сцене перед собором, в ее великом молчании на сыплющиеся на нее обвинения, на порыв Дюнуа, на его слова:
Иоанна, я назвал тебя невестой,
Я с первого тебе поверил взгляда…
… Я верю Иоанне более, чем этим знакам,
Чем говорящему на небе грому.
В ее тихой улыбке, полной смерти, с которой она встречает ласки сестер, в том, как она подает руку своему бывшему жениху и уходит с ним от подвига и блеска, от своего призвания, служить которому она не считает себя достойною, – Ермолова незабываема и несравненна в этот период драмы, – и не потому, что она сильнее или правдивее в нем, чем в остальных: по правде и степени перевоплощения она одинакова на всем протяжении пьесы, и по силе переживания – в целом ряде электрических взрывов, освещающих ее роль ослепительным блеском, как мы видели и сейчас увидим, буквально с силой молнии в темную грозовую ночь. Но в этот период пьесы она развертывает такую картину вечной трагедии женской души, так расширяет пределы задуманного, что героическая и романтическая фигура Иоанны вырастает в символ женского страдания, страдания вечного и неотвратимого, связанного с женщиной неразрывно. Героиня и любящая женщина временно бледнеют, теряются в образе женщины, падающей под наложенным на нее крестом любви и долга. И этот символ проступает сквозь глубоко жизненный, художественно-живой облик, всецело создаваемый артисткой на канве великого поэта.








