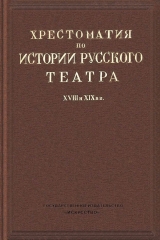
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
(1865–1918)
Дальский начал играть Шекспира в ранней юности в самых крохотных городишках глухой провинции. Даже Шклов, Умань, Винница в те времена были для него крупными городами. Он играл в Голте, а мечтал о гастролях в Париже. И, чтобы осуществить свою мечту, упорно, в течение многих лет «тренировался на Шекспире» в захолустье.
Ему было совершенно безразлично, каков ансамбль, есть ли на сцене декорации, а на актерах – должные костюмы. Раз он, Мамонт Дальский, играет, значит, здесь – настоящий театр, если даже над головой нет крыши…
Помню, приехали мы с ним в Винницу. Встретил нас антрепренер Крамской, тот самый Крамской, о котором я говорила. Встретил и тотчас повел в свой театр.
Тощий, серый от пыли сад. Полуоткрытая сцена. Обстановка ужасная. Крамской с робостью поглядывает на Дальского: а вдруг не понравится – уедет?
Но ничего подобного не случилось. Дальский даже не взглянул на этот «храм искусства», а быстро прошел на сцену и потребовал немедленно созвать к себе всю труппу.
Через полчаса собрались. Перепуганные, недовольные тем, что им на этот раз уже не отвертеться от «триковых» ролей.
Трагик грозно взглянул на мрачные физиономии актеров и кивнул головой антрепренеру:
– Ну, показывайте, что у вас есть.
Крамской, приятно улыбаясь, стал тыкать пальцем то в одного, то в другого:
– Вот, рекомендую, любовничек… Годится для Кассио. Успех обеспечен, ручаюсь… А вот – резонер. Может играть и злодеев. Советую дать ему Яго – будьте покойны, не ошибетесь…
«Ансамбль» был готов. Дальский прошел в свою уборную и, не замечая цветов, которыми убрали к приезду знаменитости всю эту грязную каморку, не чувствуя едкого запаха тройного одеколона, потребовал к себе портного.
Тот принес ему целый ассортимент отрепья разных времен и народностей; здесь не было ничего мало-мальски похожего на костюмы, пригодные для Отелло.
Это обстоятельство ничуть не смутило Дальского. Он выхватил из рук портного первый попавшийся пестрый халат и какую-то яркую тряпку для головы и, не примеряя, бросил их на подоконник. Так же было покончено и с остальными деталями костюма.
Теперь можно было приступить к репетиции – первой и в то же время генеральной. Пришли актеры с тетрадками в руках. Роли сокращены до последнего предела: лишь бы сохранился хоть какой-нибудь смысл.
Дальский, даже тренируясь, обычно репетировал полным голосом. И, когда гастролер, разъяренный тупостью своего партнера, схватил трепещущего Яго за шиворот, выволок его на авансцену и завопил: «Крови, Яго, крови!» – даже закаленный в огне пожарный – и тот ахнул на весь театр: столько было трагического подъема в игре замечательного артиста.
В те времена Дальский был еще молод, в нем таились огромные творческие силы. На сцене он глубоко переживал, увлекая за собой и актеров, и зрителей.
Но никак нельзя было сказать про Дальского, что он брал только нутром. Отнюдь нет. Придавая большое значение актерской технике, он упорно работал над собой. Но работал своеобразно. Главным образом, смотрел на игру других Гамлетов, Шейлоков и Отелло – плохих и хороших. Он в равной мере чему-то учился и у французского трагика Мунэ-Сюлли, и у маленького актерика какой-нибудь Голты. И всегда говорил:
– У каждого актера я найду что-нибудь для себя полезное.
Но больше других Дальский любил Иванова-Козельского. Перед ним он преклонялся. И, ни капельки не смущаясь, заимствовал от Козельского все его удачные интонации и мизансцены. Но заимствовал в лучшем смысле этого слова: не просто копировал своего любимого трагика, а все удачные детали умно претворял в себе.
И дома, расставив по комнате стулья, Дальский много раз репетировал какую-нибудь труднейшую, но интересную деталь. Затем закутывался в плащ (он очень любил плащи), становился перед зеркалом и начинал работать над своими интонациями, сопровождая каждую фразу соответствующим движением.
Он занимался пластикой, но не той «школьной» пластикой, которую усвоили многие лучшие исполнители шекспировских героев. Дальский заимствовал позы, движения у своих излюбленных образцов. Если ему что-нибудь не удавалось, бросал все развлечения и принимался за тренировку. Я помню, с каким поразительным упорством он развивал кисть правой руки.
Но в основном вся техника была приобретена им благодаря огромной сценической практике: ради нее он каждое лето кочевал по медвежьим углам России, решительно отказываясь от какой-либо сезонной работы в более или менее крупном деле, где ему пришлось бы играть с двух-трех репетиций очень сомнительные по своим литературным достоинствам пьесы. Денег на свою труппу в те времена у него не было, вот он и гастролировал всю свою жизнь, не исключая тех десяти лет, когда работал на императорской сцене. Зимой – на огромной сцене Александринки, а летом – в голтинском сарае. И думаю, что в Голте и других заштатных городишках Дальский играл с большей охотой, чем в «императорском» театре: здесь он заведывал репертуаром и мог играть каждый вечер своего Шекспира.
Я не помню случая, чтобы Мамонт Дальский когда-нибудь небрежно отнесся к исполнению своей роли. В медвежьих углах, куда не показывал носа ни один уважающий себя актер, его Отелло блистал всеми красками высокого художественного произведения. Может быть, поэтому его гастроли всегда сопровождались таким шумным успехом. Пожалуй, одних только братьев Адельгейм Россия знала больше, чем Мамонта Дальского.
Появлялись афиши, и около них тотчас же собиралась шумная толпа горожан. Имя гастролера было уже всем знакомое. И на этот случай у каждого находился полтинник. Каждый стремился еще раз пережить вместе с Дальским сильные трагические волнения. Например, в Виннице аншлаг висел уже через три часа после объявления о гастролях Дальского.
Не только еврейская молодежь, но и почтенные родители страстно любили театр. Они, покупая билет, отлично знали, что завтра увидят прескверный спектакль, но будут наслаждаться чудесной игрой Мамонта Дальского. И пусть завтра на плечах трагика, вместо красочного костюма мавра-полководца, будут болтаться какие-нибудь отрепья времен Мамая, – этого вовсе не заметит сам Дальский, и этого постараются не заметить благодарные зрители.
И – что всего поразительнее – он своей темпераментной игрой, своим мастерством умел отвлечь внимание публики от ужасающего «ансамбля». Все глаза были прикованы к Отелло, все уши раскрыты только для его страстных монологов, а обстановочка была такова, что соловцовский спектакль «Ромео и Джульетта» показался бы по сравнению с этим прямо-таки шедевром сценического искусства…
На «Отелло» пришла вся Винница, которая была в то время очень театральным городком. Дальский сидел у себя в уборной и гримировался. Рядом лежали тряпки, которые через пять минут он должен будет одеть. За спиной у гастролера стоял Крамской с лицом, выражающим покорность судьбе и готовность испить до дна чашу страданий. Он по опыту знал, что стоит только гастролеру, облаченному в «пышные одежды полководца», взглянуть на себя перед выходом на сцену в зеркало, как разразится страшная гроза. Гастролер наговорит массу дерзостей ему, антрепренеру, обязательно поколотит портного и тотчас же уедет в другой город. И, боже, какие неприятности ожидают хозяина и всю труппу! Ярость жаждущей зрелищ и обманутой толпы, окончательный подрыв доверия к театру и крах!
Звонок. В зрительном зале потушен свет. Дальский подходит к зеркалу и… лицо его перекашивается: в чем дело? Почему глаза так сузились, потускнели? Куда девался их блеск?
– Что за дьявольская духота!.. Открыть окна настежь… Чтобы завтра мне новую уборную, слышите?..
И пошел на сцену. А на костюм даже и не взглянул…
И, когда я вхожу на сцену и вижу спокойно стоящего у судейского стола своего Отелло, я поражена его красотой. Все в нем мне кажется прекрасным и достойным любви Дездемоны. О его костюме я и не помышляю.
С наслаждением слушаю давно знакомую мне речь обвиняемого и верю словам дожа:
Ну, и мою бы дочь увлек такой рассказ…
Весь сенат, затаив дыхание, слушает мавра. Увлечены рассказом и сенаторы, и актеры. И это «увлечение» перехлестывает через рампу и охватывает весь зрительный зал.
Я внимательно вслушиваюсь в каждую фразу Дальского, я хочу, наконец, понять, в чем же сила его таланта.
В монологе не было «умных интонаций», тонко продуманного логического тонирования, филигранной отделки. Перед судейским столом стоял простой солдат-мавр, гордый не доблестями полководца, а любовью прекрасной Дездемоны. Этой-то любовью и были согреты каждое слово, каждая фраза. Вы чувствовали, что своим рассказом он хочет не оправдаться, а еще сильнее увлечь Дездемону… Искренность, – вот в чем была сила Отелло – Дальского.
И Дездемона, а вместе с ней и зрители в горячих словах мавра слышали только глубокое чувство любви. И им сейчас не было дела до «логических тонирований» актера.
«Отелло» мне пришлось играть со многими актерами, но я не знаю ни одного, который так же остро, как Дальский, переживал бы этот момент трагедии.
А какой трепет охватывал зрителей в сцене на Кипре! Отелло, услышав крики и звон оружия, выходит на балкон и видит драку своих офицеров. Он крепко сжимает рукоять шпаги, стараясь побороть в себе чувство гнева:
Пусть двинусь я, пусть подниму лишь руку…
И вы верили, что сейчас действительно произойдет убийство.
На следующий день шел «Гамлет».
Эту роль Дальский трактовал так: принц отнюдь не безумен. Он все делает очень умно, с холодным расчетом. И если он иногда кажется безумным, то это – сознательное притворство: ему нужно спасти свою жизнь, чтобы отомстить за убийство отца.
Особенно удавалась Дальскому сцена с матерью-королевой. Сначала он бесконечно нежен. Ему – одинокому и страдающему – так необходима сейчас материнская ласка. Он надеется пробудить в этой женщине совесть. Он чувствует, что еще одно слово, – и мать заключит его в свои объятия… Но кто-то подслушивает, мешает ему сказать это решающее слово… Вспышка гнева. Падает мертвым не король, а Полоний.
Но перед ним уже не мать, а жена ненавистного Клавдия. И перед матерью – не сын ее Гамлет, а строгий судья. Сегодня случайно убит Полоний, а завтра…
Холодом и глубоким презрением дышит его прощальная фраза:
Покойной ночи, королева.
Но сцену дуэли Дальский проводил слабо…
Через три дня поехали в Умань. Еще меньше городишко, еще более убога обстановка.
Но в местной труппе оказался очень интересный актер – Вишневский. Когда все собрались на сцене «перед светлыми очами» гастролера, я и, конечно, Дальский сразу же обратили внимание на Вишневского.
У него была прекрасная фигура, выразительное красивое лицо и очень хороший голос.
Дальский передал ему роль Яго и не раскаялся. Но еще лучше удалась Вишневскому роль Сантоса в «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова.
Вишневский был тогда еще очень молод, ему редко приходилось играть с большими актерами, но в роли Сантоса он показал не только свое уменье отвечать в тон партнеру, но и смелость устанавливать в игре с гастролером свой тон.
Во втором акте, вслед за знаменитым монологом Уриэля – Дальского, который заканчивается словами: «на проклятие имеете вы право: я еврей…» Сантос – Вишневский сразу же начал в очень высоком тоне:
Иссохнешь ты в томленьи по любви,
Не встретивши ни разу в женском сердце
Горячего привета…
Здесь нужно было вступать мне – Юдифи. Мой сценический опыт, мой актерский инстинкт подсказывают мне необходимость «покрыть голосом» последние слова проклятия. Но как это сделать? Вишневский взял такой высокий тон, что я рискую сорвать голос. Но, с другой стороны, если Юдифь скажет свою фразу хотя бы чуть ниже тоном Сантоса, она провалит всю сцену.
И я, набравшись смелости, горячо крикнула:
… Лжешь, раввин!
Да, да, самой себе и вам я изменяю,
Измена вам есть верность небесам…
Мой звонкий голос выручил меня. В антракте Вишневский, признав себя побежденным в этом оригинальном соревновании, смеясь сказал мне:
– А знаете, я ужасно хотел поставить вас в неудобное положение.
Говоря откровенно, для актера, которому честолюбие не совсем чуждо, играть с Дальским было трудно: все наши удачи он преспокойно вплетал в свой лавровый венок триумфатора. Хороший Сантос и неплохая Юдифь давали возможность Уриэлю – Дальскому быть великолепным.
(М. И. Велизарий.Путь провинциальной актрисы. «Искусство», Л.—М., 1938. Стр. 167–175.)
(1847–1898)
1
В начале 70-х годов прошлого века на сцене Харьковского драматического театра появилась незаметная фигура вновь приглашенного актера на роли вторых любовников. Ни публика, ни актеры не обратили ни малейшего внимания на нелюдимого, некрасивого, плохо одетого человека, незаметно выступавшего в жалких ролях злосчастного амплуа.
И фамилия его была такая же невзрачная – Иванов.
В уборной, одеваясь с товарищами, он больше молчал. Входил, одевался и уходил незаметно.
В октябре или ноябре, в дождливый ненастный вечер состоялся бенефис незаметного актера. Пустота в театре была вопиющая, даже на галерее сидело не более десяти-пятнадцати человек. Шла пьеса «В мире жить – мирское творить».
Публика скучала, но вдруг что-то случилось: со сцены повеяло чем-то, что сразу вызвало внимание зрителя. Зазвучал сильный, наполненный правдой голос, неподдельная драма происходила перед зрителем. Аплодисменты покрыли прекрасно сыгранную сцену. За кулисами недоумение: «Кому аплодируют?»
Не допускают и мысли, что успех принадлежит Иванову.
На его счастье, на галерее находились студенты университета, люди образованные, умные, любящие и знающие театр, чуткие ко всякому проявлению таланта. После спектакля, в котором Иванов имел выдающийся успех, студенты пришли на сцену – знакомиться с Ивановым.
И с этого вечера жизнь незаметного человека изменяется. Меняется отношение к нему за кулисами. Васильев-Гладков настоятельно требует постановки пьес, в которых видные роли играет Иванов. Для него ставится «Доходное место», возобновляется «Горе от ума». Публика заинтересована новым актером. «Горе от ума» делает полный сбор. Успех Иванова укрепляется.
Мой товарищ, живший в одном коридоре с Ивановым, говорит, что у него во все свободные от работы в театре часы идут занятия и работы. Студенты читают ему книги. Переводят с немецкого, английского. Проходят с ним «Гамлета», изучают Гервинуса. Иванов, оставаясь один, целые ночи читает, учит. Крепкий чай истребляется безжалостно, – чтобы не заснуть.
На второй сезон Иванов получает 250 рублей – большой оклад для того времени. В свой бенефис ставит «Гамлета». Роль разучена по разным переводам. Сбор и прием – прекрасные, но Иванов недоволен своим исполнением. Роль, по мнению его и его друзей, требует еще проработки. И он совершает поступок, не знающий себе примера в летописях театра того времени: отказывается играть во второй раз, несмотря на то, что билеты и на второй спектакль разобраны.
Старик Дюков поражен. Он не может себе представить, – как это можно отказаться от сбора только потому, что актер недоволен своим исполнением. Происходит бурное объяснение. Иванов не идет ни на какие доводы, выходит из дела, уезжает в Москву, в частный театр, уходит оттуда в Одессу. Работа, самообразование продолжаются.
В Одессу приезжает на гастроли Сальвини. Иванов просит антрепренера освободить его от участия в спектаклях на время гастролей гениального трагика. Антрепренер не соглашается. Иванов платит неустойку, оставляет службу, каждодневно смотрит Сальвини, а затем, отказавшись от ангажементов, целый год усиленно занимается разучиванием классических ролей.
Друзья ему помогают.
И вот, в Одессе объявляются первые гастрольные спектакли молодого артиста, теперь уже – Иванова-Козельского. Шейлок, Франц, Корадо, Гамлет, Фердинанд, Арбенин. Успех небывалый. Не было городка, куда бы не позвали Иванова-Козельского. Везде овации, везде полные сборы. То же в Петербурге, в Москве.
Так проходит несколько лет. За это время прибавилось несколько хорошо сделанных ролей. Потрясающее впечатление производит исполнение роли в мелодраме «От судьбы не уйдешь». Роль несчастного, выпущенного из одиночного заключения, где он, не разговаривая ни с кем, просидел 15 лет. Роль разработана великолепно. Актерское мастерство – изумительное.
В 1883 году я встретился с ним в Казани. Здесь гастроли проходили с обычным успехом. Потом, летом 1888 года – в Симферополе. Носится слух, что семейная драма очень повлияла на психику Козельского и что на сцене он уж «не тот».
В 1893 году я снова встретился с ним, и… где, куда исчезло прекрасное дарование? Нельзя даже вообразить, что перед тобой – Иванов-Козельский. Что прежде удивляло, потрясало, трогало до слез – ныне бледно, скучно, неузнаваемо.
Вскоре его поместили в дом умалишенных, где он несколько лет спустя умер, никого не узнавая и никогда не вспоминая о театре.
(Н. Н. Синельников.Шестьдесят лет на сцене. Харьков, 1935, стр. 163–166.)
2
Козельский был небольшого роста с некрасивым и мало выразительным лицом. Вся сила его очарования была в голосе. Слезы, звучавшие в голосе Козельского, были так правдивы и так трогали самую разнородную публику, что целое поколение актеров подражало ему в очень многих деталях.
Козельский был замечательный Белугин. В четвертом акте (сцена с Еленой) он, сидя, а не стоя, как все Белугины, съежившись комочком, произносил так просто одну только фразу, проглотив подступавшие к горлу слезы:
– А зачем вы меня к этому делу припутали и над сердцем моим надругались?..
Эта фраза заставляла плакать не только публику, но и актрису, игравшую с ним Елену. Такой он был простой и жалкий.
Блестяще играл он роль бедного чиновника в пьесе «Горе-злосчастье». В ролях же светских Козельский был плох. Прескверно носил фрак. В «Блуждающих огнях» два первых акта были неудачны: не было соответствующих манер и нужной элегантности. Но с третьего акта, когда Холмин уже разбит жизнью, превратился в неудачника, опустившегося и изверившегося в себе человека, Козельский был глубоко трогателен.
Актеры не любили играть с Козельским: он был очень требователен и строг. Иногда даже груб. Но – только с теми, кто не любил искусства, был равнодушен к театру, не учил ролей, не трудился запомнить его мизансцены. О, к таким он был беспощаден! […]
Судьба Иванова-Козельского очень характерна для русской дореволюционной провинции.
Козельский не получил образования и, взявшись впервые за «Гамлета», был подавлен грандиозностью вставшей перед ним задачи. Но своей мечты – играть принца датского – не бросил, а с головой ушел в книги, в изучение Шекспира.
И нашлись люди, – конечно, все то же студенчество, – которые работали вместе с молодым актером, помогали ему спускаться в бездонные глубины шекспировского творчества.
Когда роль была сделана, Козельский выступил перед харьковской публикой.
Его первое выступление я не могла, конечно, видеть: это было в 1874 году. Но, судя по отзывам, Козельский в этот период своей деятельности не был еще вполне сложившимся и готовым артистом. Это была молодая, еще не вылившаяся в определенную форму, сила, талант еще не отделанный, не отшлифованный.
И сам Козельский, как рассказывали мне потом актеры, не был доволен своей работой:
– Я роль провалил. Так Гамлета играть нельзя, и пока я его не переучу, не исправлю, – перед публикой в «Гамлете» не выступлю.
Вторично я встретила Козельского в Харькове в самый расцвет его славы. Он играл Гамлета, «своего» Гамлета, с текстом роли, сведенным по целому ряду различных переводов. Он обычно давал суфлеру свой экземпляр пьесы с «рецептами», т. е. с целым рядом приклеенных записочек, содержащих сведенные варианты текста.
Если сравнивать двух исполнителей Гамлета – Дальского и Козельского, то у Мамонта Викторовича внешний рисунок был сделан гораздо интереснее. Но благодаря изумительному голосу Иванова-Козельского публика забывала его неэффектную внешность. В самом тоне его Гамлета была изумительная простота. Никакой декламационной фальши – стихи читал он, как прозу.
Козельский был оригинальный Гамлет. Гамлет – философ. Никакой неврастении, как у других Гамлетов, у него не было.
Я слышала на репетициях, как он объяснял каждую сцену товарищам. Его объяснения не были узкопрофессиональными, актерскими, – нет, он объяснял всей труппе, почему он именно так ставит сцену, а не иначе. Это было точнейшее обоснование каждого слова, каждой фразы, каждой мизансцены.
И вот перед зрителем предстал Гамлет, сомневающийся, разочарованный, порою пылкий даже, но чаще подавленный свалившимся на него несчастьем.
Особенное впечатление производила сцена встречи с тенью отца в первом акте. Здесь в голосе Козельского было так много любви. Лицо его было лицом человека, близкого к умопомешательству. Да, он способен был сойти с ума от тоски по дорогому, так бесчеловечно убитому отцу. И его фраза: «Вот он уходит… ушел…» звучала таким горем, таким отчаянием, как будто вместе с этим дорогим образом исчезло все для бедного Гамлета.
Детали игры Козельского, построенные, в сущности, на глубоких переживаниях, копировали очень многие актеры. Но то, что было хорошо у него, чрезвычайно плохо выходило у копировщиков.
Хорошо Козельский играл также Шейлока. Замечательно проводил он вводную сцену, когда Шейлок находит дом свой пустым. Чудесная деталь! Шейлок возвращается домой. На лице его глубокое спокойствие. Он входит в дом – там ждет его любимая дочь Джессика. Входит, зовет – ответа нет. В его голосе появляется тревога. Она растет. Вбегает в дом, во второй этаж – и убеждается, что Джессики нет. Христиане украли и дочь, и сокровища, и честь его. Раздается отчаянный стон, переходящий в крик подстреленного на-смерть животного. И он выбегает на сцену с рыданием…
(М. И. Велизарий.Путь провинциальной актрисы. Стр. 32, 34–37.)
3
…Некрасивый, он [Иванов-Козельский] под гримом превращался в красавца и чаровал своим бархатистым голосом. Он много трудился, внимательно присматривался к хорошим образцам, изучал Шекспира, но работать все же не умел. У него был симпатичный, теплый русский талант, и ему надлежало, главным образом, работать в русской драме, а он считал себя актером на классический репертуар, на шекспировские роли. В провинции он упорно насаждал Шекспира и первый заговорил в его пьесах языком глубоко чувствующего сердца. Это была его большая заслуга. Критика его вышучивала, но незаслуженно. Окружающие всю жизнь упрекали его «холопским» происхождением, забывая, что весь русский театр по происхождению «холопский». Я застал целые поколения и семьи актеров, вышедших из крепостных. Милославский, настоящая фамилия его была барон Фридебург, иначе Козельского не называл, как «военным писарем», которым он, действительно, был до театра. Все это отражалось на нервном и впечатлительном Козельском, который в конце концов ударился в разгул и в полном одиночестве и нищете кончил жизнь в сумасшедшем доме.
Такова была доля талантливого русского провинциального актера!
При хороших условиях из него мог бы выработаться очень крупный актер, но тут мешало ему самомнение, которое у многих из нашего брата бывает выше таланта, и постоянно воскуряемый перед ним фимиам лести, комплиментов, незаслуженных, преувеличенных похвал.
В вопросах искусства он считал себя авторитетом и боже упаси, если кто осмеливался делать ему замечание. Я однажды по-товарищески советовал ему оставить певучий тон.
– Вы хотите, чтобы я говорил на сцене языком псковских или олонецких мужиков? – ответил он мне.
– Вовсе я этого не хочу. Но считаю, что русский актер должен хорошо владеть мелодией русской речи и не вносить в нее чуждые ей элементы итальянского или французского говора…
– Я полагаю, что у театра есть свой язык, – язык поэзии!
– Совершенно правильно! – сказал я. – Язык театра имеет свои законы, но основан-то он должен быть на верной русской интонации!
– Бросьте этот разговор! – вдруг неожиданно оборвал Козельский. – Я не ребенок, и меня учить не надо! Я сам знаю, что делаю! […]
Когда приехал Сальвини, Козельский просил Шишкина в дни выступлений итальянца не занимать его и дать ему возможность проследить игру Сальвини. Шишкин пообещал, но потом, увидев, что отсутствие на сцене Козельского отражается на сборах, стал назначать спектакли с Козельским. Тогда Козельский добровольно уплатил Шишкину тысячу рублей неустойки и продолжал посещать спектакли Сальвини. Шишкин, однако, считал себя не удовлетворенным и опять поставил имя артиста на афишу. Козельский все же не играл. Шишкин оштрафовал его на крупную сумму. Козельский же категорически отказался платить, мотивируя, что искусство для него дороже и что он уже добровольно уплатил тысячу рублей и, таким образом, не обязан более участвовать в спектаклях. Однако мировой судья, до которого дошло это дело, объяснениями Козельского не удовлетворился и постановил взыскать с него в пользу Шишкина наложенный штраф. После этого Шишкин назначил бенефис Козельского, день которого Козельским же был определен заранее, но Козельский сорвал и бенефис. Разъяренный Шишкин предъявил к нему полный иск, чуть ли не в две тысячи рублей. У мирового Козельский держал себя крайне вызывающе, и дело кончилось не в пользу артиста.
(В. Н. Давыдов.Рассказ о прошлом. Стр. 343–346.)
4
Умер Митрофан Трофимович Иванов-Козельский… Кто в России не знал эту в высшей степени оригинальную сценическую силу? Кто не помнит этот странный, лихорадочно-возбужденный, чрезвычайно однообразный, но почему-то пленительный в самом однообразии голос? – голос, которым, как небесным огнем пушкинского «Пророка», Козельский жег и пепелил сердца людей, стекавшихся толпами на представления этого актера.
Могущество дарования Козельского было настолько значительно, что люди изношенные, болезненно-самолюбивые и пресыщенные всем, – и те против желания подчинялись обаянию его игры. Может быть, потом, по выходе из театра, они стыдились своего увлечения и с досады вышучивали Козельского, злорадно преувеличивали его недостатки, представляли себе Козельского грубым, полуграмотным «кантонистом», случайно попавшим в «фавор», но несомненно, что Козельский-актер в минуту своего актерства покорял их, и они не могли не подчиняться стихийному чувству восторга.
Козельский обладал необыкновенной способностью с первой же минуты появления на сцене схватывать, так сказать, за шиворот зрителя и приковывать к себе его внимание до последних слов своей роли.
Говорят, между прочим, что у Козельского не было ничего своего, что он слепо подражал великому старику Сальвини. Возможно ли это? Сальвини прежде всего и нельзя подражать – это стихия, самим богом предназначенная быть (кажется, без всякого усилия) гениальным актером: громадный рост, громовой голос, с тысячью разнообразнейших нежнейших тонов, а Козельский среднего роста, с небольшими, хотя и своеобразно прекрасными голосовыми средствами; притом Козельский был самолюбив, горд и умен и не мог не сознавать, что всякое подражание отвратительно и жалко. Сальвини просто служил Козельскому материалом для размышления, – той высшей ступенью сценического творчества, к достижению которой Козельский мучительно-пытливо стремился всю жизнь. Кажется, нельзя указать ни одного сочинения вообще по драматической литературе, с которым не был бы знаком, и знаком основательно, Козельский.
Я имел счастье лично знать этого человека и невольно испытывал какой-то сладостный трепет благоговения перед ним. Несмотря на всю его внешнюю суровость, болезненную надменность, молчаливость или несвязную урывчатую речь, в нем кипела пламенным ключом нежнейшая, полная самых тончайших, глубоких чувств и мыслей душа. Нужно только было понять эту душу, суметь подойти к ней мягко и осторожно, а главное – сердечно, не с обычным, пошлым завистливым любопытством, с каким относятся ко всякому таланту, и тогда лишь становилось ясным, сколько художественного чутья и благородного, оригинального ума таилось в этом гордом, с виду столь нелюдимом человеке.
У меня есть письмо Козельского, где он в двух-трех строках весьма красноречиво описывает мне, с каким невероятным трудом досталось ему право быть актером…
«Нужно было служить в военной службе, а тут между тем так властно толкало на сцену, что от невозможности скорее осуществить это – даже травиться приходилось, но забвение, забвение холодным, прежним дням, и мы все-таки понемножку живем на белом свете», – характерно добродушно заключает свое письмо Козельский.
В самом деле, нужно обладать очень большими духовными силами, чтобы, выйдя из бедной крестьянской семьи и прошедши довольно суровую школу прежней военной службы, Козельский мог дойти до степени первоклассного артиста, нередко зарабатывавшего на своих гастролях, в два-три месяца, десять-пятнадцать тысяч.
Военная служба, кстати сказать, очень повлияла на характер Козельского. Во-первых, по причине своей беспредельной страсти к сцене Козельский был очень плохим солдатом, к тому же и бешеный темперамент крайне самолюбивого, чуткого, тогда еще совсем юноши-Козельского причинял ему много горя, и кто знает, если бы не трогательное чисто товарищеское участие к нему очень влиятельного, известного вельможи (имени которого я не смею назвать), – мы бы лишены были возможности увидеть на сцене это украшение нашего театра. С другой стороны, должно заметить, что необходимый режим военной службы принес Козельскому и немалую пользу: он приучил его к неустанному упорному труду, воспитал в нем железную несокрушимость в борьбе за существование, в борьбе с самим собой и с чудовищными для «непосвященного», трудно допустимыми интригами «кулис».
Особенно чудовищны были эти интриги по отношению к Козельскому. Что представлял собою Козельский в начале своей сценической карьеры? Скромный, застенчивый, бедно одетый, недавний военный писарь с толстыми, красными рабочими руками, – он совершенно терялся среди тогдашних его сотоварищей по сцене, особенно среди большинства фатоватых, крайне самоуверенных, ловко маскирующих свое умственное и всяческое ничтожество «первых сюжетов».
Нередко Митрофану Трофимовичу в то время приходилось слышать: «Ха, ха, вы, господа, не знаете, Митрошка-то – Козельский – наш выходной актерик… как бы думали – мечтает, ни больше, ни меньше, как играть Шекспира… Ха, ха. А лошадь пишет через ять». Само собою разумеется, если бы в Козельском инстинктивно не прозревали чего-то особенного, то, конечно, незачем бы разражаться подобными тирадами.
Актеры, служившие с Козельским, не могли не заметить его глубокого, проникновенного голоса, способного придавать внутреннее значение, повидимому, самой обыкновенной фразе, не могли не заметить его в общем некрасивого, но необыкновенно одухотворенного лица, с тонкими, горько насмешливыми губами и с прекрасным несколько скорбным взором. Этот взор словно носил в себе какую-то роковую тайну, минутами озаряемую каким-то особенным, ласкающим светом. Словно он порывался поведать символически миру что-то неуловимое, но беспредельно родное, такое понятное в раннем детстве и навеки утраченное в зрелые годы…








