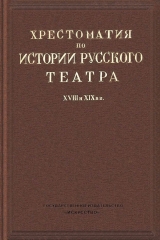
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
«Вот и Коренная!» – закричал я, подъехавши к шатрам и к лубочному театру. Народу пропасть и лавок разнообразных множество.
Я с утра взял билеты в креслы по 2 руб. 50 коп.; каждой ложе цена 20 рублей. Плата большая, зато и ярмарка один раз в год. Сюда приезжает труппа курских актеров. Они играли «Влюбленного Шекспира» и оперу «Князь трубочист». Что сказать об опере? Ни на что не похоже! Однако, съезд огромный. Публика жадничает веселиться, бросается даром и за деньги всюду, где может ожидать забавы. Здесь до того было тесно, что многие возвращались домой. Человек до 500 зала поместить может. Все преимущества театра, т. е. декорация, одежда, музыка, соблюдены с достаточною правильностию, но талантов ниже посредственных нет. Одна из актрис очень силится перенять известную Сандунову, но весьма неудачно; однако, и та нравится. Я признаюсь, что я не энтузиаст ее методы, мне жеманство на театре никогда не нравится, потому что его нет в натуре. Актер должен глядеть в природу, как в зеркало, и брать одни ее краски. Буфф в опере изрядной, то-есть дурачится изо всей мочи, – это и надобно! Публика здесь, как и везде, любит скоморошество; мало ей посмеяться, все бы хохотать! Чувствительные места не имеют цены, острые шутки теряются на языке актера. Они не внятны; правда, что и выражать их некому: актеры мелют как-нибудь, лишь бы заиграть свои деньги, а зрители глядят по верхам, толкуют о товарах, модах, рысаках, историях и оборачиваются к театру лицом, тогда как трубочист весь в саже лезет из камина и утирается княжескими кружевами; тогда шум, крик, затопают ноги, застучат все трости, и ничего уж не слыхать. Какая сильная причина для восторгов! Обиняки соблазнительные также не пропадают. Оперу поют дурно; голосов нежных нет; словом, спектакль ярмарочный! Но можно ли ручаться, чтоб его так стремились увидеть, если бы он был лучше? Не знаю. Одно еще, и очень действующее на обоняние, неудобство то, что весь театр освещен салом, и чад от свеч и плошек преужасный: нос чувствительную терпит муку. Театр поставлен между рядов на покатости горы: следовательно, приезд тесен; полиции при разъезде карет и дрожек мало; площадь почти не освещена.
(И. М. Долгорукий.Славны бубны за горами. М., 1870. Стр. 27, 31–32.)
Около 1787 года в Иркутске Председателем 2-го департамента Верхнего Надворного Суда был коллежский советник, Василий Алексеевич Троепольский. Супруга этого чиновника была страстная любительница театра. Припомните, что насупротив нынешней гимназии некогда стоял огромный деревянный дом. В этом доме в конце прошедшего столетия был устроен благородный театр. Здесь по временам давались спектакли, коих режиссером и первою актрисою была г-жа Троепольская. Какие давались пьесы, утвердительно сказать не могу, кажется, трагедии Сумарокова.
В 1803 году был учрежден уже постоянный театр для всей публики купеческим сыном Е. П. Солдатовым. Театр помешался в длинном одноэтажном доме, на Заморской улице, против Мещанских рядов, где теперь военная канцелярия. Сцена возвышалась от пола на аршин. Зрители сидели на скамьях, одна выше другой, а музыканты помещались за кулисами. Актеры были все из поселенцев, вероятно, знавших театр в России. Спектакль открыт был оперою Княжнина «Сбитенщик», и роль Степана играл некто Журавлев. Женские роли играли молодые поселенцы. За «Сбитенщиком» следовал «Мельник». Его играл некто Амвросов, отличавшийся резким басом и способностью корчить карикатуры. Роль мельника была достоянием этого артиста; кроме него никто не смел взяться за нее, даже впоследствии. После «Мельника» поставлен был «Кузнец, или новое семейство». Круг актеров увеличился. Несколько молодых канцелярских служителей заняли роли любовников. Театр существовал временно, на святках и на святой неделе.
В 1805 году заведен был театр уже со всеми принадлежностями. Дом на Луговой улице, принадлежавший чиновнику Сычевскому, был переделан. Устроены ложи в два этажа, партер, раек, а перед сценою оркестр. Содержателем театра был гарнизонный офицер В. 3. Яковлев, но распорядителем и душою – А. П. Шубин, служивший некогда в гвардии. К прежним актерам прибавилось несколько молодых унтер-офицеров и певчих. Три актрисы дополнили важный недостаток в женских ролях: мать и дочь Гржимайловы и какая-то якутская уроженка, Марья Назарьевна, поступили в театр. Оркестр состоял из полковых музыкантов и оживлялся двумя поселенцами, игравшими на скрипках. Представления давались два раза в неделю (по воскресеньям и четвергам). Театр зимою был всегда полон и даже не вмещал в себе всех желающих, а потому пристроен был амфитеатр над стульями. За кресла платили 2 р. 50 к., за стул 1 р., за ложу 5 р., амфитеатр 50 к., раек 25 к. Театр открыт был «Мельником», за которым следовал «Сбитенщик», а потом «Кузнец». Из комедий играли: «Так и должно», «Мнимый мудрец», «Слепец», «Отгадай, – не скажу» и несколько пьес из Театра Коцебу.
В 1805 году прибыло в Иркутск великолепное посольство графа Ю. А. Головкина, и это время было блестящим периодом Иркутского театра. От нечего делать члены посольства посещали театр и, вероятно, смеялись над актерами и оркестром. Поставлена была на сцене волшебная опера «Красавица и приведение» (сюжет из арабских сказок). Для помещения машин сделали над сценою надстройку, а на полу несколько люков. Всего интереснее было облако, на котором спускался дух. Оно составлено было из холстинных пузырей, набитых стружками и нанизанных на веревку. В первое представление облако оборвалось, – дух упал, стружки посыпались на сцену, и дух, хотя существо и бестелесное, стукнулся об пол во всеуслышание и переломил себе крыло. По окончании явления ему следовало лететь. Здесь опять обнаружилось, что дух имел слабости человеческие. Он забыл, что облако уже не действует: «Прощайте, я лечу», – пропел он в заключение своего речитатива, и глядел наверх; но оттуда упали, вместо облака, рукавицы. Дух смутился и, прихрамывая от падения, удалился за кулисы.
Дерзость театра возросла до последней степени. Решились поставить, в первый раз от основания Иркутска, большую оперу «Калиф на час». Неизвестно, откуда актеры достали партитуру оперы. Более полугода разучивали ее певцы и певицы и не могли придумать, что им делать тогда, когда в арии играет одна музыка. Наконец опера была разыграна. Мы смотрели на нее с ненасытным вниманием и любопытством, все было ново и необыкновенно, а при всем том скучновато, вероятно потому, что играно вяло.
И в этой опере было не без сюрпризов: то упадет на сцену кулиса, то сверху свалится шапка или топор, то пройдет по сцене сторож с метлою. Такие внезапности производили эффект и смешили публику.
Из водевилей играли: «Два охотника», «Анюта», «Добрые солдаты», «Бочар», «Молодые поскорее старых смогут обмануть», «Пивовар» и пр. Музыку для них сочинял полковой капельмейстер, унтер-офицер Киселев, известный в городе под именем Пантелеича. Некоторые нумера удавались и не забыты в Иркутске даже и доныне.
Главнейшие актеры были:
Перликов, поселенец, играл роли резонеров, царей и вельмож;
Рожкин и Суворов, унтер-офицеры, – любовников;
Колотыгин и Гладкий, солдаты, – буффы;
Гржимайловы – отец, жена, сын и дочь;
Лентенау – дочь умершего чиновника и
Марья Назарьевна.
По временам являлись на сцене актеры из канцелярских служителей и мелких чиновников.
В то же время казачий урядник Клепиков и мещанин Кондратов открыли другой театр. Он помещался в нижнем этаже дома купца Забеленского, что на рынке. Театр назначен был, собственно, для посетителей базара. Зрители помещались на скамейках, одна выше другой. Спектакль начинался вертепом, а затем следовала какая-нибудь пьеса, разумеется, «Мельник», «Сбитенщик», «Влюбленный слепец», «Кузнец» и «Анюта». Актерами были канцелярские служители и казаки. Женские роли играли мальчики из казачьих певчих. Здесь отличался казак Гурий Ядрихинский в роли Влюбленного слепца и какой-то старичок из мещан в ролях старухи. Цена местам была неопределенная – с кого что можно взять. Обыкновенно посетители торговались с хозяином при входе. Театр существовал только одни святки.
Большой театр на Луговой улице процветал до 1809 года. Какой-то вновь приехавший военный начальник нашел, что звание актера не совместно с порядком военной службы, и потому запретил унтер-офицерам играть на театре, – и театр закрылся.
С того времени не было в Иркутске постоянного театра, но по временам давались частные представления, как то, например, в 1815 году, в гимназии, и в 1816 году – чиновниками в биржевой зале. Там же давались по временам спектакли казачьими певчими. В 1836 году несколько приезжих чиновников из малороссиян давали в зале Партновского сада «Наталку-Полтавку» и еще какую-то пьесу. В 1840 году ученики гимназии давали несколько пьес в Преображенском училище.
Антрепренеры(«Северная Пчела», 1843 г, № 144, стр. 575, 576.)
1
Хозяевами театров являлись в то время антрепренеры, которые арендовали обычно у города театр и распоряжались в нем по своему усмотрению. Поэтому от того, кто был антрепренером, с какой целью он занимался антрепризой – видел ли он в ней средство набить свой карман или стремился действительно создать хороший театр, только в силу необходимости занимаясь вопросами денежного и хозяйственного характера, зависела судьба театра, его значение, как художественного и культурного явления.
Для того, чтобы закончить мой рассказ о том, каким я застал театр, начиная свою театральную карьеру, для того, чтобы дать впечатление о той обстановке, в которой приходилось работать, расскажу о тех антрепренерах, с которыми мне приходилось работать или встречаться.
Антрепренеры П. М. Медведев (Казань), Н. Н. Дюков (Харьков) и Н. К. Милославский (Одесса) – были, так сказать, китами театральных предприятий того времени. Актеры считали полным своим благополучием попасть в дело одного из них. Они знали, что в этих делах их ждет материальная обеспеченность, работа в окружении талантливых товарищей. Островский, Шиллер, Шекспир, Гоголь, Грибоедов играли первенствующую роль в репертуаре, пошлость изгонялась из стен этих театров. Мелодрама доживала свое существование, хотя актеры и любили ее играть.
Петр Михайлович Медведев был прекрасный актер и режиссер. Целая плеяда актеров принадлежала к медведевской школе. Молодые Савина, Давыдов, Варламов, Стрельский, Максимов прошли через руки Медведева. Медведев был очень любим актерами. Был такой случай: опера, которой одно время увлекался Медведев, подорвала его средства. Нехватало денег на расплату и на покрытие текущих нужных расходов. Актеры драмы заложили имевшиеся у них вещи и тем поддержали любимого П. М. Медведева. Медведев все время был около актера. Он играл и режиссировал. Он сживался с товарищем.
Дюков стремился собрать хорошую труппу, обеспечить ее материально, строго соблюдая бюджет, из которого не выходил. Отношения между ним и труппой были корректно-официальные. Со стороны актеров – большое уважение и… холодок.
Одесский театр, как я уже говорил, держал Н. К. Милославский (барон Фридебург) – большой барин, умница, делец, прекрасный актер, строгий, требовательный режиссер. Хорошо ставил, не жалея средств, не выгадывая копейки – «Лира», «Гамлета», «Шейлока». Актеры, работавшие с ним, росли, приобретали много ценного, пользуясь его советами, указаниями. Н. К. Милославский был крупным явлением в театре того времени, много для него сделал и пользовался среди актеров большой популярностью.
Сейчас нам трудно даже себе представить, как важно было в то время молодому (да и всякому) актеру попасть в такое дело, где вопрос денежных расчетов не имел решающего значения. Но хороших, культурных антрепренеров было мало, и подавляющее большинство из нас было вынуждено итти в кабалу к случайным людям, которые видели в театре только средство легкой наживы, не требующей особых знаний и умения вести дело, или к дельцам, поставившим его прочно, но с оглядкой только на кассу и выжимание лишней копейки из бесправного актера.
У актера – ловкого дельца – завелась тысчонка-другая. Пробует счастье, «снимает город». «Снял» Орел, Курск, – идет слух о «делах» Надлера, Пыхтеева, Биязи. Они собирают это «дельце» на московской актерской бирже – торгуются, сбивают цифры, обещают золотые горы, дают грошовый аванс. Плохо начатое дело кончается обыкновенно среди сезона. Нужда заставляет актеров продолжать «дело» на марках. Как-нибудь просуществуют до поста, а там опять московская биржа, опять скудные получки, опять марки, и так до бесконечности. Счастлив тот из несчастливцев, кто попадает в Елец к Жамсону. У того жалованье поменьше, но зато верное получение его. В Ельце жизнь дешева, – и едут туда неудачники изображать «Жидовку или Казнь огнем», «Похождения купца Иголкина» и прочий «высококультурный» репертуар. Берут бенефисики, смотришь, – и подарочек в бенефис получат, приедут на биржу и прославляют Жамсона и Елец.
Жамсон был исключением среди антрепренеров, которые, обыкновенно, арендовав театр в небольшом городе, привозили туда дешевую труппу, проводили ужасающий репертуар, должали, прижимали актера и, в конечном итоге, удирали, оставляя на произвол судьбы и театр, и труппу. Жамсон знал городок, в котором, как он говорил, «насаждал искусство». Был всегда в границах бюджета, дружил с актером, аккуратно расплачивался и на бирже появлялся с высоко поднятой головой.
Я работал в нескольких антрепризах. Первый антрепренер был Н. Н. Дюков, о котором я уже говорил, второй – Н. А. Биязи в Житомире. Актер, у которого завелась тысчонка. Предыдущий сезон он играл с успехом в этом же городе. «Снял» театр, написал приглашения. Съехались недурные актеры, порядочные люди.
Житомирская публика состояла из поляков (которые не ходили в театр, потому что он русский), из еврейской бедноты, русских служащих и военных. Театр посещался плохо. Среди сезона обычный крах, марки, и только неожиданно, благодаря случаю, сезон окончился благополучно. Об этом сезоне я буду говорить еще в дальнейшем.
Антрепренер Савин, с которым мне тоже пришлось работать, – бывший морской офицер, ушедший из службы со скандалом. Все дурное, все отрицательное, что могли породить условия работы в провинциальном театре того времени, сосредоточилось в этом человеке. Он принадлежал к разряду тех «милостивых государей», которым некуда было деваться, некуда было пристроиться, и они шли… в театр. Показная наружность, самообладание, лоск, нахальство давали им возможность втереться в труппу, где они интриговали, всякими путями занимали первое положение, «снимали» в качестве антрепренеров театры, собирали дешевенькую труппу и вступали «во владение», бесконтрольно творя суд и расправу. Сорвать сбор – первое и последнее желание, – сорвать во что бы то ни стало, хамское отношение к искусству, к работникам театра характеризовало его и ему подобных дельцов, которых, к сожалению, было немало. К нему я вернусь по ходу моего рассказа.
Артист императорского Александринского театра в отставке, антрепренер Николаевского театра Михаил Андреевич Максимов. Скуп до мелочей. Выторговывал у актера пять рублей. Из-за мелочи торгуется часами и, конечно, берет актера за 90 рублей вместо просимых ста. Как, бывало, ни доказывал ему актер, что пять рублей в его бюджете играют большую роль, для антрепренера же они ничего не составляют, – Максимов цинично отговаривался словами Дикого: «Ты получишь меньше пятеркой, другой, третий – ан четвертый уж и оплачен».
О спектаклях не заботился, лишь бы шел, а как, – к этому он был совершенно равнодушен.
Выручал его в мое время – 1877—78 года – труженик-режиссер Г. С. Вальяно, работавший дни и ночи. Любя театр, Вальяно делал все, чтобы спектакль шел хорошо. Мы удивлялись его неутомимости. Образованный, хорошо владеющий иностранными языками, проведший начало своей жизни в довольстве, в богатстве, бывший гусар, он неожиданно потерял свое состояние. Подвернулось предложение перевести на русский язык какую-то оперетту. Перевод удался, был оплачен. Оперетта в то время была в моде, появились новые заказы на переводы. Вальяно сближается с театром, арендует частное театральное здание, собирает труппу и делается пионером оперетты в русской провинции (Ростов-на-Дону). Молодой Пальм (Сергей), Кольцова, Зубович и сам антрепренер составляют ядро опереточной труппы. Антреприза существовала много лет, но в конце концов распалась, и Вальяно – сначала режиссер и актер в провинции – в конце 70-х годов появляется в Москве в труппе Лентовского в саду «Эрмитаж».
Вот этот Вальяно своими трудами давал благополучие ничего не делавшему Максимову, хотя нельзя сказать, чтобы Максимов совершенно ничего не делал. Нет! Во время хода действия, когда актеры были на сцене, наш артист императорского театра заходил в актерские уборные и из экономии тушил свечи: у каждого зеркала полагалось две свечи. По окончании спектакля свечи тщательно собирались, и Максимов очень радовался оставшимся большим огаркам; на завтра у зеркала появлялись не цельные свечи, а вчерашние огарки.
(Н. Н. Синельников.Шестьдесят лет на сцене. Харьков, 1935. Стр. 115–119.)
2
Труппа Рассказова была первая благоустроенная труппа, какую я наконец увидела после почти трехлетнего своего скитания по провинции. Умно, с расчетом составленная, она не заключала в себе ничего лишнего и не страдала недочетом в необходимом, отличаясь, таким образом, от большинства провинциальных трупп, где антрепренеры, вроде Смирновых, Ивановых, Ярославцевых и других, заботившиеся набирать артистов «числом поболее, ценою подешевле», считали лишней заботу о том, какие именно «артисты» им нужны и для чего. Вопросы искусства, хотя бы в самом грубом, эмпирическом виде, не входили в область мировоззрений гг. Ивановых и Смирновых. Театр, как учреждение самостоятельное, совсем не интересовал их. Его воспитательное и нравственное значение, его общественная роль были чужды пониманию этих господ. Поэтому он занимал у них всегда как бы второй план, всегда состоял не сам по себе, а непременно при чем-нибудь: при саде, при буфете, даже при вешалке или иных доходных статьях. Я не говорю уж о других еще более мелких антрепренерах, под чью гостеприимную сень стекались преимущественно артисты «праздности и лени», тунеядцы, не находившие себе нигде дела, бездарные и глубоко невежественные субъекты, часто вконец утратившие человеческий образ. Такие труппы кишмя кишели шулерами, камелиями средней руки, пропойцами и теми отбросами вырождения, которых когда-нибудь поколения более гуманные, чем наше, будут лечить в общественных больницах и которых мы, гордые сознанием нашего превосходства, шлем в сибирские тундры и рудники или гноим в казематах наших городских острогов.
В описываемое время на громадном пространстве русской земли хороших провинциальных театров насчитывалось всего восемь: киевский, харьковский, одесский, казанский, тифлисский, воронежский, ростовский (на-Дону) и саратовский. Рассказов прибавлял девятый – в Самаре.
(П. А. Стрепетова.Воспоминания и письма. «Academia», М.—Л., 1934. Стр. 324–326.)
(Ум. 1930)
1
Бородай начал свою театральную деятельность еще мальчиком в Харькове у Дюковой. Человек без образования, с большим природным умом, с огромной любовью к театру, он в девяностых годах прошлого столетия стоял во главе крупнейшего театрального предприятия – товарищества драматических и оперных артистов – сначала в Харькове, а потом в Саратове и Казани, где оперная и драматическая труппы, обмениваясь городами, играли полусезонно.
Самобытный и интересный человек был Бородай. Вне театра для него не было жизни. Застать его в театре можно было с раннего утра и до глубокой ночи. Он считался распорядителем товарищества, но по существу был полновластным директором и хозяином дела. Актеры были слишком заняты, да и не любили хозяйственную и административную работу в театре: они предоставляли Бородаю вести дело как он хочет, лишь бы можно было играть да получать свои марки. И Бородай вел дело. Вопросом чести было для него собрать лучших актеров, создать интересный репертуар, провести сезон блестяще в художественном отношении и поднести актерам к концу сезона не нормальный рубль на марку, а рубль тридцать копеек, рубль пятьдесят, а иногда и два рубля.
Он один ведал всем хозяйством театра и с помощью кассирши вел счетную часть, имел дело с городскими властями и с полицией; он читал все пьесы, сам составлял репертуар, сам раздавал роли; с декоратором обсуждал и выбирал декорации, смотрел все спектакли. Он прекрасно знал всех актеров и умел с ними ладить; знал свойства таланта каждого и, обладая громадным художественным вкусом, умел каждому дать интересную работу и использовать каждого актера в интересах дела.
Бывало, придешь утром на репетицию и, проходя мимо кассы, видишь там Михаила Матвеича, щелкающего на счетах. Через минуту он уже говорит по телефону с канцелярией полицеймейстера, который не хочет подписать афишу. Перед телефоном он мимирует: то любезно улыбается, то досадливо хмурится; на лице то почтительный испуг, то хитрая, лукавая усмешка; он раскланивается и кладет трубку…
Во время репетиции видишь, как Михаил Матвеич, пробегая наверх в декорационную, постоит за кулисами и прислушается к тому, что делается на сцене. Мимоходом сунет в руку актера пьесу:
– Прочтите. Скажите ваше мнение…
Во время спектакля видишь его то в зале, то за кулисами. После спектакля всегда можно застать Михаила Матвеича наверху в его каморке – библиотеке и конторе одновременно. Он читает пьесы до поздней ночи, уходя из театра последним, а иногда и оставаясь до утра на диване в той же конторе. Он перечитывал все, что шло во всех театрах обеих столиц, и выбирал то, что было пригодно для нас.
В нашем репертуаре были почти все пьесы Островского, конечно, Гоголь и Грибоедов, много пьес Ибсена («Гедда Габлер», «Столпы общества», «Праздник в Сольнауге», «Нора», «Северные богатыри» и др.), Шекспир, Шиллер и Толстой. Это – основа. Пьесы эти шли из года в год, и к ним прибавлялись все интересные новинки. Чехова тогда лишь начинали ставить, но «Иванов» и «Дядя Ваня», а затем и «Чайка» уже прочно вошли в наш репертуар. Западные новинки – Гауптман, Зудерман, Ростан. Веселые комедии Скриба и Сарду. Все это шло у нас. И шло с неизменным успехом.
К актерам у Бородая была и любовь и ненависть. Он преклонялся перед талантом и ненавидел бездарность. Были актеры, которых он не любил и боялся. Но если актер был талантлив, ему все прощалось: и капризы, и чрезмерная требовательность, и «странности, присущие артисту»… Труппу Бородай набирал большую. По качественному и количественному составу это была в то время самая сильная труппа в провинции. С ней соперничала лишь киевская труппа Соловцова.
(О. А. Голубева.Воспоминания. Сборник «Русский провинциальный театр». Изд. «Искусство», Л.—М., 1937. Стр. 100–102.)
2
Наше товарищество возглавлял Михаил Матвеевич Бородай. Он был не только умным, оригинальным человеком, как его представляли себе многие. Он один вел все огромное театральное хозяйство и успевал делать все: штемпелевал билеты, раздавал роли, составлял репертуар, убеждал премьеров сыграть совсем неподходящую для них роль, разговаривая по телефону, обхаживал губернатора с какой-нибудь сомнительной, но весьма доходной пьесой, раздобывал деньги под векселя, шипел на кассиршу-жену, устраивал ей сцены ревности. И все это – в один и тот же час. А в следующий – все повторялось, возможно только – в обратном порядке.
Что касается денег, то Бородай был воплощенной аккуратностью. Обычно до Рождества театр работал «тихо». Члены и служащие товарищества находились под угрозой серьезных денежных затруднений.
Но с Бородаем можно было быть вполне спокойным: все знали, что он обязательно раздобудет деньги и будет аккуратно платить до рождественских праздников: актерам – по полтиннику, а служащим – полностью.
Как и где он раздобывал деньги – Аллах ведает. Да это никого из нас и не интересовало. Повидимому, он начал завязывать нужные знакомства еще давно, когда служил кассиром у Дюкова. Я знаю также, что его всегда охотно выручали из беды даже буфетчик и гардероб.
И актеры терпеливо ждали праздников, которые приносили битковые сборы. Все были вполне уверены, что к концу сезона получат полным рублем.
Приходил пост, – все разъезжались. А Бородай садился за свою конторку при кассе, начинал приводить в порядок имущество, приобретенное товариществом за последний сезон, выяснял действительный доход и высылал деньги разъехавшимся по всей России актерам. Бывало так, что служишь уже в каком-нибудь далеком городе и вдруг – совсем неожиданно – в середине лета получаешь довольно крупную сумму от Бородая, с кратким отчетом на бумажке.
Такого надежного товарищества, как у Бородая, не было нигде. «Структура» его была очень проста. Каждый вступающий вносил в кассу 200–300 рублей наличными или, если не мог, векселями на эту сумму. Большинство, разумеется, приезжало к Бородаю не только без гроша в кармане, но и с непременной приветственной фразой:
– Нельзя ли авансик… рубликов двадцать?
Он к этому был всегда подготовлен и потому еще до «слета» раздобывал небольшую сумму денег на «встречу» товарищей.
Все маленькие актеры, получавшие не свыше 70 рублей, были на жалованьи, точно так же, как два суфлера и помощник.
Все остальные (и он сам) работали на «марках».
Номинальные месячные оклады были не маленькие: во второй сезон я получала триста пятьдесят рублей, а Свободина-Барышева – шестьсот. Обе, конечно, с бенефисами.
Следует сказать, однако, что номинальные оклады у Бородая всегда в конце сезона превращались в фактические.
Назначая такие большие оклады, Бородай верил не только в свои финансовые способности, но и в свое исключительное умение ладить с актерами. На общих собраниях он говорил так умно и убедительно, так зажигал, что даже самые несговорчивые склоняли перед ним непокорную шею. Он всегда умел доказать разумность и необходимость каждого своего предложения.
Правда, он был очень неровен. Но все его симпатии и антипатии имели место только лишь в строго отграниченном от театра кругу личных отношений. В деле он умел быть вполне беспристрастным. Свое самолюбие он преспокойно клал в карман во всех случаях, где само дело настойчиво требовало от него этой жертвы.
(М. И. Велизарий.Путь провинциальной актрисы. «Искусство», Л.—М., 1938. Стр. 126–128.)
3
Практическую сторону дела мы поручили М. М. Бородаю, который в конце жизни Н. Н. Дюкова был его правой рукой. Управляя в течение ряда лет Харьковским театром, он приобрел опыт администратора.
Начали новое дело в 1886 году, летом, в Воронеже. Первый блин был комом. Дождливая погода помешала сборам, и заработок первого же полумесяца оказался плохим. На заседаниях начали искать выхода из создавшегося положения. Я советовал потерпеть, подождать изменения погоды, которая, как мне казалось, была причиной отсутствия сборов. Поставленные нами спектакли произвели на всех хорошее впечатление. Я был уверен, что когда погода изменится, они привлекут публику в большом количестве.
Мне возражали, что на пьесы, сыгранные нами, вряд ли пойдут и в хорошую погоду: они очень серьезны, не по сезону. Надо поставить что-нибудь полегче, с более заманчивыми названиями.
Я возмутился.
– Неужели мы затеяли свое дело для того, чтобы продолжать политику антрепризы? Ведь мы же возмущались антрепренерским ведением дела, а вы с первых же шагов хотите итти старой дорогой.
– Что же делать? Пока будем перевоспитывать публику, – у нас животы подтянет.
Конечно, это мнение поддерживалось не всеми, но за него был красноречивый и умеющий убеждать М. М. Бородай. Он советовал поставить несколько пьес с заманчивыми названиями, но с подозрительным содержанием, попытаться ими поправить материальное положение, заручиться денежными средствами, а затем уже перейти к намеченному серьезному репертуару.
Я и несколько товарищей остались в меньшинстве. Репертуар, рекомендованный Бородаем, был утвержден. Погода изменилась к лучшему. Слух о хорошей труппе распространился по городу. Сборы поднялись, театр почти всегда полон. Настроение за кулисами создалось великолепное.
На очередном заседании я напомнил о решении товарищей перейти к серьезному репертуару, отказавшись от «Маневров», «Маринованных корнишонов», «Наших адвокатов» и т. п., что было допущено лишь как временная мера. Но мне, увы, отвечали, что публика очень довольна, хохочет, знакомые благодарят. Выступил Бородай с предложением: «Надо ловить момент. Раз так успешно пошли дела, – воспользуемся удачей. Есть возможность основать денежный фонд, запастись оборотным капитальцем, который поможет нам безболезненно переживать случайные невзгоды».
И я, и некоторые мои товарищи возмутились против такого предложения. Я даже прочитал страницы из писем Бородая, где он писал, что разделяет мои мысли о раскрепощении театра, о его назначении, приветствует мои начинания.
Бородай возразил мне, что и теперь он придерживается того же мнения, но предлагает компромисс на время, чтобы окрепнуть, заработать деньги, которые позволят нам пойти той дорогой, о какой мечтали.
– Велик ли может быть капитал, чтобы возлагать на него надежды? – спросил кто-то из оппонирующих.
Бородай ответил:
– Для товарищества достаточен, для антрепризы мал.
Опять восторжествовало предложение Бородая.
Зимой продолжаем товарищеское дело в Харькове.
В Харькове того времени первые два месяца сезона театр обыкновенно пустовал, а потом наполнялся с избытком. Бородай посоветовал избежать этого мертвого куска сезона, пригласив гастролеров. Гастролеры привлекали публику, театр наполнялся, но и перспективы получить двойной-тройной заработок не увлекли некоторых моих товарищей настолько, чтобы они могли не замечать и несостоятельности ансамбля, и калейдоскопически меняющегося репертуара. Поэтому, когда Бородай, став на путь заработка во что бы то ни стало, продолжал свою линию и гастроли вошли в систему, я и несколько моих единомышленников – Чужбинов, Неделин, Песоцкий – вышли из товарищества.
Я перешел в Московский частный театр (Е. Н. Горевой, Абрамовой), а Чужбинов, Неделин и Песоцкий пошли работать в Киев, к Соловцову.
С моим уходом Бородай стал во главе художественного и материального ведения дел товарищества. Окружив себя огромной труппой, он во главу угла поставил «сбор во что бы то ни стало», «заработок товарищей выше рубля». Сперва это ему удавалось, но с течением времени заработок – главная притягательная сила дела Бородая – упал, товарищество постепенно распадалось, актеры перекочевывали в крупные, вновь нарождающиеся в то время антрепризы, и товарищество Бородая прекратило свое существование.








