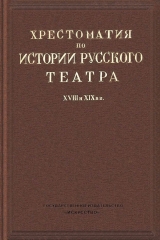
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Н. С. Ашукин, В. Н. Всеволодский-Гернгросс и Ю. В. Соболев
Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков
Под редакцией
Г. И. Гоян
Главным управлением учебных заведений Комитета по делам искусств при СНК СССР рекомендована в качестве учебного пособия для учащихся театральных учебных заведений.
От редактора
«Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков» представляет собой то первичное учебное пособие, к которому, несомненно, прибегнет любой читатель, будь то учащийся театральной школы или же актер, желающий заняться изучением истории своего искусства.
Основное назначение хрестоматии – дать материал, который выходит за рамки общих учебников по истории русского театра. Следовательно, эту книгу надо рассматривать как дополнение к учебнику, поэтому в ней нет обычных комментариев и примечаний.
Хрестоматия с интересом будет прочитана и широкими кругами читателей. Она познакомит их с яркими событиями, с выдающимися деятелями истории русского сценического искусства. Обо всем этом рассказывают современники-очевидцы живым и образным языком.
Книга составлена тремя авторами, распределившими между собой весь материал по двум признакам: хронологическому и тематическому.
Книга открывается изложением материалов, относящихся к русскому столичному театру. Работа по этому разделу выполнена доктором искусствоведческих наук профессором В. Н. Всеволодским-Гернгросс, профессором Ю. В. Соболевым и Н. С. Ашукиным. Первым подобраны материалы до 1825 года, вторым и третьим – с 1825 по 1900 год.
В заключении книги, в виде самостоятельной ее части, приводится материалы, характеризующие русский провинциальный театр. Эта часть хрестоматии составлена профессором В. Н. Всеволодским-Гернгросс. Она представляет особую ценность, хотя бы уже по одному тому, что здесь впервые систематизированы мемуары, большей частью опубликованные после Великой Октябрьской социалистической революции. Провинциальный театр недостаточно освещался во всех до настоящего времени выходивших работах по истории русского театра. Хрестоматия делает серьезный шаг к тому, чтобы пополнить этот пробел.
Собранные в книге данные группируются в хронологической последовательности вокруг: 1) описания отдельных театров, 2) освещения ведущих проблем, поскольку они затрагиваются мемуаристами, и 3) характеристик театральных деятелей и выдающихся актеров. Вопросы репертуара найдут свое освещение в особом предполагаемом издании.
Следует помнить, что, как ни стремились составители и редакция лучше организовать материал, невозможно было устранить основные недостатки фрагментов, из которых составлена книга: мемуары во многом отличаются друг от друга по своему качеству.
Что же касается материалов, важных для изучения истории театра, то их в мемуарной литературе сравнительно мало, а между тем они-то и представляют собой для нас наибольший интерес. Вот такие материалы составители и стремились собрать в хрестоматии и предложить вниманию читателей.
Г. Гоян
Русские столичные театры
I. Столичные театры на рубеже XVIII–XIX веков
Петербургский театр1
Никогда Россия не видала в одно время столько отличных писателей и драматических артистов, как в первую половину царствования Александра I, и едва ли где-либо было их столько в одно время. Эта эпоха была для нас то же, что для Рима век Августа.
Из старинных актеров, бывших украшением сцены в конце XVIII века, я видел на сцене Крутицкого, Сандунова и Шушерина. Первого видел я несколько раз на сцене, а в последний раз, уже после его отставки, когда он играл, не помню в чей бенефис, созданную им роль Мельника. Совершенство в полном смысле слова! Манера, ухватки простонародные, но как-то облагороженные; голос, взгляд – все было в нем неподражаемо. Недаром Екатерина Великая восхищалась Мельником! Как теперь вижу Крутицкого! Лицо у него было красивое, но как будто сжатое с обеих щек, рябоватое, нос вострый, губы малые, глаза удивительно живые. Сын его воспитывался вместе со мною в кадетском корпусе, и отец почти в каждый канун праздника приходил за сыном своим. Крутицкий (отец) любил разговаривать с кадетами. Однажды кадеты собрались играть в корпусе «Мельника», и знаменитый актер, узнав об этом, взялся быть нашим учителем. Под его руководством пьеса сыграна была превосходно. Сандунов приезжал в Петербург из Москвы, и я видел его в комедии-фарсе Мольера «Скапиновы обманы», в которой Сандунов играл Скапина, а Рыкалов – обманутого отца. После видел я эту комедию несколько раз на парижской сцене, играемую лучшими актерами, и всегда вспоминал о Петербурге, потому что нигде не встречал лучших комических актеров, как Рыкалов и Сандунов. Трудно вообразить, какой комизм умел сообщить Рыкалов каждому своему слову, каждому взгляду, каждому движению! Когда он, бывало, завопит: «Да зачем его чорт на галеру-то носил!» – невольный хохот раздавался во всех концах театра. Сандунов был тогда уже весьма немолод, но в игре его была живость юноши. Лишь только вышел он на сцену, оглянулся, потер руки и пожал плечами – то, не сказав еще ни слова, уже характеризовал свою роль: нельзя было не догадаться, что этот Скапин плут. Какие интонации в голосе, какая естественность в движениях, что за плутовские взгляды и ухватки! Мольер расцеловал бы нашего Скапина, если б даже не понимал по-русски. Рыкалов был бесподобен в ролях комических стариков, но лучше всего в мольеровских пьесах: в – «Скупом», в «Лекаре поневоле», в «Мещанине во дворянстве». Рыкалов был высок ростом и имел глаза на выкате, которым он умел сообщать неподражаемое выражение простоты и добродушия. Тон голоса удивительно применялся к выражению глаз, и в движениях его была такая естественность, что зритель совершенно забывался. Пономарев играл простаков слуг, подьячих и комических стариков в операх (Кифара в «Русалке»). Те, которые видали его в старости, не могут иметь понятия о том, чем он был в молодых летах и в зрелом возрасте. Игра его была просто неподражаема. Теперь об этом и память погибла! Голос его имел какое-то комическое выражение. Роль подьячего создана им на русской сцене, и теперь нет более ни подлинников в обществе, ни копий на сцене. Этого мы уже не увидим, равно как и деревенского лакея! Когда, бывало, Пономарев появится на сцену, в светлозеленом мундире, в красном камзоле, красном исподнем платье, низкой треугольной шляпе, и затянет своим козлиным голосом подьяческие куплеты – умора! Надобно было надрываться со смеху, когда, не помню, в каком-то дивертисменте, Пономарев запоет плачевным голосом жалобу об уничтожении питейного дома на Стрелке, куда собирались преимущественно закоренелые подьячие. В роли комических лакеев Пономарев смешил до слез одними своими ухватками, хотя бы в роли его и не было ничего остроумного. В «Недоросле» Фонвизина он был единствен: он еще копировал с натуры! Публика наша видела первоклассных итальянских буффо в лице Ненчини и Замбони, и при всем том и раек, и ложи первого яруса отдавали справедливость Воробьеву, ученику знаменитого Дмитревского. В роли Тарабара (в «Русалке») он смешил всех без исключения, но в итальянских операх, например, в «Музыкальном фанатике», удивлял знатоков своим неподдельным комизмом. Воробьев одарен был от природы чудесным свойством смешить даже молча. Бывало, выйдет на сцену, станет в позитуру, сложит руки на груди или заложит за спину, взглянет на публику – и раздался хохот. Он был небольшого роста, плотный, круглолицый, с огненными взорами. Веселость его была неистощима, даже вне сцены. […] Впрочем, при необыкновенном даровании и неисчерпаемой веселости, строгая критика не всегда была довольна игрою Воробьева, потому что он, для угождения толпе, иногда слишком фарсил и утрировал роли и часто, не изучив их, заменял промежутки своими шутками и прибаутками, которые сбивали с толку других актеров. Иногда также он фальшил и не соблюдал такта. Но истинный его комизм и удовольствие, которое он доставлял своим чудным талантом, заставляли публику прощать ему все, и Воробьев, до кончины своей, оставался ее любимцем. Покойный Рамазанов был его учеником, но он далеко отстал от Воробьева! Певцами всегда был беден наш театр, и я помню только двух: Самойлова и Злова. Гуляев имел прекрасный голос, но вовсе не умел играть, а потому ему редко давали роли. Самойлов в молодости своей был чрезвычайно хорош в небольших операх, особенно в русских водевилях. Он был красив лицом, превосходно сложен, и хотя от робости сначала всегда играл неловко, но, ободрившись и войдя в роль, играл бесподобно. Он отлично хорош был в ролях молодых офицеров, русских парней и вообще влюбленных. Впоследствии он составил себе славу в роли исступленного,выполняя эту трудную роль с величайшим искусством; он также превосходен был в опере «Иосиф». В молодости Самойлов обладал чистым звонким тенором, переходившим легка в сопрано. Злов пел басом, и голос его высоко ценили все дилетанты, хотя он плохо знал музыку и пел более по слуху; он был также недурной актер. В драмах и трагедиях первые актеры были Шушерин и Яковлев. Шушерин долго был на московской сцене, а на петербургскую перешел уже в пожилых летах. Он играл превосходно роли стариков и тиранов в трагедиях. Невозможно лучше выполнить ролей Эдипа и короля Лира! Шушерин был человек весьма умный и начитанный: он изучал глубоко характеры представляемых им лиц. Игра его была благородная, дикция чистая, движения и все приемы естественные. Он не жертвовал искусством для приобретения милости райка. Славу его вскоре затмил Яковлев, любимый ученик Дмитревского, наш русский Тальма. Память Яковлева останется незабвенною. Он был среднего роста, как Тальма, прекрасен лицом и с физиономией, исполненной выразительности. Глаза его пылали гениальностью. В римском или греческом костюме на него нельзя было наглядеться. Голос его, чистый, серебристый, имел необыкновенную прелесть и доходил до глубины души слушателя. В ролях, основанных на сильном чувстве, он был бесподобен, но в ролях тиранов и злодеев был ниже Шушерина. При выражении сильных страстей Яковлев часто слишком кричал и горячился. По моему мнению, он гораздо лучше был в драмах, нежели в так называемых греческих и римских трагедиях, может быть, и оттого, что драмы естественнее тогдашних классических трагедий. Я не могу себе представить ничего совершеннее, как Яковлева в роли Вольфа в пьесе Коцебу «Гусситы под Наумбургом» и в роли музыканта Миллера в трагедии Шиллера «Коварство и любовь». Когда в первой из сих пьес несчастный отец затруднялся в выборе детища, которое должно отправить в лагерь свирепых гусситов, когда он утешал безутешную мать, – сердце надрывалось, и все мы рыдали в театре. Эта сцена так резко запечатлелась в моей памяти, что мне кажется, будто я вчера только видел ее! Яковлев, актер по страсти, глубоко изучал свои роли, и там, где недоставало ему науки, заменяло чувство и инстинкт. Как хорош он был в роли Фингала в «Димитрии Донском» (трагедиях Озерова)! Не только ни один стих, но ни одно слово поэта не пропадали! Несравненный актер все умел, так сказать, озолотить своим искусством. Ни один актер не трогал меня так сильно, как Яковлев. Повторяю, сила его была в выражении чувства, а не страсти. В первом он был неподражаем, потому что следовал внушению души; а во втором случае он отрывался от натуры и увязал в сетях искусства.
Но две неоцененные жемчужины, украсившие венцы русской Талии и Мельпомены, были две сестры Семеновы (Катерина Семеновна и Нимфодора Семеновна). Обе красавицы, в полном значении слова, они созданы были самою природою сообразно своему назначению. Старшая сестра, Катерина Семеновна, актриса трагическая, имела черты лица греческие, правильные, гордый взгляд и, при умеренном росте, благородную осанку и величавую поступь. Даже в улыбке ее было что-то высокое, а в голосе какая-то необыкновенная сила. Она была особенно хороша, когда, проникнутая ролью, забывалась на сцене, и это случалось с нею весьма часто, всегда почти, когда ей надлежало выражать сильное чувство матери или оскорбленную любовь. Тогда она была уже не актриса, но настоящая мать или оскорбленная жена! В выражении лица, в голосе, в жестах она не следовала тогда никаким правилам искусства; но, увлекаясь душевными движениями, воспламеняясь страстью, была точно то самое лицо в натуре, которое представляла. Семенова видела Жорж, но она переняла у этой прелестной актрисы только благородство в позах, а в игре следовала всегда собственному вдохновению. Я отдаю преимущество Семеновой пред г-жами Жорж и даже Дюшенуа во всех ролях, где надлежало выражать сильное чувство. Весьма замечательно, что французские знаменитые актеры и актрисы превосходили Яковлева и Семенову в выражении сильных порывов злых страстей, как то: гнева, мести, злобы, коварства, кровожадности, а наши русские артисты, Яковлев и Семенова, превосходили французов в выражении сильных ощущений души нежной: любви, дружбы, родительской привязанности и т. п. [….] Вы видели изображение Граций в живописи и ваянии, но живая, одушевленная Грация была Нимфодора Семеновна Семенова в своей юности. Прелестные черты лица, глаза, исполненные огня и нежности, рост, стан и притом все приемы, все движения составляли вместе полное совершенство. Голос у нее был небольшой, но весьма приятный, и она пела весьма мило в небольших операх и водевилях. Она была притом превосходная актриса в двух противоположных амплуа, а именно в ролях наивных девушек и в ролях молодых барынь. В последних ролях она отличалась благородством приемов и прекрасным светским тоном, что у нас большая редкость на сцене. Подобно метеору, блеснула на нашей сцене г-жа Болина, восхищавшая публику своею необыкновенною красотою и талантом в тех же ролях, как и Н. С. Семенова. Но г-жа Болина недолго была на сцене и вышла замуж за дворянина хорошей фамилии и достаточного состояния, человека отличного умом и благородством чувств. Г-жа Каратыгина (мать нынешних артистов) играла отлично в драмах и неохотно пускалась на поприще трагедии. Когда она играла в драмах вместе с Яковлевым, – это было совершенство! К. С. Семенова, напротив того, не могла играть в драмах. Это была богиня, которая сходила с Олимпа на землю только в необыкновенных случаях, когда надлежало страсть возвысить до героизма. В игре Каратыгиной было весьма много чувства и нежности; она умела оттенять каждую мысль автора и переливала каждое свое ощущение в сердце зрителя. Для комедии мы имели Рахманову, игравшую в совершенстве русских старух и деревенских барынь. К. И. Ежова занимала впоследствии то же самое амплуа с большим успехом, но никогда не могла сравняться с Рахмановой. В опере и водевиле первое место занимала г-жа Черникова (ныне г-жа Самойлова). Она была чрезвычайно мила собою, пела бесподобно и играла прелестно. Лучшей актрисы и певицы я не видал на нашей сцене. Г-жу Сандунову я видал уже в пожилых летах, и хотя она еще пела хорошо, но уже не могла производить эффекта на сцене. В оперной же труппе, хотя уже позже, отличалась, как и ныне отличается, г-жа Воробьева (нынешняя г-жа Сосницкая) в ролях субреток и первых любовниц. Г-жа Сосницкая прежде часто игрывала в комедиях, и по справедливости занимала в них первое место. Актриса умная, отчетливая, с необыкновенным талантом, красавица, г-жа Воробьева приводила публику в восторг в первые годы своего вступления на театр. Но, будучи несравненною в ролях молодых девиц, г-жа Воробьева уступала однакож в ролях субреток г-же Асенковой (Александре Егоровне), матери нынешней артистки. А. Е. Асенкова была неподражаема в ролях служанок, переняв благородство французских субреток и сохранив русскую характеристику. Она была прелестна собою, удивительно ловка и умела сохранять в игре естественность. Плутовские взгляды, хитрая улыбка, притворство и все проделки служанок она изображала так превосходно, что в самом Париже, отечестве субреток, ей бы отдали справедливость. Несравненный наш И. И. Сосницкий был тогда юношей, и еще в школе обнаружил талант, который развился с таким блеском и составляет украшение нашей сцены.
(Ф. Булгарин.Театральные воспоминания моей юности. «Пантеон», 1840, I, стр. 81–87.)
2
Спектакли давали тогда только на Малом Театре (где теперь Александринский) и в доме Кушелева, где ныне Главный Штаб. На первом играли французы и русские, а на втором немцы и русская молодая труппа, составленная из воспитанников театральной школы и немногих вновь определяющихся дебютантов.
[…] В воскресенье давала в доме Кушелева русская молодая труппа «Русалку», и молодой актер Брянский играл Видостана (Тарабара – Рамазанов, Кифара – Пыльников, Лесту – г-жа Спиридонова). Все это я давно уже видел, но теперь восхищался этими лицами вблизи и за кулисами.
Много принесло пользы русскому театру учреждение князем А. А. Шаховским этой молодой труппы,составившей рассадник прекраснейших потом талантов. Заставлять малолетнего воспитанника или воспитанницу вдруг играть со старыми актерами чрезвычайно трудно. Во-первых, публика платит деньги не за то, чтоб смотреть на учеников. Она имеет право требовать, чтоб спектакли шли в наилучшем виде и обставлялись всегда первыми сюжетами. Только в случае болезни или крайности можно допустить появление дублета. Но, с другой стороны, молодые актеры, не участвуя в спектаклях, никогда не приобретут необходимой опытности для развития своего дарования. Есть, конечно, для практического ученья театр в театральной школе, но какая бывает публика в этих спектаклях? Свои товарищи, начальники и приглашенные ими лица, которые должны все хвалить. Сами играющие чувствуют, что между этою публикою и настоящею – неизмеримая разница, и одобрение последней приносит им во сто раз больше удовольствий, нежели все ласки и панегирики своих официальных лиц.
Чтоб соединить все это, князь Шаховской (он был тогда членом репертуарной части при Дирекции) придумал составить отдельную труппу, которая и давала спектакли за дешевейшую цену. Публика заранее знала, что идет смотреть полудетский театр, и не имела права требовать первоклассных талантов и классических пьес. И однакоже зрители всегда были чрезвычайно довольны. Маленькие комедии, водевили, оперетки разыгрывались тут очень мило, и большая часть этих молодыхактеров сделалась потом украшением большой сцены; очень жаль, что подобное учреждение было потом брошено; и театр, и публика потеряли от этого.,
Московский театр(Р. Зотов.Театральные воспоминания. СПБ., 1859. Стр. 18, 19.)
Кроме большого Петровского театра, был тогда в Москве еще другой театр, летний в воксале. [1]1
Воксал – загородный увеселительный сад, где, кроме гуляний, устраивались также театральные представления, фейерверки и т. п. Слово заимствовано от названия одного из пригородов Лондона, где был такой сад. Вокзал-сад, служивший местом для гуляний, а позднее (до самой Октябрьской революции) для концертов, находился в Павловске у конечного пункта первой русской железной дороги. Отсюда и распространено было на все железнодорожные станционные здания название «вокзалов», которое не присвоено им ни в одном из европейских языков. Вокзал-сад Медокса находился близ Рогожской заставы в Москве.
[Закрыть]Тут играли только маленькие комические оперы, в одном и в двух действиях, и такие же комедии. […]
В саду воксала Медокс предполагал выстроить другой театр для простого народа, на котором бы представляли одни пьесы народные и патриотические. «Вот, мой батюшка», – говорил он автору записок, – «тут у нас будут играть новички, а кто из них отличится, того переведем на большой театр!» – Превосходная мысль! Как жаль, что она не осуществилась. Такое разделение театров не только в то время, но и теперь принесло бы большую пользу. [….] тут могли бы развиться многие таланты из чисто русских, народных начал. Может быть, это породило бы у нас гораздо ранее национальную драму. А образованные зрители чрез то избавились бы от спектаклей, иногда оскорбляющих эстетический вкус, противоречащих законам искусства, но необходимых и неизбежных. Разбирая все учреждения и замыслы Медокса, нельзя не сознаться, что он был великий мастер своего дела, бескорыстно стремившийся к пользам и славе Русского Театра и драматического искусства в России. Только истинные дарования, только труд и успехи заслуживали у него вознаграждение и похвалу, и потому любимою его поговоркою был стих Державина:
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами,
Где надо действовать умом,
Он – только хлопает ушами.
Медокс имел особенное художественное чутье, которое его никогда не обманывало ни в выборе пьес для театра, ни в выборе представителей. Почти все члены его труппы принадлежат к первоклассным русским артистам. Имена: Померанцева, Плавильщикова, Шушерина, Сандунова, Сандуновой, Синявской, Калиграфовой навсегда останутся в летописях русской сцены в красной строке.
… Он [Померанцев] был тем актером, которого Карамзин сравнивал с великим французским артистом Моле, восхищавшим всю Францию, о котором говорила вся Европа. Померанцев, одаренный природою и ростом и ловкостью, имел лицо выразительное, душу пылкую и здоровую голову. Он чрезвычайно умно создавал свои роли в комедии, но в драме у него оставалась одна голая природа; всякая искусственность исчезала. Он увлекался чувством, являлись слезы, высказывался голос души, а жестикуляция и позы не повиновались строгим законам тогдашнего искусства. Но эти правила сцены и искусства для него были ненужны; когда зритель увлекался его игрой, его порывами, он забывал все на свете, не только строгую критику. Проперций говорил своей Цинтии, любуясь ее наивной красотой: «Искусство не для тебя!» Вольтер повторял это в своей Заире; но нигде эта мысль не была так кстати выражена, как в стихах к портрету Померанцева:
На что тебе искусство?
Оно не твой удел; твоя наука – чувство.
Жесты Померанцева были чрезвычайно однообразны, но всегда кстати. Особенно много действовал у него указательный перст, которым он иногда приводил зрителя в содрогание. Ныне это покажется странным и смешным; в то время восхищало. Впечатление это словами передать трудно, надо было видеть Померанцева в минуты увлечения, чтоб извинить, или лучше сказать понять такую странную привычку. Законы эстетики допускают иногда отступления, особливо, когда они становятся неотъемлемой принадлежностью человека. Что может быть безобразнее пятна на человеческом лице? А бывают случаи, что родимое пятнышко, приютясь в ямке щеки или на розовом подбородке красавицы, придает особенную прелесть женской улыбке и выражению ее лица.
… Померанцев был нестерпим в созданиях слабых и неестественных. Так, например, в трагедии Сумарокова «Синав и Трувор», где он играл Гостомысла, он совсем не умел передавать всех натяжек и набора рифм этой трагедии. Его чувство и вдохновение не находили тут пищи, а искусство было слишком слабо, чтоб прикрыть красно-хитро-сплетенные речи поддельным огнем и колоритом смысла. Он был актер природы, и только там, где человеческая природа высказывалась энергически, талант его являлся во всем блеске, – он был возвышенно хорош.
Таков теперь московский трагик П. С. Мочалов.
Жена Померанцева на театре была совершенный оборотень. Из слезливой драмы она переходила в живую и веселую комедию. Она являлась то сентиментальной девушкой, то наивной крестьяночкой, то хитрой, оборотливой служанкой, – и всегда публика встречала и провожала ее рукоплесканиями. Ум, ловкость, живость и необыкновенная веселость были особенными ее дарованиями. Она одевалась со вкусом, а глазки ее горели и сверкали, как два раскаленные угля. Публика тогдашняя любила ее до обожания. Особливо превосходно играла она в «Мельнике» Аблесимова. Плавильщиков и Шушерин были два атлета трагического котурна. Оба они были актеры с талантом могучим и деятельным, но закованным совершенно в условия тогдашней сцены. Они почти всегда нравились больше Померанцева, но никогда не увлекали зрителя так, как он. У них все было придумано, каждый шаг размерен, каждое слово взвешено, каждый жест заучен. Их можно было скорее назвать живописцами лиц на сцене, чем представителями. Они были прекрасные копии с классических статуй древнего Рима и Греции, но не образцы людей, выхваченных из жизни действительной. Классическая трагедия французов, пересаженная в то время в Россию деятельным пером Сумарокова, выводила на сцену одних только героев, людей оставляла за кулисами. Для изображения их выспренных страстей и доброжелателей нужны были и средства нечеловеческие, а потому актеры трагические пренебрегали простотой и естественностью. Разговор, походка, позы – все было натянуто и утрировано. Чем более они удалялись от природы, чем менее походили на обыкновенных людей, тем выше ценился их талант. Мудрено ли после этого, что Шушерина и Плавильщикова, надутых декламаторов, всегда ставили выше Померанцева, который знал одно орудие, одно искусство – внутренний голос души своей. Но Шушерин и Плавильщиков во всякое время были бы великими артистами, ибо всегда умели бы приспособить средства свои к требованиям века и современному взгляду на искусство, так же точно, как тогда постигли потребность своего времени. […]
Сила Николаевич Сандунов почитался первым комиком на русских сценах. Амплуа его были роли слуг. В то время господствовала на русской сцене французская комедия, в которой все интриги обыкновенно завязывались и покоились на плуте-слуге и увертливой служанке. Следовательно, амплуа Сандунова было тогда самое трудное. Сандунов действительно был актер необыкновенный, по уму гибкому и просвещенному, по таланту сценическому и по стойкости характера. Все то, что пленяет нас в Бомарше, досталось в удел Сандунову: та же пылкость души, тот же пламень воображения, та же язвительная острота и изворотливость ума. На сцене он был, как дома: смел, развязен и ловок. Сандунов был en vogue, т. е. актер модный. Ему старались подражать молодые люди в обществе: так приемы его были благородны и приятны. Необыкновенный ум Сандунова приобрел ему столько же друзей в свете и преимущественно между знатью, сколько талант завоевал сердец с подмостков сцены. Он был росту небольшого, но прекрасно сложен; говорил, прищуривая глаза, но сквозь эти щелки век вырывались язвительные молнии; он высматривал каждое движение того, с кем говорил и, казалось, проникал его насквозь. Молодая кругленькая, живая и кокетливая Полянская мастерски вторила Сандунову в ролях служанок. Видеть их вместе на сцене было истинное наслаждение. Для них была переделана знаменитая комедия «Марфа и Угар или Лакейская война», которая имела необыкновенный успех. Для Полянской А. Ф. Малиновский перевел прекрасную комедию «Хитрость против хитрости», в которой она играла служанку Лизетту с неподражаемым искусством и ловкостью. Сандунов имел редкое достоинство для актера, достоинство, которым ныне по преимуществу владеет, по смерти незабвенного Дюра, один только Сосницкий: именно разнообразие. Сандунов каждой роли давал свой колорит и превосходно оттенял характеры. Он был весел, жив, игрив, рассыпался мелким бесом и всегда был в движении на сцене. Он так глубоко вникал в характер своей роли, что совершенно отдавался своему увлечению; во время игры весь мир для него не существовал; он знал только тех людей, которых автор поставил возле него на сцене. В продолжение всего своего сценического поприща он раз только попал впросак на театре, но и тут смелость, ум и острота помогли ему вывернуться с честью. Сандунов, одаренный всеми талантами сценическими, был жестоко обижен природою в отношении к музыке. У него, как говорится, не было ни гласа, ни послушания, т. е. ни голоса для пения, ни даже музыкального слуха; несмотря на то, он затеял разыграть роль тюремщика в старинной опере: «Рауль Сер де Креки». Это было в его бенефис. Бенефисы тогда давались редко. Даже первоклассные артисты получали бенефис только за многолетние успехи и труды. Администрация театральная сама заказывала новые пьесы авторам и платила им за труд щедрою рукою, а при большом успехе, сверх того, давала представление в их пользу; бенефициант же имел право из всего репертуара выбрать себе любую пьесу, но отнюдь не смел давать пьес новых и еще не игранных в дирекции. Итак, Сандунов выбрал оперу «Рауль де Креки». И пьеса была хорошая, и бенефициант был любимец публики, следовательно, в театр народу набралось много. Все любопытствовали услышать, как-то запоет Сандунов, который так ловко играл Полиста в «Хвастуне» Княжнина, Скапина и Гарпагона – в комедиях Мольера. Сандунов вышел. Его приветствовали тремя залпами рукоплесканий. Но едва он затянул первую свою арию:
Лишь взойдет заря багряная,
В гости к бочкам я хожу – и пр.
как весь театр залился хохотом. Сандунов так перепутал слова и ноты, запел так в разлад с музыкой, что оркестр остановился. Но смелый Сандунов, не смутившись нимало махнул рукой, допел свою арию без музыки и, наконец, подойдя к оркестру, сказал публике, как бы по секрету:
Пусть себе театр смеется,
Что успел певца поддеть:
Сандунов сам признается,
Что плохой он мастер петь.
Театр загремел от браво и рукоплесканий. Никогда еще оперный певец не имел такого блистательного успеха, как Сандунов в эту минуту. […]
Кроме упомянутых артистов, в труппе Медокса были и другие, второго разряда, весьма хорошие, или правильней сказать, полезные актеры. Из них можно упомянуть о Калиграфе, Украсове, Ожогине, Лапине.
(Ф. Кони.Воспоминание о московском театре при М. Е. Медоксе. (Почерпнуто из неизданных записок С. Н. Глинки и изустных рассказов старожилов.) «Пантеон». 1840, I, стр. 92–93, 94, 96–97, 101.)








