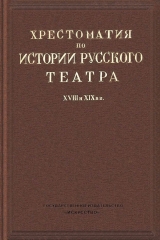
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
(1847–1908)
1 [55]55
А. П. Ленский в специальной статье об искусстве грима рассказывает о том влиянии, какое имела на него книга о гриме Альтмана. – Прим. ред.
[Закрыть]
Года три, по крайней мере, я оставался под влиянием советов Альтмана, и нередко находили на меня минуты сомнения в целесообразности избранного метода, но я гнал от себя эти греховные помыслы и, в виде эпитимии, заставлял себя изобретать новые и новые оттенки красок. Так, например, к бывшему у меня цвету лица молодых моряков я прибавил еще два: цвет лица старых и пожилых; к цвету лица увядших молодых людей и бледных молодых интриганов я прибавил цвет пожилого и дряхлого бледного интригана… Словом, чем больше в лес, тем больше дров! Не знаю, чем бы кончилось мое блуждание по лабиринту гримировального искусства, если бы судьба не сжалилась надо мной и не привела Самойлова на гастроли в Одессу, где я тогда служил. Ему и его советам я всецело обязан моим избавлением из-под ига Альтмана и дальнейшими успехами в гримировке.
Самойлов приедет! Приедет первоклассный актер и знаменитый грим! Грим настолько совершенный, что в его обширном репертуаре не было лица, похожего одно на другое. Я был раньше знаком с Самойловым, бывал в его доме, даже играл с ним в начале моей сценической карьеры, на Нижегородской ярмарке, маленькие роли; я знал его надменный характер и обращение свысока с провинциальными актерами и, признаюсь, боялся за свои отношения с ним, потому что мое самолюбие успело вырасти выше головы – порок, коим наша профессия одержима более всякой другой. Я боялся, что его презрительное обращение помешает мне сблизиться с ним и лишит возможности учиться. Пропустить же такой случай было бы ужасно! Я твердо решил спрятать свое самолюбие и переносить многое ради дела. Наконец, в один прекрасный или непрекрасный день с утренним поездом приехал Самойлов. Спектакль был отменен, и вместо него назначена репетиция пьесы, в которой он должен был выйти на другой день.
Вечер. Все собрались на репетицию. К удивлению многих, ждать его не пришлось ни минуты, – он приехал и вошел на сцену своей энергичной походкой, гордо неся свою оригинально-красивую голову на стройной, еще молодой фигуре. На взгляд ему нельзя было дать больше 42–45 лет, хотя на самом деле ему тогда было 60. Сверх всякого ожидания, Самойлов обошелся с нами очень приветливо, чем сильно расположил к себе всех, намеревавшихся дать отпор его надменности. И я знаю, что многие потом из кожи лезли, стараясь тверже учить роли и запоминать его требования, не столько ради дела и уважения к его авторитету, сколько из желания отблагодарить за его милое товарищеское отношение. А я, – я был на седьмом небе и смотрел на него влюбленными глазами. В одном из антрактов репетиции я попросил у него позволения присутствовать в его уборной при его одевании и гримировке, на что и получил согласие.
День спектакля. Томлюсь в ожидании вечера. Отправляюсь в театр почти за час до времени обычного сбора артистов, с намерением успеть одеться и загримироваться до приезда Самойлова и щегольнуть перед столичным гостем своим мастерством. Оделся и загримировался. Всюду тишина… Только изредка доносится снизу кашель старика сторожа при уборных. На сцене – мрак, в уборных – ни души. От скуки подошел к зеркалу и еще попачкался. На сцену пришли ламповщики и, переговариваясь, стали зажигать лампы. Мало-помалу стали собираться участвующие в спектакле, и театр оживился. Собрались, – Самойлова нет. Кто-то, слышу, спрашивает: «Где самойловская уборная?» – Бегу. Оказывается, его человек с вещами. Значит, скоро придет сам. Дежурю у дверей. Посматриваю на часы, – до начала полчаса. Зашел в соседнюю уборную и, поглядев на себя в зеркало, подумал: «Вот так я стану за его стулом… он вскинет на меня в зеркало свои красивые глаза, всмотревшись, обернется ко мне и, с приятным для меня изумлением, скажет: „Э, да вы, батенька, и сами молодцом гримируетесь!“ Я скромно, но с достоинством отвечу ему: „Василий Васильевич. Ваша похвала…“» и пр.
Но этим мечтам не суждено было сбыться: Самойлов, как оказалось впоследствии, не обратил никакого внимания на мой чудесный грим, точно я стоял перед ним не загримированный, а с своим лицом. Очнувшись от своих мечтаний, я поглядел на часы, – без двадцати минут 8, до начала 20 минут. Самойлова все еще нет!
«Когда же, – думаю, – он успеет загримироваться?» Судя по роли, гримировка должна быть очень сложная. «Интересно, – думаю, – посмотреть его гримировальные принадлежности. Вот, я думаю!..» Иду к нему в уборную. Лакей развешивает платье по вешалкам. Оглядываюсь, ожидая увидеть лабораторию Фауста, и вижу: стол, покрытый скатертью, на столе довольно большое зеркало в серебряной раме; тут же чистое полотенце, коробочка с нарезанными кусочками пробки, баночка с краской для замазывания лба у париков, таковая же с темнокрасной краской, обыкновенные румяна, пудра и… и больше ничего! Не теряю надежды, думаю: «Шкатулку с принадлежностями и ассортиментом красок, вероятно, привезет с собой». Вдруг слышу чьи-то шаги в калошах и громкий, несколько сиповатый, нервный голос Самойлова произносит: «Куда тут?!» Дверь настежь, шумно войдя, – сбросил шубу на руку лакея, не глядя на меня, протянул мне левую руку и, кинув: «Здрасте», стал переодеваться. Переодевшись очень быстро, он сел к столу и, немного сощурясь, поглядел на себя в зеркало, провел рукой по волосам, велел позвать парикмахера и приказал вынуть парик из коробки, причесать его, потом, с помощью того же парикмахера, у которого руки дрожали от волнения, надел парик на голову, заколупнул пальцем краску для лба и замазал ею рубец, затем взял кусочек пробки, обуглил ее на газе, подул на нее и, когда потухла последняя искорка, начал ею ставить на своем лице точки и растирать их пальцем, сделал два-три пятна темнокрасной краской, достал из коробки, где был парик, усы и бородку à la Napoleon III, наклеил и то и другое, отряхнул пуховку, запудрил ею лицо, снял кое-где полотенцем лишнюю пудру (все это делалось быстро, уверенно и отрывисто, как и его речь), сказал помощнику режиссера: «Начинайте!», и мимо меня прошел на сцену… кто-то, только не Самойлов.
Долго я стоял в недоумении, смотря ему вслед. В моей голове несвязно проносились советы Альтмана: «Взять притирание номер такой-то с небольшой примесью такого-то, положить его в жестянку и, разогрев на газе, обмакнуть в разогретую массу щетинную кисть, – покрывать этим тоном сплошь лицо, уши и шею… Затем, взяв притирание номер такой-то, положить им на щеку пятно в виде треугольника… потом притирание номером таким-то – делать то-то и то-то…» и т. д. и т. д. Я махнул рукой и пошел на сцену.
В одном из спектаклей Самойлов играл Растаковского в «Ревизоре». Я, по обыкновению, стоял за его стулом и следил за тем, что он делает с своим лицом. Держа в руке свое излюбленное оружие – кусочек пробки и делая ею энергичные тычки себе в разные части лица, он продолжал начатую со мной беседу о гримировке, время от времени вскидывая на меня в зеркало свои еще молодые, смелые глаза.
– Неужели, – говорю, – Василий Васильевич, вы не находите нужным положить на лицо серовато-желтого оттенка дряхлости, что дает коже тот омертвелый вид, какой и должен быть у этой развалины?
– Как видите, – буркнул себе под нос Самойлов, растирая пальцем поставленное пробкой пятно.
Пауза.
– Пудра, пробка и больше ничего, – сказал он после молчания. Потом, помолчав еще и вытирая палец о полотенце, прибавил:
– Молодость и старость, батенька, не в коже, а в глазах!
«Ладно, – думаю, – я посмотрю, куда ты свои глазища денешь? Их, брат, пудрой-то не закроешь!..» Спрашиваю дальше:
– Отчего же вы, Василий Васильевич, не проведете резких черт от углов рта книзу и не оттените нижней губы, что придало бы вид бессильно опустившейся нижней челюсти?
– Вы и это хотите делать краской? – отвечал Самойлов. – Тогда что же останется делать актеру, за что ему деньги платить? Я, в таком случае, советую вам наделать масок, да и играть в них. От ваших притираний лицо становится почти такой маской!
Самойлов кончил гримировку и закурил сигару. Я на этот раз был недоволен его гримом. На нем был надет плешивый парик с заплетенной косичкой, лицо казалось много старше собственного, но все же это был Самойлов. Поговорив еще немного и осмеяв окончательно мои краски, особенно моих возлюбленных бледных интриганов, он пошел на сцену. Ожидая своего выхода, Самойлов был весел, оживлен, рассказывал анекдот за анекдотом и смешил всех до упаду. Пришла очередь Растаковского представляться Хлестакову. Помощник режиссера сказал: «Пожалуйте, Василий Васильевич!» Невольно я на мгновение перевел глаза с Самойлова на говорившего, и за это время с Самойловым произошла перемена, поразившая всех присутствующих. Он как-то съежился, стал меньше ростом… Перед нами стоял дряхлый-дряхлый старик с провалившимся ртом и бессильно опустившейся челюстью; грудь ввалилась, старческий животик сильно выпятился вперед; глаза потухли, словно подернулись налетом, какой бывает у очень старых, полуослепших собак. Эта развалина, шаркая ногами в огромных ботфортах, прикрывая рукой в аляповатой перчатке свои глаза, прошла мимо меня в отворенные двери на сцену. Эффект был удивительный и, вероятно, устроенный Самойловым не без намерения поразить нас.
Целый месяц гостил Самойлов в Одессе и сыграл спектаклей двадцать, если не больше. Были гримировки поистине изумительные, но никогда за все это время он не употреблял ничего, кроме вышеупомянутых средств.
Покойный Сергей Васильевич Шумский тоже был замечательным гримером. Его грим был всегда типичен, правдив и оригинален. И у него все разнообразие заключалось в париках и наклейках, а лицо оставалось чистым от красок. Но Самойлов часто был неузнаваем, тогда как Шумского всегда можно было узнать с первого взгляда. Это не потому, что Самойлов был даровитее Шумского, – нет, по моему мнению, талант Шумского был и глубже, и сильнее блестящего, но внешнего таланта Самойлова. Причина этого крылась в необычайных глазах – этого главного и почти единственного выразителя огромного таланта Шумского. Эти изумительной красоты глаза обладали беспримерной выразительностью. Природа, лишив его всех необходимых для актера внешних качеств и, словно сознавая свою вину, удесятерила силу самых выразительных глаз и наградила таковыми Шумского. Глаза заменяли Шумскому все: красоту лица и фигуры, силу и приятность голоса и даже ясность произношения. Никому кроме обладателя таковых глаз публика не простила бы этого глухого шепелявого выговора. При появлении Шумского на сцену зритель, помимо воли, подпадал под власть его магнетических глаз и прощал и даже забывал о всех его недостатках. Мне лично Шумский игрой своих глаз часто мешал: бывало, засмотришься на него и забудешь о том, что надо делать самому. Потом я просто стал бояться его глаз на сцене. Часто он выговаривал мне за мою рассеянность и будто бы небрежное отношение к делу. Он не догадывался, что в этом виновны его дивные глаза, где так ярко отражался калейдоскоп чувств, переживаемых актером.
Теперь перехожу к актеру еще более сильному, еще более глубокому и всего менее претендовавшему на неузнаваемость. Это – Пров Михайлович Садовский. Этот величайший комический актер обладал самой серьезной и благообразной физиономией: умные, задумчивые глаза, спокойные брови, строгий рот, широкий, достаточно высокий лоб и прямой, несколько опустившийся нос. Словом, никакого уклонения от нормы, которое придает лицу комическое выражение. Напротив: все черты составляли такое гармоническое целое, что даже шрам между щекой и подбородком дополнял общее приятное впечатление. Ни одна черта этого могучего лица не была бездеятельна, но каждая служила сильным фактором его гения. Скрывать, изменять что-либо, заменять другим – значило лишать это лицо присущей ему силы. Это было так же нелепо, как нелепо Венеру Милосскую одеть больше, чем одел ее художник. Садовский, так же как и Шумский, изменял свое лицо постольку, поскольку изменяли его парик, борода или усы. Играл ли Садовский Брускова, Беневоленского, Юсова, Русакова и множество других ролей, – зритель рад был узнать дорогие черты своего любимца, который силою своего колоссального таланта, своей неподражаемой мимикой делал эти черты столь родственными для Юсовых и других, что зрителю, видевшему великого актера в этих ролях, представить их не в образе Садовского – невозможно. С ребяческих лет я живу за кулисами нашего Малого театра и помню Прова Михайловича ясно, отчетливо не только на сцене, но и за кулисами, в уборной. Я помню его всегда сосредоточенное, серьезное выражение лица, его спокойную манеру одеваться, надевать парик, помню его манеру взять на палец темнокрасной краски, почти не глядя в зеркало, тронуть ею щеки и, нюхнув табаку, отправиться на сцену.
Из всех виденных мною актеров – русских, немецких, французских и итальянских – я решаюсь поставить рядом (по силе лица и таланта) с П. М. Садовским одного только Томазо Сальвини. Оба дорожили своими мощными лицами и не прятали их за слоем краски. Ум и талант обоих находились в удивительном равновесии. Изучая свои роли, они подходили к изображаемым характерам не окольными путями, а прямо, не мудрствуя лукаво, а потому и образы, созданные ими, выходили так полны, так ярки и вместе с тем так просты. Никогда ни одной лишней подробности, которая заслоняла бы общий рисунок характера, что зачастую встречается у актеров даровитых (особенно у немецких), но у которых ум преобладает над талантом.
(А. П. Ленский.Заметки о мимике и гриме. Сборник «А. П. Ленский. Статьи, письма, записки». «Academia», 1935 г., стр. 163–176.)
2
Ленский был огромным художником и режиссером. Он был необычайно чуток в определении способностей актера. Он умел, как никто, загораться актером, был ли это его ученик или нет, безразлично, умел разжечь в нем огонь, и если ученик разыгрывался, то Ленский, не отходя от него, во всем ему помогал. Но если он не оправдывал надежд Ленского и не был способен разжечься в той степени, как это было нужно Ленскому, он быстро охладевал к нему, актер переставал для него существовать. И сколько громадной боли пришлось пережить многим из тех, на кого Ленский перестал обращать внимание.
Для них это была настоящая трагедия. Помню, идет репетиция пьесы, в которой центральную роль играет актриса из тех, в ком Ленский разочаровался. Он на нее не глядит, только тяжко и нетерпеливо вздыхает, глаза у него «судачьи». Актриса, вся в пятнах, мечется по сцене, не находит образа, а Ленский не делает ей ни одного замечания. Я к нему: «Покажите же ей, она из себя выходит. Посмотрите, что с ней творится». – «Не могу, не могу я! – воскликнул Ленский: – это ведь дерево!» – «Но вы же режиссер – помогите». – «Идите, помогите вы – вы играли с Ермоловой, вы все помните, а я не могу».
И так и не помог исполнительнице. […]
Но если Ленский уверовал в кого-либо, видел, что тот растет, он внимательно следил за ним и не оставлял без указания ни одного движения, ни одной интонации, развивал жесты, мимику и во всем помогал ему. Так, со школьной скамьи Ленский уверовал в Пашенную, он много занимался с ней, находя, что из нее со временем получится подлинно трагедийная актриса. Когда она поступила в театр, он окружил ее заботливым вниманием, просил он и меня взять ее под свое покровительство и научить ее ряду мелочей, необходимых актрисе на сцене. В нее он верил до конца. И, когда он репетировал с теми, кого он чувствовал, он сам горел вдохновением и наэлектризовывал всех участников спектакля.
Ленский в каждом искал чего-нибудь нового и своеобразного. Помню, однажды, когда он ставил английскую пьесу «Хозяйка в доме», он дал мне, игравшей тогда молодые роли coquettes, роль старой леди, детьми которой были Рыбаков и Лешковская. Позвал меня к себе и говорит: «Дружочек мой, я никого не вижу, кроме вас; вы будете настоящей леди – сыграйте мне ее». – «Но, Александр Павлович, – возражаю я, – ведь это старуха. Я никогда их не играла и даже не могу себе представить, как их надо играть». – «Ничего, дружочек, ничего. Я двадцать лет тому назад начал играть Фамусова; покуда его обыграл, и сам стал стариком». – «Но я не хочу играть старух». – «Ну, для меня, голубчик, потешьте старика. У вас хорошо выйдет, да и я вам помогу».
На репетициях у меня не очень-то получалось. Пробовала я и хрипеть и шипеть, говорила сквозь зубы, старалась изменить свой звонкий молодой голос. Как будто и выходит старуха, но тут же сама чувствуешь, что «представляешь», а жизни, правды не получается. Ленский все успокаивает:
«Ничего, ничего – придет, все придет; только поменьше старайтесь».
Наступил спектакль. Приходит ко мне в уборную Александр Павлович.
«Ну-ка, дружочек, положите основной тон… Так! А теперь повернитесь ко мне».
Мазнул мне лицо два-три раза растушовкой, попудрил – «готово» – и убежал. Я обернулась к зеркалу, на меня смотрело совершенно старое лицо. «Так вот какой я буду в старости!» – подумала я. И не скрою – у меня навернулись слезы. Надела седой парик, и даже себе понравилась, и почувствовала себя совсем иной. В результате имела успех. Похвалила и пресса: «Совсем отошла от себя». После спектакля Ленский повел меня к себе и говорит:
«Ну, дружочек, вы хорошая, способная артистка, а когда перейдете на старух, – будете у нас второй Медведевой – ни у одной актрисы нет такого блестящего перехода, как у вас…»
И тут же после некоторой паузы предложил мне ряд ролей старух (Собачкину, Звездинцеву в «Плодах просвещения»). Но я решительно воспротивилась, так как не хотела еще переходить на другое амплуа.
Как мне ни больно было это предложение, я не могла сердиться на Ленского, к которому, как и большинство труппы, относилась с большим благоговением. Но были в труппе и такие, которые не могли простить Ленскому ни его экспериментов, ни его «разочарований». Особенно подогревал эти настроения Нелидов, [56]56
Видный чиновник конторы Императорских театров в Москве.
[Закрыть]который был обижен на Ленского. Нелидов же много делал, чтобы испортить отношения Ленского с недолюбливавшим его Теляковским. Со всех сторон росла интрига против гениального Ленского, которого, наконец, довели до того, что он подал в отставку и как актер и как режиссер. Его уход был непоправимым ударом для театра, – лишиться такого актера было невозможно. В театре многие сознавали это, но растерянность была так сильна, что никто ничего не предпринимал. Вероятно, были в театре и такие, которые радовались, что он ушел из главных режиссеров, были и подавленные горем, большинство же считало, что и нельзя просить старика вернуться – слишком надорваны его силы – и если он возвратится, это может кончиться для него гибелью.
Никто в театре не проявлял активности, – с этим я примириться не могла. Я пошла к Александру Александровичу Федотову и стала требовать, чтобы мы составили к Ленскому письмо, в котором от имени всей труппы сказали бы ему, что театр без него осиротеет, что все товарищи просят его вернуться назад. Если это обращение и не подействует, то Ленский, по крайней мере, получит моральное удовлетворение от сознания, что товарищи не хотят с ним расставаться. Что же касается сомнений в том, что не все согласятся подписать письмо, – я брала на себя добиться подписи от всех. Письмо было составлено. Вот его текст:
«Глубокоуважаемый Александр Павлович!
Как громом поразила всех нас весть о Вашем уходе из Малого театра на неопределенное время. Мы знаем, что Вы устали, что здоровье Ваше, а главное – нервы требуют продолжительного покоя, но, тем не менее, мы просто не можем примириться с мыслью, что Вы, один из славнейших представителей нашего театра и художественный наставник чуть ли не половины труппы, нас покидаете. Рискуя вызвать Ваш гнев, мы считаем себя вправе требовать, чтобы, как только здоровье и силы Ваши позволят, Вы тотчас вернулись к нам, а мы, Ваши товарищи, с тоскливым нетерпением и горячей любовью будем ждать Вас домой, в осиротевший без Вас Малый театр».
С болью вспоминаю, что не все в труппе с готовностью дали свои подписи под этим обращением; среди них были и «обиженные» режиссерством Ленского, но были и такие, которые многим были ему обязаны. Мне пришлось с несколькими из «колеблющихся» крупно поговорить, и большинство из них удалось убедить. Я же поехала на квартиру к Александру Павловичу и передала ему это письмо. Его кончина, которая вскоре последовала, потрясла всех, и хоть слабым утешением было сознание, что это товарищеское обращение его порадовало, и он обещал мне вернуться в Малый театр, как только уляжется горечь и позволит ему здоровье.
(А. А. Яблочкина.Воспоминания. Сборник «А. А. Яблочкина. К 50-летию сценической деятельности». Изд. «Искусство», 1937 г., стр. 56–62.)
3
В 1908 году Александр Павлович ушел от нас, полный сил и творческих замыслов. Его смерть потрясла всех, ибо с напряженным вниманием мы всегда следили за борьбой Ленского с бюрократизмом и невежеством конторы, косностью некоторых из товарищей и продажностью газетных репортеров. В разгаре этой борьбы он пал «великой жертвой маленьких людей» и их подлых интриг. После его смерти эта борьба продолжалась, только в других формах. Лично у меня создавалось такое впечатление, что какие-то «заботливые» руки хотели отодвинуть на второй план этот исключительный в истории русского театра образ.
Для нас, видевших его, память о нем еще слишкомсвежа, и в настоящий момент все рельефнее и ярче начинает вырисовываться эта своеобразная фигура; проходит целый ряд его кованых образов, полных благородного изящества, образов, которыми он приобщал своего зрителя к великой тайне творчества, а творчество его было многообразно и ярко. Он необыкновенно тонко отбирал, выцеживал и отстаивал все лучшее, что было в современности, – и бросал из горнила своей творческой кузницы уже иным, таящим будущее, своеобразным и новым, всегда идя впереди своего века.
Что в особенности останавливало на себе внимание зрителя – это его необычайная смелость в трактовке образов. Вот, например, Дудукин в «Без вины виноватых» – роль, которая на актерском языке всегда считалась «голубой» (невыигрышной); и кто бы мог сказать, что в этой роли Ленский будет иметь такой же успех, как и исполнительница роли Кручининой? А это было так. А если я назову исполнительницу – М. Н. Ермолову, – то, значит, исполнение Дудукина было необычайно ярким. В Дудукине Александра Павловича нас поражала привлекательная старомодность этого человека:он так отличался от всех этой старомодностью (конечно, и сердца!), что никогда не мог остаться незамеченным, и вполне была понятна его сцена с Кручининой во 2-м акте, во всякой другой трактовке звучащая некоторой навязчивостью. Светинцев в «Неводе» – крупнейший бюрократ: это – целая поэма влюбленной в себя глупости.Зрительный зал покатывался от хохота, когда Ленский еще не произносил ни одного слова, причем это было достигнуто только бесподобной мимикой артиста. Одет он был безукоризненно, внешность героя красиво-импозантная, но… глупость в лице, глазах, повороте, визитке, монокле, гладко причесанном проборе. Мне приходилось читать о знаменитой паузе Ленского в пьесе «Много шуму из ничего» в роли Бенедикта, этом его «гениальном создании», по признанию Амфитеатрова; пожалуй, я не смог бы представить себе, какова эта была пауза, если бы не мои наблюдения в «Неводе»: я был на сцене в то время, когда Ленский показывался в глубине ее и молча проходил анфиладу комнат. Я смотрел в зрительный зал и видел, как постепенно хмурые лица прояснялись, как появлялась на них улыбка, как эта улыбка ширилась, как по залу пробегал легкий смех и, наконец, по мере приближения Ленского к авансцене, зал начал хохотать.
А как создавались роли! Вот один образчик, связанный с «Неводом». Отдыхая летом, Александр Павлович встречает чиновника особых поручений при каком-то губернаторе и… начинает за ним буквально ухаживать, совершает с ним большие прогулки, не пропускает ни одной возможности видеться с ним, приглашает к себе, – словом, «ест его», по его собственному выражению, целиком, так как этот чиновник похож на его героя Светинцева. Когда перед началом сезона спросили у Ленского, как он проводил лето, – он сказал: «И хорошо и плохо! Плохо, потому что как каторжник в течение полутора месяцев был привязан к одному ничтожеству, а хорошо, потому что данных для Светинцева – море!»
Не могу не остановить внимание на образе, созданном Ленским совершенно исключительно, – это Прибытков Лавр Мироныч в пьесе Островского «Последняя жертва». Я иначе не могу определить характер этого его детища, как легкомыслие человека с мозгами набекрень.Чрезвычайно характерно, что даже цилиндр у него все время был набекрень.
Еще один образ – Анании Глаха (в «Измене» Сумбатова). Образ Ленского переливал красками: интонации, звучавшие тонким юмором, вдруг окрашивались глубокими и страстными всплесками очень коротких, но полных значения реплик, например: «Я растил и любил его больше сына», а игра лица, когда глаза, такие выразительные, вдруг куда-то пропадали, – ну, вот, точно искра ночью в поле… А диалог Анании – Ленского с Зейнаб – М. Н. Ермоловой! До сих пор звучат у меня в ушах эти непередаваемые интонации, от которых мороз проходил по коже, даже и тогда, когда много раз приходилось их слушать, стоя тут же рядом на сцене. От всех окружающих должна быть скрыта та громадная душевная буря, которую переживают эти не видавшие двадцать лет друг друга и закаленные в суровой жизненной борьбе люди. Ведь Анания вскормил ее родного сына, который был взят от нее вскоре после своего рождения и которого она сейчас увидит.
Зейнаб(Ермолова). Кто этот человек?
Отар – Бег.Он привел трех коней в дар твоему могуществу.
Анания(Ленский) [вырастая внутренно – М. Л.] Все кони хороши, великая царица. Но один из них – несравненной цены.
Зейнаб(Ермолова). Это могучий… боевой конь?
Анания(Ленский) [глубоко взволнованно – М. Л.] В нем течет царственная кровь семнадцати колен.
Зейнаб(Ермолова). Ты хорошо его знаешь?
Анания(Ленский) [со страстной преданностью и любовью – М. Л.]. Я растил и любил его больше сына.
Отар – Бег.Падишах будет доволен.
Зейнаб(Ермолова). Падишах будет доволен.
Анания(Ленский). [Глаза сверкнули ненавистью и пропали, на губах зазмеилась едва заметная улыбка – М. Л.] Уж не знаю, угодит ли он падишаху, но капли в нем нет крови ни арабской, ни персидской. В нем наша кровь. Мои сыновья лучше знают коня. Один из них объезжал коня.
Зейнаб(Ермолова). Который?
Анания(Ленский). [И интонация и мимика говорят: «Ты не ошиблась» – М. Л.] Тот, на кого ты глядишь.
Падал занавес.Большая пауза в зрительном, после которой раздавался взрыв аплодисментов.
При этом необходимо отметить, что во всех ролях, игранных Ленским, всегда отсутствовал какой бы то ни было нажим, шарж, никогда ничего не было сделано для внешнего успеха, для лишне сорванного хлопка.
Я не перечисляю целого ряда других образов, по поводу которых можно было бы написать целые трактаты.
Таков его никем не превзойденный Фамусов, о котором В. Дорошевич писал так: «Когда в Малом театре идет „Горе от ума“, я делаю все, чтобы попасть. Сажусь, закрываю глаза и слушаю, слушаю. Только слушаю, как музыку, – как читает Ленский». И лебединая песнь Александра Павловича – епископ Николас в «Борьбе за престол» Ибсена, где в течение всего акта кардинал борется со смертью. Боборыкин сказал Ленскому после этого спектакля: «Ну, Александр Павлович, вы так умираете на сцене в лице своего кардинала, что вам никакая смерть не покажется тяжелой. В пределах реальной правды высокая творческая виртуозность дальше не могла итти – это грани гениального перевоплощения». Это тем более ценно, что П. Д. Боборыкин был исключительно скуп на похвалы.
Этим я закончу мои краткие воспоминания об Александре Павловиче как об актере, прибавив, что он никогда не монополизировал прав на игранные им роли и очень часто передавал их молодежи.
(М. Ленин.Памяти учителя. Сборник «А. П. Ленский. Статьи, письма, записки». «Academia», М.—Л. 1935, стр. 493–499.)
4
Говоря о постановках Ленского, было бы уместно сказать, – как он исключительно внимательно относился к авторскому тексту.
Тонкий, яркий, громадный режиссер, по собственным рисункам и макетам которого писались декорации, по рисункам которого велась вся бутафорская работа и шились костюмы, – режиссер, сам писавший для «Кориолана» текст для каждого персонажа толпы, он все же не был соавтором!..Он считал, что ни актер, ни режиссер не имеют никакого права на текст автора, на перестановки в нем; между прочим, Ленский очень не любил «вымарки» и прибегал к ним в очень редких случаях, после многократного обсуждения и когда это действительно становилось совершенно необходимым и не вредило художественной ценности спектакля. Пусть публика судит о том, хорош или плох драматург, пусть критики его хулят, как хотят, но не дело актера или режиссера, поскольку к ним не обращался драматург, его исправлять или переделывать.
Сказка Островского «Снегурочка» была поставлена Александром Павловичем с большой любовью и имела шумный успех, не сходя с репертуара в течение ряда сезонов. Мажорное чувство, праздничность прихода весны пропитали в основе всю постановку. Яркость и неожиданность в трактовке образов, например, лешего – в виде пня и ослепительно белоснежного гиганта-Мороза, приковывали к себе внимание зрителя. Яркие солнечные краски и неожиданные превращения (например, падающее дерево, чтобы преградить дорогу Мизгирю; позднее это дерево загоралось множеством светлячков или вдруг превращалось в лешего, чтобы схватить Мизгиря) вводили зрителя в сказочный мир. Очень мягко, с большим настроением, создано было прощание леса со Снегурочкой. Голоса леса были даны учениками школы, которые внесли много любви и много хорошего неподдельного настроения. Позднее, в «Разрыв-траве» образы русской мифологии разработаны были Ленским так же смело, ярко и, как всегда, неожиданно интересно.
Не могу не отметить в связи с постановкой «Снегурочки» одного характерного эпизода. Дирекция императорских театров никогда не любила «поврежденных», а Александр Павлович для нее был таким. Им скучно было возиться с таким человеком. Чиновники не любили фантазеров, которые сегодня требуют одного, а завтра другого, – они любили людей, которые в математически-бухгалтерских выражениях расскажут, что будет в понедельник, что в пятницу и что в воскресенье. На генеральной репетиции перед поднятием занавеса долго искали Ленского и, наконец, нашли где-то в глубине сцены, сидящим на сложенных декорациях, беспомощного, – на глазах крупные слезы. Дело в том, что не было на сцене утвари, которая ему была нужна, и не были сделаны нужные поправки в костюмах, очень существенные и серьезные; дирекция все это обещала и, по обыкновению, ничего не сделала. Ленского выручил один из наших старых бутафоров:








