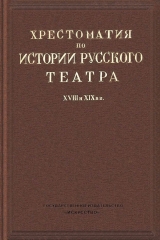
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Наконец, явилась русская, то-есть, из русской истории, трагедия Озерова «Димитрий Донской». [13]13
Озеров написал еще в 1798 году трагедию из русской истории «Ярополк и Олег», которая была играна, но успеха не имела. – С. А.
[Закрыть]Я играл ничтожное лицо князя Белозерского, а Яковлев – Димитрия Донского. Эта роль была его триумф; она восстановила его несколько пошатнувшуюся славу, и восторг публики выходил из всяких пределов. Много способствовало блистательному успеху Яковлева то, что тогда были военные обстоятельства: все сердца и умы были настроены патриотически, и публика сделала применение Куликовской битвы к ожидаемой тогда битве наших войск с французами. Когда, благодаря за победу, Димитрий Донской становится на колени и, простирая руки к небу, говорит:
Но первый сердца долг к тебе, царю царей!
Все царства держатся десницею твоей.
Прославь и возвеличь и вознеси Россию!
Сотри ее врагов коварну, горду выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки, ведайте – велик Российский бог!
такой энтузиазм овладел всеми, что нет слов описать его. Я думал, что стены театра развалятся от хлопанья, стука и крика. Многие зрители обнимались, как опьянелые, от восторга. Сделалось до тех пор неслыханное дело: закричали фора в трагедии. Актеры не знали, что делать. Наконец, из первых рядов кресел начали кричать: «Повторить молитву!» и Яковлев вышел на авансцену, стал на колени и повторил молитву. Восторг был такой же, и надобно правду сказать, что величественная фигура Яковлева в древней воинской одежде, его обнаженная от шлема голова, прекрасные черты лица, чудесные глаза, устремленные к небу, его голос громозвучный и гармонический, сильное чувство, с каким произносил он эти превосходные стихи, были точно увлекательны.
С появлением этой трагедии слава Яковлева вдруг выросла опять до тех размеров, каких она начинала достигать после первых трех его дебютов, и утвердилась прочным образом, что ты видишь и теперь; а я опять начал испытывать холодность большинства публики. Точно как будто нельзя было, восхищаясь Яковлевым, отдавать справедливость Шушерину! Только в трех ролях: Эдипа, Старна и Леара публика принимала меня благосклонно; даже по правде нельзя этого сказать про роль Старна, в которой я стал менее нравиться зрителям с тех пор, как мне не дали подарка за эрмитажный спектакль. Неприятность моего положения возвратилась вновь и не поправлялась. Так тянул я два года и сделался болен. Не думаю, чтоб моя болезнь происходила от постоянного душевного огорчения, как думал мой доктор, потому что я, пролежав три дня, стал скорее поправляться; но я решился наконец привести в исполнение мое давнишнее задушевное намерение. […] [14]14
Дальше рассказ ведется от лица С. Т. Аксакова, излагающего, как ему удалось увидеть Шушерина на сцене. – Прим. ред.
[Закрыть]
… «Господа! хотите ли, чтоб я вам помог? Я сделаю это очень охотно. И вот какая штука пришла мне в голову: дайте себе в бенефис небольшую комедию Коцебу „Попугай“; ее можно поставить в неделю, а я сыграю вам арапа Ксури. Москва очень любила меня в этой роли, и все из курьеза пойдут посмотреть, как шестидесятитрехлетний Шушерин сыграет восемнадцатилетнего негра!» Разумеется, и Злов и Мочалов не знали, как и благодарить за такое великодушное предложение. Они сию минуту отправились к директору А. А. Майкову, пересказали ему слова Шушерина, он, разумеется, охотно согласился, дело было улажено, и за постановку «Попугая» принялись усердно. Шушерин не позволил мне смотреть репетиции, и я тем с большим нетерпением и волнением ожидал этого спектакля. Недели через полторы новый деревянный большой арбатский театр наполнился зрителями, и бенефицианты, за всеми расходами, получили каждый по 2500 рублей ассигнациями. Гром рукоплесканий продолжался несколько минут, когда показался Ксури. Спина устала у бедного Шушерина от поклонов на все стороны; он же раскланивался по-старинному. С жадностью глотал я каждое его слово, ловил каждое движение, и вот что скажу об его мастерском исполнении этой весьма незначительной роли. Начну с того, что Шушерина нельзя было узнать. Голос, движения, произношение, фигура – все это принадлежало совершенно другому человеку; разумеется, чернота лица и костюм помогали этому очарованию: передо мною бегал не старик, а проворный молодой человек; его звучный, но еще как будто неустановившийся молодой голос, которым свободно выражались удивление, досада и радость дикаря, перенесенного в Европу, раздавался по всему огромному театру, и его робкий шопот, к которому он так естественно переходил от громких восклицаний, – был слышен везде. Какая-то ребяческая невинность, искренность была видна во всех его телодвижениях и ухватках! Как мастерски подрисовал он себе глаза, сделал их большими и на выкате. Как он умел одеться и стянуться! Ни малейшей полноты его лет не было заметно. Все видели здорового, крепкого, но молодого негра. Одним словом, это было какое-то чудо, какое-то волшебство, и публика вполне предалась очарованию. Все мои замечания состояли в том, что Шушерин иногда слишком много и живо двигался и слишком проворно говорил. Я на другой день сказал об этом Шушерину, и он откровенно признался, что мое замечание совершенно справедливо и что он для того позволил себе эту утрировку, чтоб скрыть свои 63 года.
…Увидев на сцене Шушерина в роли Ксури, я понял, отчего за тридцать лет пред сим он имел такой блистательный успех, отчего ничтожная роль составила ему тогда первоначальную славу. Ящик отпирается просто: играя дикого негра, Шушерин позволил себе сбросить все условные сценические кандалы и заговорил просто, по-человечески, чему зрители без памяти обрадовались и приписали свою радость искусству и таланту актера. И так по тогдашним понятиям надобно было быть диким, чтоб походить на сцене на человека.
… Великолепен, блистателен явился Ярб. Это был тоже арап, как и Ксури, но высокого роста и богатырского телосложения. Как умел так превращаться Шушерин, не понимаю. [15]15
Я спрашивал об этом Шушерина; он сказал мне, что эта перемена произошла от головного убора, в виде венца на голове, с длинными перьями, и что под подошвы ног были подложены картонные стельки. – С. А.
[Закрыть]Бешенство Ярба начинается с первых слов:
Се зрю противный дом, несносные чертоги,
Где все, что я люблю, немилосердны боги
Троянску страннику с престолом отдают!
и продолжается до последних стихов включительно:
Дидона!.. Нет ее!.. Я злобой омрачен;
Бросая гром, своим сам громом поражен.
Что сказать о целом исполнении этой, поистине, нелепейшей роли? Цельное исполнение ее невозможно. Ярб должен, буквально, беситься все четыре акта, на что, конечно, недостанет никакого огня и чего никакие силы человеческие вынесть не могут, а потому Шушерин, для отдыха, для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пьесы и характеру Ярба. Так поступал Шушерин всегда, так поступали другие, и так поступал Дмитревской в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину. Итак, можно только сказать, что все те места ярости, бешенства и жажды мщения, в которых Шушерин давал себе полную свободу, принимая это в смысле условном, были превосходны: страшны и увлекательны; в местах же, где он сберегал себя, конечно, являлась уже одна декламация, подкрепляемая мимикою, доводимою до излишества; трепета в лице и дрожанья во всех членах было слишком много; нижние, грудные тоны, когда они проникнуты страстью, этот сдерживаемый, подавляемый рев тигра, по выражению Шушерина, которыми он вполне владел в зрелых летах, изменили ему, и знаменитый некогда монолог:
Свирепа ада дщерь, надежда смертных – месть,
К чему несчастного стремишься ты привесть?
Лютейшей ярости мне в сердце огнь вливая,
Влечешь меня на все, мне очи закрывая… и пр. и пр.
не произвел такого действия, какого надеялся Шушерин и какое он производил некогда. Что касается до меня, не видавшего в Ярбе никого, кроме Плавильщикова, то я был поражен изумлением от начала до конца пьесы, восхищаясь и увлекаясь искусством, которое, властвуя неистощимым огнем души артиста, умело вливать его в эти варварские стихи, в эту бессмысленную дребедень каких-то страстей и чувств. Конечно, я составил себе такое высокое предварительное понятие об игре Шушерина в Ярбе и особенно в том месте, в котором он обманул Дмитревского, что настоящее исполнение роли меня не вполне удовлетворило; но теперь, смотря на целую пьесу и на лицо Ярба уже не теми глазами, какими смотрели все и я сам за сорок три года тому назад, я еще более удостоверяюсь, что только великий артист мог производить в этой пьесе такое впечатление, какое производил Шушерин. Он же сам был решительно недоволен собою и сожалел, что явился в первый раз по возвращении из Петербурга перед московской публикой (появление в роли Ксури он считал шуткою, добрым делом) в такой роли, которой ему уже не следовало играть. Публика же, напротив, была в полном восторге, за исключением весьма немногих людей, слегка заметивших кое-какие недостатки.
(С. Т. Аксаков.Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости. Собрание сочинений, т. III, М., 1895, стр. 94-105, 113–114, 117–118.)
(1749–1813) (1760–1812)
Я видел Плавильщикова в первой моей молодости (с 1805 по 1807 г.), видел его на сцене и в обществе и по тогдашней моей страсти к театру изучал его как человека и как актера так внимательно, что записывал его суждения и разговоры, отмечая те места в его ролях, в которых он мне больше нравился. В то время казался он мне актером необыкновенным, неподражаемым и только впоследствии, при сравнении игры его с игрою других актеров, наших и иностранных, я стал замечать, что иные роли он мог бы исполнить с большим чувством и соображением, – не говорю с большей силой и одушевлением, – потому что Плавильщиков обладал этими качествами даже в излишней степени. Я видал его в ролях Ярба, Росслава, Тита, Эдипа, Беверлея, Ермака, Мейнау, Доссажаева и купца Бота и до сих пор не забыл еще ни его произношения, звучного и ясного, ни его телодвижений. Часто встречался я с ним у князя Михаила Александровича Долгорукова, которого он был задушевным другом и за столом которого занимал всегда почетнейшее место. Плавильщиков был человек чрезвычайно умный, серьезный, начитанный, основательно знал русский язык, литературу и говорил мастерски. Физиономия его свободно и естественно выражала все страсти и ощущения души, кроме радости и удовольствия, которых она никогда выразить не могла. Я заметил, что он был несколько самолюбив и предубедителен. Но разве актер может быть не самолюбив и не иметь предубеждений? Он не любил Яковлева и величал его неучем, не любил Шушерина, в игре которого не находил увлечения и чувствительности, и называл его по игре и характеру школьником Дмитревского; а Сахаров с женою, [16]16
Урожденною Синявскою, занимавшею прежде первые роли в трагедиях. Впоследствии, во время появления на сцене Семеновой и Вальберховой, мы видели ее в ролях наперсниц, которые принимала она на себя единственно по убеждению кн. Шаховского, чтоб содействовать на сцене молодым актрисам. Она прекрасно читала стихи. – С. Ж.
[Закрыть]по мнению его, были не что иное, как выпускные куклы.
Несмотря на эти недостатки, до искусства не относящиеся, Плавильщиков был талант во всем смысле слова и заслуживал вполне свою репутацию и уважение, которое к нему имели. В то время, когда по приезде моем сюда, в Петербург, я ознакомился с здешним театром и так близко сошелся с его начальством, я нередко говорил о Плавильщикове с князем Шаховским и удивлялся, как это дирекция оставляет такого человека заброшенным в Москве, тогда как он мог быть полезен в Петербурге не только для сцены, но и для театральной школы в качестве преподавателя декламации. Князь Шаховской прежде отшучивался от прямого ответа, а наконец как-то проговорился:
– Ну, что ты прикажешь делать с этим московским бригадиром? Живут привольно, своим домком, обленились и разбогатели, послушать их, так на нашей сцене хоть трава расти. Оно бы, конечно, лучше, да не в ноги же ему кланяться: «батюшка, Петр Алексеевич, пожалуйте к нам и пособите горю».
Из последних слов я заключил, что Плавильщикову были деланы предложения о перемещении его в Петербург, но что он отклонил их.
Никто не вправе требовать полной веры к своим суждениям, рассуждениям и особенно осуждениям без доказательств; а между тем, какие можно представить доказательства, когда дело идет о достоинствах или недостатках артистов сценических, сошедших с поприща сцены и жизни? Какие, повторяю, можно представить доказательства их искусства, когда это искусство не оставляет по себе памятников, никакого следа и умирает вместе с артистом? Это звук колокола, исчезающий в воздухе. Мне скажут: мнение современников; но мнение современников часто пристрастно и несправедливо; да и может ли быть основательно мнение в таком деле, которое зависит от вкуса, прихоти, степени образованности, образа воззрения ценителей артиста и чаще от их личных к нему отношений?
Вот почему, не имея данных, нельзя быть довольно осторожну и добросовестну в суждениях об умершем актере. Легко сказать: Шушерин был хороший актер, а Плавильщиков нет, или обратно; но на чем может быть основано такое суждение? На сказаниях таких-то и таких-то лиц? Но какую степень доверенности приобрели эти лица, чтобы им верить на слово? Для Николая Ивановича Кондратьева, известного своим фанатизмом к театру, Мочалов-отец был первым трагедиантом в свете, и ни Плавильщиков, ни Шушерин, ни Яковлев, по собственному его выражению, не годились ему в подметки. Будь этот Николай Иванович в высшем кругу знакомства, умей он приобрести доверенность к своему знанию и, главное, пиши он лучше, нежели писал он свои нелепые послания, то немудрено, что мы давно уж читали бы, что Мочалов был первый трагический актер в России и заткнул (как говорил он) за пояс Яковлева. Нет сомнения, нашлись бы люди, которые поверили бы биографии, напечатанной самовидцем, и вот приговор Яковлеву готов: суди потомство!
Ведь умели же напечатать, что Плавильщиков в роли Эдипа ползал на четвереньках, а Яковлев в роли Тезея произносил известные стихи: «Мой меч союзник мне» и пр. с неистовым криком, беснуясь и выходя из себя. Плавильщиков на четвереньках в роли Эдипа! Яковлев – сорвавшийся с цепи безумец в роли Тезея!.. Я видел Плавильщикова в Москве в роли Эдипа в два первые представления этой трагедии в 1805 году и был свидетелем, как он восхитил всех простотою и величественною игрою своею; да и мог ли играть иначе единственный в то время защитник простоты и естественности на театральной сцене? Правда, некоторые стихи, как то:
Храм Эвменид! Увы! Я вижу их: они
Стремятся в ярости с отмщением ко мне:
В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны!
или в импрекациях сыну:
Тебя земля не примет.
Из недр извергнет труп и смрад его обымет!
произносил он с излишним одушевлением, чтобы не сказать горячностью, в чем извиняет его ситуация персонажа; но ползанья на четвереньках я не заметил, да едва ли заметил его и кто-нибудь из тысячи наполнявших театр зрителей. Видел я также, и не один раз, Яковлева в роли Тезея, и отступил бы от правды, если б решился сказать, что Яковлев был в ней дурен и бесновался без причины; напротив, Яковлев не любил этой роли и не мог любить ее, потому что она не согласовалась с его талантом, не заключая в себе развития ни одной страсти; а в тех ролях, которые были ему не по нраву, он играл без дальнего одушевления и старался только сохранить приличные им благородство и важность. Он уверял, что роль Тезея принадлежит по всему праву актеру Глухареву, обыкновенному его наперснику:
– Мужик большой, статный, красивый, – говорил Яковлев, – чем не Тезей? Ведь передал же я ему оперную роль Ильи-богатыря: там, по крайней мере, надобно сражаться с разбойниками да ломать деревья, а тут и того нет. Право, скоро заставят играть Видостана в «Русалке».
Во избежание таких же поверхностных Суждений о наших трагических актерах я поставил себе правилом говорить о них не по рассказам других, а на основании сделанных мною самим замечаний. Для совершеннейшего понятия об игре их надобно было бы сделать сравнение между ними в одних и тех же ролях и тех же сценах, в которых они преимущественно снискали себе репутацию; но я не в силах предпринять этот труд, да и к чему бы послужил он? Классическая трагедия более у нас не существует; это мертвая буква на нашем театре; следовательно, ни в примерах, ни в поучениях нет надобности. Если же для того, чтобы похвастаться памятью, в чем иные не оставят упрекнуть меня, то в том нет большого достоинства. Бесполезные знания не уважаются. Впрочем, вот несколько сцен, давно разобранных мною во всей подробности. Пусть этот сравнительный разбор послужит если не в поучение настоящим актерам нашим, то, по крайней мере, в защиту знаменитым их предшественникам и к удовлетворению любопытства немногих любителей старины.
Беру, например, некоторые сцены из роли Эдипа, которая прославила игравших ее в одно почти время Шушерина в Санкт-Петербурге и Плавильщикова в Москве.
Вот выступает на сцену Эдип – Шушерин:
Постой, дочь нежная преступного отца,
Опора слабая несчастного слепца, —
Печаль и бедствия всех сил меня лишили!
Эти стихи произносил Шушерин слабым, болезненным, совершенно изнемогающим голосом, едва-едва передвигая ноги и опираясь трепещущею рукою на Антигону. На слове всехон делал ударение и заметно возвышал голос, но затем тотчас же понижал его.
Плавильщиков входил, также опираясь на Антигону, но подходка его была несколько тверже, рука не трепетала и, по свойству своего органа, он говорил не так слабо, хотя печально и прерывающимся от усталости голосом, однако без признаков отчаяния, как человек, привыкший к своему положению.
Печаль и бедствия – всех сил меня лишили,
и на все последнее полустишие он делал сильное ударение.
Засим:
Видала ль ты, о дочь, когда низвергнут волны
Обломки корабля?..
и далее
Вот жизнь теперь моя!
Этим стихам придавал Шушерин какую-то грустную мечтательность, а последнее полустишие выражал так, как будто все происшествия жизни царственного страдальца вдруг, одно за другим, ожили в его воображении. Он не обращался к дочери с этим уподоблением себя обломку корабельному, но, погрузившись в грустную думу, как бы в полусне, тихо и медленно, с легким наклонением головы произносил:
Вот жизньтеперь моя!
Напротив, Плавильщиков, начитавшийся Софокла и не допускавший никакой мечтательности в роли грека Эдипа, передавал эти стихи очень просто, с чувством одной только печальной существенности, в буквальном их значении и уподоблении, обращаясь к дочери и как бы желая вразумить ее в истину этого уподобления:
Вотжизнь теперь моя.
При извещении Антигоны, что Эдип находится близ храма Эвменид, Шушерин, верный своему понятию о роли Эдипа, как изнемогшего и дряхлого старца, произносил известные стихи:
Храм Эвменид! Увы! Я вижу их: они
Стремятся в ярости с отмщением ко мне:
В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны!
не вставая с места, с сильным восклицанием на первом полустишии: «Храм Эвменид!» а затем вдруг понизив голос и с содроганием протягивая вперед руки, как бы стараясь защититься от преследующих его фурий, отрывисто продолжал:
… Увы! я вижу их: они
Стремятся в ярости с отмщением ко мне, —
и опять, постепенно возвышая голос:
В руках змеи шипят, их очи раскаленны…
и, наконец, всплеснув руками, разражался отчаянным воплем:
И за собой влекут все ужасы геенны!
Но Плавильщиков играл эту сцену иначе: с страшным восклицанием «Храм Эвменид!» вскакивал он с места и несколько секунд стоял, как ошеломленный, содрогаясь всем телом. Затем мало-помалу приходил в себя, устремлял глаза на один пункт и, действуя руками, как бы отталкивая от себя фурий, продолжал дрожащим голосом и с расстановками:
… Увы!.. я вижу их… они
Стремятся в ярости… с отмщением ко мне:
глухо и прерывисто:
В руках – змеи шипят… их очи раскаленны,
усиленно:
И за собой влекут…
в крайнем изнеможении:
Все ужасы геенны!
и с окончанием стиха стремительно упадал на камень.
Гора ужасная, несчастный Киферон!
Ты первых дней моих пустынная обитель,
Куда на страшну смерть изверг меня родитель.
Скажи,пещер твоих во мрачной глубине
Скрывала ль ты когда зверей, подобных мне?
Это обращение к Киферону Шушерин обыкновенно произносил так: первые три стиха печально, несколько мечтательно, с горьким воспоминанием, делая ударение на словах ты скажи,а последний при возвышении голоса, с чувством сожаления о невольных преступлениях и как будто с ропотом на предопределение судеб, с сильным ударением на словах: подобных мне.
Плавильщиков же в обращении к Киферону Эдипа видел только выражение раскаивающегося преступника, справедливо наказанного богами и покорного их воле, а потому передавал все четверостишие в этом смысле. Голосом слабым, но решительным, без задумчивого мечтания и не придавая никакого постороннего значения стихам:
Гора ужасная, несчастный Киферон
………………………………………
Видала ль ты когда зверей, подобных мне?
произносил он так, как будто хотел сказать: «ну, есть ли на свете подобный мне злодей?»,а не так, как разумел их Шушерин: т. е. «ну, есть ли на свете подобный мне несчастливец?»
Здесь кстати, вспомнить о Яковлеве. Он прекрасно читал в «Эдипе» все те стихи, которые наиболее казались ему поэтическими, и от обращения к Киферону бывал в восхищении; проклятия Полинику декламировал он мастерски, с слезами на глазах, и заставлял нас плакать. Между прочим, я живо помню, с каким глубоким чувством и с какой благородной греческой простотой произносил он два стиха:
Родится человек лет несколько поцвесть,
Потом – скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть!
и рыдал как ребенок.
По отъезде Шушерина в Москву комику Рыкалову, имевшему пристрастие к прежнему своему амплуа благородных отцов, [17]17
Амплуа, из которого насильно вытащил его князь Шаховской и сделал из ничего не значущего актера одного из величайших классических комиков в свете. Так отзывались о нем и старые французские актеры: Ларош, Дюкроаси и Делиньи; но Рыкалов не очень уважал свой талант комика и почитал себя отличным драматическим актером. На другой день своего бенефиса на репетиции спрашивал он у некоторых актеров: как, по их мнению, он сыграл Эдипа? «Ну, точно, батюшка, – отвечала ему простодушная К. И. Ежова – как из мешка вылезал», разумея сцену в «Скапеновых обманах», где Рыкалов в роли старого скряги Геронта был превосходен и, прибитый Скапеном в мешке, в который его засадили, вылезал из него с необыкновенно комическим видом, заставлявшим весь театр хохотать до упаду. Комик Бобров был также некогда актером драматическим и в ролях Омара и после Мамаева был недурен. – С. Ж.
[Закрыть]вздумалось сыграть роль Эдипа в свой бенефис. По этому случаю мы стали уговаривать Яковлева, чтобы, лучше он сыграл Эдипа, в том убеждении, что он произведет восторг.
– Благодарю за предложение, – отвечал он. – Этого только и недоставало мне: привязать седую бороду и надеть лысый парик! Пусть роль останется за Рыкаловым.
В самом деле, Яковлев имел какое-то отвращение от седых бород; даже в роли первосвященника Иодая он не хотел подчиниться обыкновению и играл ее в черной, как смоль, бороде.
Но возвратимся к «Эдипу».
До сих пор в сценах с дочерью преимущество, кажется, должно оставаться за Шушериным; но зато в сценах с Креоном и Полиником Плавильщиков, по мнению моему и многих театралов того времени, был превосходнее своего соперника, потому что в этих сценах требовалось от актера больше силы, увлечения и достоинства, которыми обладал он с избытком и чего Шушерину в классических трагедиях иногда недоставало. Эти сцены, конечно, и Шушерин играл прекрасно, потому что дурно играть не мог; талант его был безукоризненно ровен; он не падал, как Плавильщиков и особенно Яковлев, но зато и не восторгал никогда зрителей в такой степени, как восторгали последние. Вот Эдип – Плавильщиков в сцене с Креоном: он старался приблизиться, сколько позволяла ему слепота, к Креону, и с видом глубокого презрения и уверенности, что Креон способен на всякое постыдное дело, сначала глухим, прерывающимся голосом, а после постепенно возвышая его, произносил:
Иль по следам моим твойцарь тебя прислал,
Чтобна челе моем тыгрусть мою читал?
Чтобвидел нищету,в которой я скитаюсь,
И как народамия всеми отвергаюсь…
с горькой иронией:
Иль лучше ты скажи, что волею своей
Пришел– увериться о горести моей…
с гордою решимостью:
Но не увидишь ты ни слезмоих, ни стона;
резко:
Нет– ими веселить не буду я
с глубочайшим презрением:
Креона!
с печальным убеждением:
Давно уже, давно Эдип тебя проник!
Наконец, следующие стихи были торжеством декламации Плавильщикова:
Хотя и в нищете, но не сравнюсь с Креоном!
с величайшим достоинством:
Я был царем, – а ты…
с негодованием и отвращением:
… Лишь ползаешь пред троном.
Шушерин этой сцене придавал какую-то излишнюю чувствительность; например, при стихе:
Чтоб видел нищету, в которой я скитаюсь,
хватался за свое рубище и показывал его Креону, а при стихах:
Но не увидишь ты ни слезмоих, ни стона;
Нет– ими веселить не буду я Креона!
утирал глаза, как бы желая скрыть от Креона невольно текущие слезы, и говорил с едва удерживаемым рыданием. Произнося стих:
Я был царем, – а ты лишь ползаешь пред троном.
он при первом полустишии глубоко вздыхал и затем уже оканчивал его с видом отвращения и презрения. Все это, вообще исполненное мастерски, производило, конечно, эффект удивительный; но была ли в такой декламации истина?
Всю сцену Эдипа с Полиником, в 4 явлении IV действия, Плавильщиков играл с необыкновенным одушевлением и особенно был превосходен в знаменитой импрекации:
Меня склонить к себе ты тщетно уповаешь.
Какое чувство, какой огонь, хотя и старческий! Какая энергия и какое достоинство! В этой импрекации он был истинный царь и вместе жестоко оскорбленный отец.
Сей скиптр, который мне столь щедро предлагаешь,
с горьким упреком:
Не я льоставил вам, не я ливам вручил?
Не я лидней моих покой вам поручил?
грозно:
Коль смеешь ты – на мне останови свой взор;
пылко и с большим чувством:
Зриноги ты мои, скитаясь изъязвленны,
постепенно возвышая голос:
Зрируки, милостынь прошеньем утомленны!
Ты зриглаву мою, лишенную волос…
с выражением скорби и жестокого страдания:
Их иссушила грусть, и ветер их разнес.
Пауза – и далее с ироническим упреком:
Тем временем, тебя как услаждала нега,
Твой изгнанный отец, без пищи, без ночлега,
Не знал, куда главу несчастну преклонить…
Иди, жестокий сын…
Грозно и с напряжением голоса:
Как без пристанища скитался в жизни я,
По смерти будет так скитаться тень твоя;
Без гроба будешь ты…
с выражением величайшего гнева и как бы вне себя:
Тебя земля не примет,
От недр отвергнет труп, и смрад его обымет!
При последнем полустишии Плавильщиков превосходил себя. Нельзя себе представить выражения лица его. Чувство ужаса, отвращение, омерзение отражались на нем, как в зеркале. А пантомима? Он отворачивал голову и действовал руками жест, как бы желая оттолкнуть от себя труп, зараженный смрадом. Но Плавильщиков имел огромные природные способности – звучный голос, сильную грудь, произношение огненное, которых, повторяю, у Шушерина не было, и он заменял их умом, искусством и, так сказать, отчетливою отделкою своей роли. В местах патетических он как будто бы, говоря технически, захлебывался; но для большей части зрителей этот недостаток (вероятно, следствие старости) был почти незаметен. Роль Эдипа понимал он согласно с своими средствами; но такова была прелесть игры его в этой роли, что хотя он придал ей излишнюю и несообразную с характером древних греков чувствительность и некоторые стихи передавал уже слишком в буквальном их значении, т. е. тоном одряхлевшего и нищего старца:
Зри ноги ты мои, скитаясь изъязвленны,
Зри руки, милостынь прошеньем утомленны!
Ты зри главу мою, лишенную волос…
Их иссушила грусть, и ветер их разнес,
однакож производил эффект невообразимый, а последующие стихи продолжал голосом, задушаемым слезами:
Как без пристанища скитался в жизни я,
По смерти будет так скитаться тень твоя;
Без гроба будешь ты…
и оканчивая тираду с каким-то воплем отчаяния и смертельного ужаса:
Тебя земля не примет,
От недр отвергнет труп, и смрад его обымет!
Сорок три года прошло с того времени, как я в последний раз видел Шушерина на сцене, в роли Эдипа, и до сих пор не могу забыть его: я как теперь его вижу… Нынче вошли в употребление, или скорее, в злоупотребление слова: пластика, пластичность.Говорят: какая у такого-то пластика, как такой-то пластичен! А на поверку выходит, что эти такие-тоединственно рисуются на сцене, точно так же, как и сама Рашель, хотя она, разумеется, в превосходнейшей степени.
(С. П. Жихарев.Записки современника, т. II, «Academia», М.—Л., 1934, стр. 334–349.)








