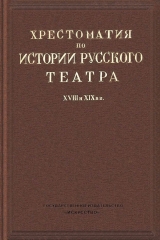
Текст книги "Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков"
Автор книги: Юрий Соболев
Соавторы: Николай Ашукин,Всеволод Всеволодский-Гернгросс
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Разговор стал упорнее со стороны Щепкина, и как разумеется, дерзче со стороны директора.
– Я должен буду беспокоить министра, – заметил артист.
– Хорошо, что вы сказали: я ему доложу о деле, и вам будет отказ.
– В таком случае я подам просьбу государю.
– Что вы это! с такими дрязгами соваться к его императорскому величеству?! Я, как начальник, запрещаю вам.
– Ваше превосходительство, – сказал, откланиваясь, Щепкин, – деньги эти принадлежат, в этом и вы согласны, бедным артистам; они мне поручили ходатайствовать об их получении; вы мне отказали и обещаете отказ министра. Я хочу просить государя, – вы мне запрещаете, как начальник… Мне остается одно средство: я передам все дело в «Колокол»…
– Вы с ума сошли! – закричал Гедеонов. – Вы понимаете ли, что вы говорите?! Я вас велю арестовать. Послушайте, я вас извиняю только тем, что вы сгоряча это сказали. Из эдаких пустяков делать кутерьму, как вам не стыдно?! Приходите завтра в контору, я посмотрю.
На другой день сумма была назначена артистам, и Щепкин поехал домой.
…А как-то потухла его жизнь?! Декорации, актеры и самая пьеса еще раз изменились… Что делал старик, доживший, с одной стороны, до осуществления своей вечной мечты об освобождении крестьян, – в среде пресыщенного либерализма, патриотизма, кровожадного по службе, в среде доносов университетских, литературных, окруженный изменниками своей юности, своих благороднейших стремлений, рукоплескающими и возгласам Писемского, статьям «Московских Ведомостей» и казням Муравьева?
10 сентября 1863 г.
(А. И. Герцен.Полное собрание соч. и писем под редакцией М. К. Лемке, т. XVI, П 1920, стр. 504–509.)
(1800–1848) (1802–1853)
1
Гамлет!.. понимаете ли вы значение этого слова? – оно велико и глубоко: это жизнь человеческая, это человек, это вы, это я, это каждый из нас, более или менее в высоком или смешном, но всегда в жалком и грустном смысле… Потом «Гамлет» – это блистательнейший алмаз в лучезарной короне царя драматических поэтов, увенчанного целым человечеством и ни прежде, ни после себя не имеющего себе соперника, – «Гамлет» Шекспира на московской сцене!.. Что это такое? спекуляция на мировое имя, жалкая самонадеянность, слепое обольщение самолюбия, долженствовавшее в наказание лишиться восковых крыл своих от палящего сияния солнца, к которому оно так легкомысленно осмелилось приблизиться?.. Гамлет – Мочалов. Мочалов, этот актер, с его, конечно, прекрасным лицом, благородной и живой физиономией, гибким и гармоническим голосом, но вместе с тем и небольшим ростом, неграциозными манерами и часто певучей дикцией; актер, конечно, с большим талантом, с минутами высокого вдохновения, но вместе с тем никогда и ни одной роли не выполнивший вполне и не выдержавший в целом ни одного характера; сверх того актер с талантом односторонним, назначенным исключительно для ролей только пламенных и исступленных, но не глубоких и многозначительных, – и этот Мочалов хочет выйти на сцену в роли Гамлета, в роли глубокой, сосредоточенной, меланхолически-желчной и бесконечной в своем значении… Что это такое? добродушная и невинная бенефициантская проделка?.. Так или почти так думала публика и чуть ли не так думали и мы, пишущие теперь эти строки под влиянием тех могущественных впечатлений, которые, поразивши однажды душу человека, никогда не изглаживаются в ней и которые привести на память – значит снова возобновить их в душе со всею роскошью и со всей свежестью их сладостных потрясений… Мы надеялись насладиться двумя-тремя проблесками истинного чувства, двумя-тремя проблесками высокого вдохновения, но в целой роли думали увидеть пародию на Гамлета и – обманулись в своем предположении: в игре Мочалова мы увидели если не полного и совершенного Гамлета, то потому только, что в превосходной вообще игре у него осталось несколько невыдержанных мест; но он бросил в глазах наших новый свет на это создание Шекспира и дал нам надежду увидеть настоящего Гамлета, выдержанного от первого до последнего слова роли.
Назад тому почти год, января 22, пришли мы в Петровский [38]38
Петровский – Большой театр. – Прим. ред.
[Закрыть]театр на бенефис Мочалова, для которого был назначен «Гамлет» Шекспира, переведенный Н. А. Полевым. Мнением большинства публики, которое отчасти разделяли и мы, начали мы эту статью. Любя страстно театр для высокой драмы, мы болели о его упадке, и в плоских водевильных куплетах и неблагопристойных каламбурах нам слышалась надгробная песнь, которую он пел самому себе. Мы всегда умели ценить высокое дарование Мочалова, о котором судили по тем немногим, неглубоким и вдохновенным вспышкам, которые западали в нашу душу, с тем, чтобы никогда уже не изглаживаться в ней; но мы смотрели на дарование Мочалова, как на сильное, но вместе с тем и нисколько не развитое, а вследствие этого искаженное, обессиленное и погибшее для всякой будущности. Это убеждение для нас было горько, и возможность разубедиться в нем представлялась нам мечтой сладостной, но несбыточной. Так понимали Мочалова мы, – мы, готовые сидеть в театре три томительнейших часа, подвергнуть наше эстетическое чувство, нашу горячую любовь к прекрасному всем оскорблениям, всем пыткам со стороны бездарности аксессуарных лиц и тщательных усилий главного – и все это за два, за три момента его творческого одушевления, за две, за три вспышки его могучего таланта. Как же понимала его, этого Мочалова, публика, которая ходит в театр не жить, а засыпать от жизни, не наслаждаться, а забавляться, и которая думает, что принесла великую жертву актеру, ежели, обаянная магической силой его вдохновенной игры, просидела смирно три часа, как бы прикованная к своему месту железной цепью? Что ей за нужда жертвовать несколькими часами тяжелой скуки для нескольких минут высокого наслаждения?.. Да, Мочалов все падал и падал во мнении публики и, наконец, сделался для нее каким-то приятным воспоминанием, и то сомнительным… Публика забыла своего идола, тем более, что ей представился другой идол – изваянный, живописный, грациозный, всегда себе равный, всегда находчивый, всегда готовый изумлять ее новыми, неожиданными и смелыми картинами и рисующимися положениями… Публика увидела в своем новом идоле не горделивого властелина, который дает ей законы и увлекает ее зыбкую волю своей могучей волей, но льстивого услужника, который за мгновенный успех ее легкомысленных рукоплесканий и кликов старался угадывать ее ветреные прихоти… Вот тогда-то раздались со всех сторон ее холодные возгласы: «Мочалов – мещанский актер, что за средства, что за рост, что за манеры, что за фигура!» и тому подобное. Публика снова увидела своего идола, снова встречала его и приветствовала его рукоплесканиями, снова приходила в восторг при каждой его позе, при каждом его слове; но она уже чувствовала разделение в самой себе, чувствовала, что восторг ее натянут, что, словом, все то же, да как-то не то… Но Мочалову от этого было не легче: публика становилась к нему холоднее и холоднее, и только немногие души, страстные к сценическому искусству и способные понимать всю бесценность сокровища, которое, непризнанное и непонятое, таилось в огненной душе Мочалова, скорбели о постепенном упадке его таланта и славы, а вместе с ними и о постепенном упадке самого театра, наводненного потоком плоских водевилей…
Все, что мы теперь высказали, все это проходило у нас в голове, когда мы пришли в театр на бенефис Мочалова. Нас занимал интерес сильный, великий, вопрос в роде – «быть или не быть». Торжество Мочалова было бы нашим торжеством, его последнее падение было бы нашим падением. Мы о нем думали и то, и другое, и худое, и хорошее, но мы все-таки очень хорошо понимали, что его так называемые прекрасные места в посредственной вообще игре были не простой удачей, не проискриванием тепленького чувства и порядочного дарования, но проблеском души глубокой, страстной, вулканической, таланта могучего, громадного, но ни мало не развитого, не воспитанного художническим образованием, наконец, таланта, не постигающего собственного величия, не радеющего о себе, бездейственного. Мелькала у нас в голове еще и другая мысль: мысль, что этот талант, сверх всего сказанного нами, не имел еще и достойной себе сферы, еще не пробовал своих сил ни в одной истинно художественной роли, не говоря уже о том, что он был несколько сбит с истинного пути надутыми классическими ролями, подобными роли Полиника, которые были его дебютом и его первым торжеством при появлении на сцену. Впрочем, мы не вполне сознавали эту истину, которая для нас очевидна, потому что благодаря Мочалову мы только теперь поняли, что в мире один драматический поэт – Шекспир и что только его пьесы предоставляют великому актеру достойное его поприще, и что только в созданных им ролях великий актер может быть великим актером. Да, теперь это для нас ясно, но тогда… Зато тогда мы чувствовали, хотя и бессознательно, что Гамлет должен решить окончательно, что такое Мочалов и можно ли еще публике посещать Петровский театр, когда на нем дается драма…
Теперь мы скажем слова два об общем характере игры Мочалова в это первое представление и тотчас перейдем к последующим. Мы видели Гамлета, художественно созданного великим актером, следовательно, Гамлета живого, действительного, конкретного, но не столько шекспировского, сколько мочаловского, потому что в этом случае актер самовольно от поэта придал Гамлету гораздо более силы и энергии, нежели сколько может быть у человека, находящегося в борьбе с самим собой и подавленного тяжестью невыносимого для него бедствия, и дал ему грусти и меланхолии гораздо менее, нежели сколько должен ее иметь шекспировский Гамлет. Торжество сценического гения состоит в совершенной гармонии актера с поэтом, следовательно, на этот раз Мочалов показал более огня и дикой мощи своего таланта, нежели умения понимать играемую им роль и выполнять ее вследствие верного о ней понятия. Словом, он был великим творцом, но творцом субъективным, а это уже важный недостаток. Но Мочалов играл еще в первый раз в своей жизни великую роль и был ослеплен ее поэтической лучезарностью до такой степени, что не мог увидеть ее в ее истинном свете. Впрочем, делая против него такое обвинение, мы разумеем не целое выполнение роли, но только некоторые места из нее, как то: сцену по уходе тени, пляску под хохот отчаяния в третьем акте; потом последовавшую затем сцену с Гильденштерном и еще несколько подобных мгновений. И все это было сыграно превосходно, но только во всем этом видна была более вулканическая сила могущественного таланта, нежели верная игра. Но сцены: с Полонием, потом с Гильденштерном и Розенкранцем во втором акте, сцена с Офелией в третьем, сцена с Розенкранцем и королем в четвертом, сцена на могиле Офелии, потом с Осриком в пятом акте – были выполнены с высочайшим художественным совершенством. Мы хотим только сказать, что игра не имела полной общности.
… Мы увидели его в роли Гамлета в девятый раз, и если бы захотели дать полный и подробный отчет об этом девятом представлении, то наша статья вместо того, чтобы приближаться к концу, только началась бы еще настоящим образом. Но мы ограничимся общей характеристикой и указанием на немногие места.
Никогда Мочалов не играл Гамлета так истинно, как в этот раз. Невозможно вернее ни постигнуть идеи Гамлета, ни выполнить ее. Ежели бы на этот раз он сыграл сцену с Горацио и Марцеллом, пришедшими уведомить его о появлении тени, так же превосходно, как во второе представление, и если бы в его ответах тени слышалась та же небесная музыка страждущей любви, какую слышали мы во второе же представление; если бы он лучше выдержал свою роль при клятве на мече и монолог «Быть или не быть»; если бы в сцене с могильщиками он был так же чудесен, как во всем остальном, и если бы в сцене на могиле Офелии стихи – «Но я любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут» были произнесены им так же вдохновенно, как в первое представление, – то он показал бы нам крайние пределы сценического искусства, последнее и возможное проявление сценического гения. Почти с самого начала заметили мы, что характер его игры значительно разнится от первых представлений: чувство грусти вследствие сознания своей слабости не заглушало в нем ни желчного негодования, ни болезненного ожесточения, но преобладало над всем этим. Повторяем, Мочалов вполне постиг тайну характера Гамлета и вполне передал ее своим зрителям; вот общая характеристика его игры в это девятое представление.
Теперь о некоторых подробностях, особенно поразивших нас в это последнее представление. Когда тень говорила свой последний и большой монолог, Мочалов весь превратился в слух и внимание и как бы окаменел в одном ужасающем положении, в котором оставался несколько мгновений и по уходе тени, продолжая смотреть на то место, где она стояла. Следующий за этим монолог он почти всегда произносил вдохновенно, но только с силой, которая была не в характере Гамлета; на этот раз стихи —
О небо! и земля! и что еще?
Или и самый ад призвать я должен?
он произнес тихо, тоном человека, который потерялся, и с недоумением смотря кругом себя. Во всем остальном, несмотря на все изменения голоса и тона, он сохранил характер человека, который спал и был разбужен громовым ударом.
Весь второй акт был чудом совершенства, торжеством сценического искусства. Третий акт был в этом отношении продолжением второго, но так как он по быстроте своего действия по беспрестанно возрастающему интересу, по сильнейшему развитию страсти производит двойное, тройное, в сравнении с прочими актами, впечатление, то, естественно, игра Мочалова показалась нам еще превосходнее. По уходе короля со сцены он, как и в шестом представлении, не вставал со скамеечки, но только повел кругом глазами, из которых вылетела молния… Дивное мгновение!.. Здесь опять был виден Гамлет, не торжествующий от своего открытия, но подавленный его тяжестью… К числу таких же видных мест этого представления принадлежит монолог, который говорит Гамлет Гильденштерну, когда тот отказался играть на флейте по неумению: «Теперь суди сам: за кого же ты меня принимаешь? Ты хочешь играть на душе моей, а вот не умеешь сыграть даже чего-нибудь на этой дудке. Разве я хуже, проще, нежели эта флейта? Считай меня, чем тебе угодно – ты можешь мучить меня, но не играй мной». Прежде Мочалов произносил этот монолог с энергией, с чувством глубокого, могучего негодования; но в этот раз он произнес его тихим голосом укора… он задыхался… он готов был зарыдать… В его словах отзывалось уже не оскорбленное достоинство, а страдание от того, что подобный ему человек, его собрат по человечеству, так пошло понимает его, так гнусно высказывает себя перед человеком…
Тщетно было бы всякое усилие выразить ту грустную сосредоточенность, с какой он издевался над Полонием, заставляя его говорить, что облако похоже и на верблюда, и на хорька, и на кита, и дать понятие о том глубоко-значительном взгляде, с которым он молча посмотрел на старого придворного. Следующий затем монолог: «Теперь настал волшебной ночи час» и т. д. никогда не был произнесен им с таким невероятным превосходством, как в это представление. Говоря его, он озирался кругом себя с ужасом, как бы ожидая, что страшилища могил и ада сейчас бросятся к нему и растерзают его, и этот ужас, говоря выражением Шекспира, готов был вырвать у него оба глаза, как две звезды, и, распрямив его густые кудри, поставил отдельно каждый волос, как щетину гневного дикобраза… Таков же был и его переход от этого выражения ужаса к воспоминанию о матери, с которой он должен был иметь решительное объяснение.
Мы стонали, слушая все это, потому что наше наслаждение было мучительно… И так-то шел весь третий акт. По окончании его Мочалов был вызван.
Боже мой! думали мы: вот ходит по сцене человек, между которым и нами нет никакого посредствующего орудия, нет электрического кондуктора, а между тем мы испытываем на себе его влияние; как какой-нибудь чародей, он томит, мучит, восторгает, по своей воле, нашу душу, – и наша душа бессильна противостать его магнетическому обаянию… Отчего это? – На этот вопрос один ответ: для духа не нужно других посредствующих проводников, кроме интересов этого же самого духа, на которые он не может не отозваться…
Сцена в четвертом акте с Розенкранцем была выполнена Мочаловым лучше, нежели когда-нибудь, хотя она и не один раз была выполняема с невыразимым совершенством, и заключение ее: «Вперед лисицы, а собака за ними» было произнесено таким тоном и с таким движением, о которых невозможно дать ни малейшего понятия. Такова же была и следующая сцена с королем; так же совершенно был проговорен и большой монолог: «Как все против меня восстало», и пр. Пятый акт шел гораздо лучше, нежели во все предшествовавшие представления. Хотя в сцене с могильщиками от Мочалова и можно б было желать бòльшего совершенства, но она была, по крайней мере, не испорчена им. Все остальное, за исключением, однако, монолога на могиле Офелии, о котором мы уже говорили, было выполнено им с неподражаемым совершенством до последнего слова. И должно еще заметить, что на этот раз никто из зрителей, решительно никто, не встал с места до опущения занавеса (за которым последовал двукратный вызов), тогда как во все прежние представления начало дуэли всегда было для публики каким-то знаком к разъезду из театра.
(В. Г. Белинский,«Гамлет», драма Шекспира, и Мочалов в роли Гамлета. Сочинения. 1902. Стр. 629–630, 668–679, 689–690, 696–699.)
2
У нас два трагических актера: Мочалов и Каратыгин, хочу провести между ними параллель. «Какое невежество! Каратыгин и Мочалов!.. Можно ли помнить о Мочалове, говоря о Каратыгине?..» Не знаю, будут ли мне сказаны подобные слова, но я уже как будто слышу их. У нас это так натурально, мы так неумеренны ни в нашем удивлении, ни в нашем презрении к авторитетам. Теперь как-то странно и даже страшно произнести имя Мочалова, не имея намерения посмеяться над ним, как смеются над Александром Орловым, говоря о Вальтер-Скотте. Но я думаю иначе, и если каждый в деле литературы и искусства может иметь свое мнение, то почему же и мне не иметь своего, хотя мое скромное имя и не значится в литературных адрес-календарях?..
Всем известно, что с Мочаловым очень редко случается, чтобы он выдержал свою роль от начала до конца, однакож все-таки случается, хотя и редко, как например в роли Яромира в «Прародительнице», в роли Тасса и некоторых других. Потом всем известно, что он может быть хорош только в известных ролях, как будто нарочно для него созданных, а в прочих по большей части бывает решительно дурен. Наконец, всем также известно, что, часто дурно понимая и дурно исполняя целую роль, он бывает превосходен, неподражаем в некоторых местах ее, когда на него находит свыше гений вдохновения. Теперь всем известно, что Каратыгин равно успевает во всех ролях, т. е. что ему равно рукоплещут во всевозможных ролях, в роли Карла Моора и Димитрия Донского, Фердинанда и Ермака, Эссекса и Ляпунова. По моему мнению, в декламаторских ролях он бывает еще лучше, и думаю, что он был бы превосходен в роли Димитрия Самозванца трагедии Сумарокова и во всех главных персонажах трагедии Хераскова и барона Розена… Какое же должно вывести из этого следствие?.. Что Мочалов – талант низший, односторонний, а Каратыгин – актер с талантом всеобъемлющим, Гете сценического искусства? Так думает большая часть нашей публики, большая часть, но не все, и я принадлежу к малому числу этих не всех. По-моему, вот что: Мочалов – талант невыработанный, односторонний, но вместе с тем сильный и самобытный, а Каратыгин – талант случайный, не призванный, успех которого зависит от огромных природных средств, т. е. роста, осанки, фигуры, крепкой груди и потом от образованности, ума, чаще сметливости, а более всего смелости. Послушайте: если Мочалов мог в целую жизнь свою ровно и искусно выдержать две-три роли в их целости, то согласитесь, что у него кроме чувства, которое может быть живо и пламенно и не у художника, есть решительный сценический талант, хотя и односторонний; если он бывает гигантски велик в некоторых монологах и положениях, дурно выдерживая целость и ровность роли, то согласитесь, что он обладает чувством неизмеримо глубоким. Почему же он не может выдерживать целости не только всех, но даже и большей части ролей, за которые берется? От трех причин: от недостатка образованности, соединенного с упрямой невнимательностью к искренним советам истинных любителей искусства, потом от односторонности своего таланта и, наконец, от того, что он для эффектов не профанирует своим чувством… Не правда ли, что последняя причина кажется вам слишком странной? – Погодите, я объяснюсь прямее, для чего пока оставлю в покое Мочалова и обращусь к Каратыгину.
Каратыгин, как я уже сказал, берется решительно за все роли и во всех бывает одинаков или, лучше сказать, ни в одной не бывает несносен, как то нередко случается с Мочаловым. Но это происходит скорее не от всесторонности таланта, но от недостатка истинного таланта. Каратыгину нет нужды до роли: Ермак, Карл Моор, Димитрий Донской, Фердинанд, Эдип – ему все равно, была бы роль, а в этой роли были бы слова, монологи, а пуще всего возгласы и риторика: с чувством, без чувства, с смыслом, без смысла, повторяю – ему все равно! Я очень хорошо понимаю, что один и тот же актер может быть превосходен в ролях: Отелло, Шейлока, Гамлета, Ричарда III, Макбета, Карла и Франца Моора, Фердинанда, маркиза Позы, Карлоса, Филиппа II, Телля, Макса, Валленштейна и пр., как ни различны эти роли по своему духу, характеру и колориту, но я никак не могу понять, как один и тот же талант может ровно блистать и в бешеной, кипучей роли Карла Моора и в декламаторской надутой роли Димитрия Донского, и в естественной, живой роли Фердинанда, и в натянутой роли Ляпунова. Такой актер не то ли же самое, что поэт, готовый во всякий час, во всякую минуту проимпровизировать вам прекрасными стихами и буриме, и мадригал, и эпиграмму, и акростих, и оду, и поэму, и драму, и все, что ни зададут ему? Здесь я вижу не талант, не чувство, а чрезвычайное умение побеждать трудности – это умение, которое так высоко ценилось французскими критиками XVIII века и которое так хорошо напоминает дивное искусство фокусника, метавшего горох сквозь игольное ушко.
Я сценическое искусство почитаю творчеством, а актера – самобытным творцом, а не рабом автора. Найдите двух великих сценических художников, гений которых был бы совершенно равен, дайте им сыграть одну и ту же роль, и вы увидите то же, да не то. И это очень естественно: ибо невозможно найти двух читателей с равной образованностью и с равной способностью принимать впечатление изящного, которые бы совершенно одинаковым образом представляли себе героя драмы. Оба они поймут одинаковым образом идею и идеал персонажа, но различным образом будут представлять себе тонкие черты и оттенки его индивидуальности. Тем более актер: ибо он, так сказать, дополняет своей игрой идею автора, и в этом-то дополнении состоит его творчество. Но этим оно и ограничивается. Из пылкого характера, созданного поэтом, актер не может и не имеет права сделать хладнокровного, и наоборот. Теперь спрашиваю я, каким же образом даст он жизнь персонажу, если автор не дал ему жизни, каким образом заставит он его говорить страстно, пламенно, исступленно, когда автор заставил его говорить натянуто, надуто, риторически? От высокого до смешного – только шаг, и потому при неудачном исполнении чем выше идея, тем карикатурнее ее впечатление. Другое дело комедия. Там актер является более творцом, ибо иногда может придать персонажу такие черты, о которых автор и не думал. И вот почему наш несравненный Щепкин часто бывает так превосходен в самых плохих ролях. Он пересоздает их, а для этого ему нужно, чтобы они были только что небессмысленны. И это очень естественно, ибо здесь если автор не вдохновляет актера, то актер может вдохнуть душу живую в его мертвые создания, потому что здесь нужно одно искусство, а не чувство, не душа. Но в драме актер и поэт должны быть дружны, иначе из нее выйдет презабавный водевиль. В ней роль должна одушевлять и вдохновлять актера, ибо и обыкновенный читатель, совсем не бывши актером, может потрясти душу слушателя декламировкой какого-нибудь сильного места в драме. Искусство и здесь орудие важное но второстепенное, вспомогательное.
Я видел Каратыгина в четырех ролях (не упоминаю пустой роли, игранной им в драме «Муж, жена и сын»): в Ермаке, Ляпунове, Эссексе (в прошлый приезд его в Москву) и Карле Мооре (во второй раз). Чтобы подкрепить мои мысли фактами, буду говорить о последней. Ни в одной роли он не казался так решительно дурен, так холоден, так натянут, так эффектен. Ни одного слова, ни одного монолога, от которого бы забилось сердце, поднялись волосы дыбом, вырвался тяжкий вздох, навернулась бы на глаза восторженная слеза, от которого бы затрепетал судорожно зритель, бросило бы его в озноб и жар! Пробуждалось по временам какое-то странное чувство, похожее на чувство, происходящее от страха или от давления домового, но это чувство было мимолетно, мгновенно, ибо лишь только зритель начинал подчиняться его обаянию, как тотчас все оказывалось ложной тревогой, а актер спешил разрушить подобное впечатление или каким-нибудь изысканным эффектом или совершенным отсутствием чувства при крайнем усилии возвыситься до чувства, в чем, разумеется, он уже нисколько не виноват. Как, например, сыграл Каратыгин эту славную потрясающую сцену, в которой Карл Моор выводит отца своего из башни и выслушивает ужасную повесть его заключения? Он стремительно обратился к спящим разбойникам: это движение и выстрел из пистолета были сделаны грозно и благородно, а вопль: «вставайте!» был превосходен; но что же он сделал потом, как произнес лучший монолог в драме? Он (слушайте! слушайте!), он отвел за руки, на край сцены, троих из главных разбойников и, обратившись к одному и, помнится, сжавши его руку, сказал: «Посмотрите, посмотрите: законы света нарушены!»; к другому: «Узы природы прерваны!»; к третьему: «Сын убил отца!» Оно и дельно – всем сестрам по серьгам, чтоб ни одной не было завидно. Нет, не так произносит иногда этот монолог Мочалов: в его устах это лава всеувлекающая, всепожирающая, это черная туча, внезапно разражающаяся громом и молнией, а не придуманные заранее театральные штучки. В одном только месте этой драмы Каратыгин был не дурен, когда говорил: «Как величественно заходит солнце!.. В юности моя любимая мысль была – жить и умереть подобно ему… Детские были мечты мои!» и не потому, чтобы он придавал этим словам особенное чувство, но потому, что произнес их просто, без натяжки, без фарсов.
Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, – затем, что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни! В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений изящного, если не разделяет их с другой душой. А где же этот раздел является так торжественным, так умилительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи ясливаются в одно целое яв гармоническом собрании беспредельного блаженства?.. Когда этот поэтический Моор, этот падший ангел, указывает на распростертого без чувств старца-мученика и нечеловеческим голосом восклицает: «о, посмотрите, посмотрите – это мой отец!», когда он, в награду за великодушный поступок своего товарища, возлагает на него обязанность мстить за своего отца и, подняв руки к небу, проклинает изверга-брата: «о, в вас нет души человеческой, нет чувства человеческого, если при этом вы не обомрете, не обомлеете от ужасного и вместе сладостного восторга…» Но полное, сценическое очарование возможно только под условием естественности представления, происходящей сколько от искусства, столько и от ансамбля игры. Но у нас невозможен этот ансамбль, невозможна эта целость и совокупность игры, ибо у нас с бешеными воплями Мочалова мешается рев и кривляние Орлова, Волкова, Рыкаловой и многих, многих иных прочих. Что ж тут делать? Остается смотреть внимательно на главный персонаж драмы и закрыть глаза для всего остального. Но ежели и актер, занимающий главное амплуа, не выдерживает целости роли, будучи превосходен только в некоторых местах ее, – тут что остается делать? – Ловить эти немногие места и благодарить художника за несколько глубоких потрясений, за несколько сладких минут восторга, которые вы уносите из театра и память о которых долго, долго носится в душе вашей. Так смотрю я на игру Мочалова, этого требую я от игры его, это не редко получаю, и за это благодарю его…
Не таков Каратыгин; роли надутые, неестественные, декламаторские суть торжество его; он заставляет забывать о их несообразности и нелепости; там, где Мочалов насмешил бы всех, там он особенно хорош. Возьму для примера «Ермака» Хомякова. Закрывши рукой имена персонажей, я могу с наслаждением читать эту пьесу, ибо это собрание элегий и поэтических дум о жизни исполнено теплоты чувства и поэзии. Еще с большим наслаждением я выслушал бы их и от Каратыгина, только не в театре, а в комнате. Но как пьеса драматическая, «Ермак» просто нелепость. Чтобы заставить нас восхищаться им на сцене, надо сперва воротить нас к временам классицизма, к этим блаженным временам наперсников злодеев, героев, фижм, румян, белил и декламации. Но Каратыгин не побоялся взять на себя этой миссии, и он не совсем ошибся в своем расчете. Его всегдашнее орудие – эффектность, грациозность и благородство поз, живописность и красота движений, искусство декламации. Напрасно обвиняют его в излишестве эффектов; его игра не может существовать вне их. Я думаю, он был бы очаровательно прекрасен в роли «Димитрия Самозванца» и на вопрос Шуйского:
Какая предстоит Димитрию беда?
мастерски бы ответил:
Зла фурия во мне смятенно сердце гложет;
Злодейская душа спокойна быть не может!
Да, я уверен, что театр потрясся бы до основания от грома рукоплесканий. И это очень вероятно, ибо позы, движения и декламации Каратыгина менее зависят от содержания и достоинства пьесы, чем от его удивительного искусства. Когда он бывает особенно хорош, когда он наиболее получает рукоплесканий? Когда падает в ноги отцу, обнимает его колени, бросается в объятия к жене, целует сына и, держа его на руках, бегает с ним по сцене, бросается в Иртыш, когда уносит на руках отравленного Скопина-Шуйского, допрашивает Фидлера и выбрасывает его в окошко. Надобно заметить, что наша публика вообще очень смешлива: она смеется, когда ужасный Шейлок точит нож о свой сапог, она хохочет над страданиями бедного, благородного Матроса. Сцена между Ляпуновым и Фидлером должна бы рассмешить ее, но Каратыгин так благородно и грациозно выбросил за окно Усачева, что никто даже и не улыбнулся, кроме разве райка. Напротив, чудное дело! эта же самая публика рукоплещет от восторга карикатурным возгласам Ляпунова к своему мечу, или когда он так уморительно комически говорит Скопину: «Здорово, князь!» Каратыгин вполне разгадал нашу публику и глубоко понял ее требования: вот вам и причина, почему на нынешний раз так много фарсов прибавилось против прежнего. Если же он иногда уже чересчур пересаливает в них, так это оттого, что он испытывает, понравятся ли публике его новые выдумки.








