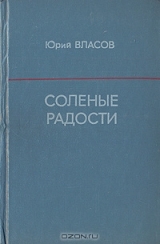
Текст книги "Соленые радости"
Автор книги: Юрий Власов
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
В стойку на тренировках он «затаскивал» веса, которые перекрывали рекордные в толчке. Лишь относительная слабость рук не позволила ему тогда же установить рекорды, обгоняющие время на добрый десяток лет.
Руки, конечно же, можно было «раскачать». Набор выверенных упражнений заставил бы их принять силу и налиться силой. Но тогда бы Семен потерял преимущества своей манеры работы в темповых упражнениях. Именно поэтому он избегал много приседать с весами.
Его стиль складывался из точности и силы подрыва. Схема выполнения темповых упражнений обеспечивала преимущественную работу спины. У него не было физических возможностей подправлять ошибки силой, а тем более работать на силу. Но подрыв выводил его на такие результаты, что даже самые сильные из соперников оказывались в безнадежном положении. Если бы Семен занялся посылом с груди, он стал бы недосягаем.
Сначала Семен скорее инстинктивно, чем сознательно, противился силовым тренировкам. После тренировок на «объем» он заболевал, терял чувство подрыва, а самое главное – веру в себя. Для него нагрузки должны были быть, прежде всего, щадящими. Сообразно его типу нервной системы следовало создать и свою систему тренировок. Этого он не понимал. Да и не только он…
Сила манила, дразнила. Он мечтал отгородиться силой.
Недостаток силы все время искушал его на «объемные» тренировки. Азарт силы подбивал на риск. Переубедить его было невозможно. Дома он тренировался один. И всякий раз долго и трудно выбирался из перетренировок…
В тот год осень походила на лето. Желтизна пощадила листву. Обильно цвели розы, георгины, астры. Воздух, нагретый солнцем, настаивался запахами цветов. Бабочки, стрекозы, жуки, оглушенные запахами, никли к цветам. Их можно было толкнуть пальцем, а они лишь сучили лапками, не пробуя улететь. И жаром солнца отходили стены улиц. И ослепительно белы были паруса случайных облаков…
Не было у меня в спорте человека ближе Семена. И не раз мы выручали друг друга. Я не умею менажировать, сгораю во время менажирования. Я избегаю появляться в зале до дня своего выступления. Никакое искусство владеть собой не избавило меня от этого волнения. Борьба других вызывает во мне яростный отзыв.
Я научился владеть собой, но не быть равнодушным. Я все проделываю с теми, кто выступает. Я могу сгореть в чужих поединках.
И я запретил себе бывать в залах до дня своего выступления. И только для Карева я делал исключение. Я менажировал его на всех чемпионатах.
У Сашки Каменева была большая сила, а когда приходит чрезмерное возбуждение, часто пропадает тонкость навыков, и тогда «железо» поднимает грубая сила, или, как говорят атлеты, «работаешь на силу». Для Семена работа на силу означала проигрыш.
Семен нуждался в опоре. Ему нужна была вера других. Вера в него. Он всюду искал эту веру. В залах, которые встречали его дружбой, он показал рекордные результаты.
После выступлений Семена я был выжат и измучен. В дни, пока выступали атлеты других весовых категорий, я приводил себя в порядок. Но это не всегда удавалось. Возбуждение, и без того тлевшее перед большими чемпионатами, уже не оставляло меня. Во всяком случае, тогда в Амстердаме последние четыре ночи я спал едва ли по четыре часа. Часы тревожного забытья. Забытья, в котором все слышишь. И в котором ведешь счет всем своим шансам и шансам соперников на успех. И слышишь все шумы гостиницы, города и каждую свою мышцу…
Тогда в Амстердаме Мунтерс проиграл Кареву.
А моими конкурентами оказались Кейт и Сазо. Мэгсон переманил Кейта из легкой атлетики. Кейт отлично толкал ядро. Он был одарен силой, но загубил ее искусственным прибавлением собственного веса. Он принимал специальные препараты и за полтора года наел еще пятьдесят килограммов. Вес лишил его возможности тренироваться по-настоящему. А без тренировки нет результата, какой бы силой ты ни был одарен.
Пять лет спустя Мунтерс стал тренером Гарри Альварадо.
Альбомы репродукций Ван-Гога, Моне, Манэ, Дега, Сезанна – нью-йоркские издания Дюмонт работы Абрамса. Кажется, тронь рукой и ощутишь фактуру холста. Альбом я приобрел в Париже.
Ван-Гог! До боли ощущаю муку рисунка и цвета. Боль преследует. Я озираюсь. Потом торопливо прячу альбомы в чемодан. Сажусь в кресло. У меня дрожат руки.
Монотонно барабанит дождь в стекла.
Нагрузки, формулы, эксперимент, новые результаты! Я действительно возомнил о себе! Всяк сверчок знай свой шесток. Слава?! Любой, кто знаком со спортом, слышал обо мне. Все титулы, призы, медали – мои! Ничего не прибавлю к славе.
Тогда зачем все это?! Другие воспользуются выводами эксперимента. К новой методике приложат еще и свои знания – сотрут мое имя. Я сам сотру его… Всем плевать, что ты отказываешься наедать вес, отказываешься быть искусственной силой. Ущербной силой.
В соседнем номере кто-то гоняет магнитофон и стучит на пишущей машинке.
Кому нужна чистая сила? Что за химера? Ложье, Альварадо, Пирсон, Зоммер… формируют силу препаратами, собственным громадным весом. Ты никому не нужен. У Лескова сказано: посмотрела во вчерашний день и увидела, что она дура. Теперь я уже вчерашний день. Глупый, наивный день.
«Экстрим» внушает, что лишь у твари прочные радости. И боли минуют лишь тварей.
Стою перед зеркалом. Судьба и в самом деле одарила меня силой. Объедаюсь силой…
Смеюсь хрипло, неестественно. Я по-прежнему отравляюсь настоем этих сумеречных дней.
В приемнике мужской голос, беспечный, как младенческая погремушка. Окно слепнет дождевой рябью. За форточкой мокро шумят деревья.
Я чту жизнь. Твердый огонь желаний. Стойкость назначенных дней. Вереницы лет, назначенные в стойкость. Жизнь бесстыдно хороша, когда доверяется силе…
Облака несли желания. Солнца запутывались в этих желаниях. Ветры нашептывали все недосказанные слова. И околдовали меня…
Разглядываю свой номер. Бледно-зеленые обои. Будильник, встроенный в стену над изголовьем кровати. Над тумбочкой – бра. Кровать. У другой стены диван.
На столе стопка конвертов, термометр, газеты, черная телефонная книга. На термометре семьдесят градусов по Фаренгейту. У стены журнальный столик. На столике керамическое блюдо в розовых глазурных лангустах, белый телефонный аппарат и черные томики Евангелия на нескольких языках. Наугад открываю Евангелие. Перевожу с французского: «Когда я совсем выучен, все будет только таким, как учитель…»
Всю свою жизнь я совершаю глупость за глупостью. У меня есть все, а я недоволен. Я прессую жизнь в один яростный ком и швыряю в себя…
Включаю приемник, вращаю ручку настройки. В эфире мужские, женские голоса, и в каждом уверенность в себе, в своей правоте. Изнемогаю в одиночестве. Столько людей, а я одинок!
Итак, существует путь к новым результатам и без экстремальных потрясений. Путь без больших «объемов» и чрезмерного нервного расхода.
Итак, можно бить по главным направлениям. Не распылять тренировочный «объем», а сводить на узком участке. Это непременно вызовет активные ответные процессы. При этом сам «объем» окажется много меньше экстренного. Суммарную тренировку на подобных «объемах» я усвою безболезненно.
Значит, я напрасно поставил эксперимент? Значит, все испытания напрасны? Вот он – другой путь!
Струи дождя искажают очертания домов. Молчит телефон. Спит мой тренер. Уже начало девятого, а он спит…
Будто по расписанию маршируют боли. Обойдусь без лекарств. Должен обойтись…
Осквернен прошлым. Чужой рекорд уничтожает смысл твоей борьбы, доказывает мелочность твоих усилий… Опираюсь о подоконник руками. Рассматриваю улицу. Сколько же радости в кокетливых шажках, красном зонте и светлой шляпке этой женщины! А собачки на поводках! Как забавно подстрижены! И что за банты на загривках!..
Пять шагов от окна до двери. Пять шагов назад и снова до двери. Отчего дневной свет ранит? Кто и зачем загнал меня в этот номер?!
Напрягаю мускулы. Как глубоки и просторны! Почему рекорд застрял, почему?! В чем бесконечность воли? Мне всегда жить в бесконечном напряжении воли…
Разве все, что я делал и что случилось, замыкается только на мне? Разве рекорд – это только наборные стальные диски?.. Но я ведь один здесь? И ничего нет, кроме любопытства зала? Зачем залам любопытство?..
Брожу по комнате, твержу слова-заклинания.
Презираю мистику, суеверие, случай. Претит рассудочность. Она всегда на запятках успеха.
«Хотя бы раз пройти по этому городу чистым, беззаботным, – думаю я. – Где и когда я потерял беспечность? Ту беспечность, когда очень важны цвет неба, полынная горечь тополей, белая улыбка в незнакомых губах…»
Давлюсь словами, затыкаю сомнения. Конечно, завтра большой спектакль. И там я должен быть атлетом. А сила требует ясных слов.
В Амстердаме наш старший тренер Седов решил выбить Мунтерса из равновесия. Мунтерс, как Торнтон и я, не проигрывал никому с первого своего выступления на большом помосте. Дней за десять до соревнований Карев на тренировке точно по раскладке Седова повторил в толчке мировой рекорд. Каким бы опытным ни был атлет, такие вещи всегда действуют. Но Мунтерс поразил меня. На другой день в ответной прикидке он закатил во всех трех движениях предельные веса. Это было безрассудство и, конечно, больше того, на что мы рассчитывали.
Газеты и знатоки захлебнулись восторгом. «Замандражировал» и Карев.
Я понимал Мунтерса. Он искал доказательства. Прикидка Карева лишила его уверенности. Впервые реально посягали на его силу. И все же рисковать так он не смел! Я еще раз убедился, как важно верить себе, верить, несмотря ни на что. Если бы ни обстановка чемпионата, Мунтерс не натворил глупостей. Но после прикидки Карева газеты и знатоки не верили в Мунтерса. Его восемь золотых медалей чемпионатов мира уже намозолили глаза.
Семен только начинал свои выступления в большом спорте и к тому же был на семь лет моложе Мунтерса. Семен должен был «восстановиться» к соревнованиям и «восстановился». А достаточно было увидеть разминку Мунтерса на чемпионате, чтобы понять: утомлен прикидкой. Кроме того, Семен так подвел собственный вес, что на взвешивании потянул на четыреста пятьдесят граммов меньше Мунтерса. При равных суммах троеборья победа доставалась бы Семену.
На чемпионате Карева «менажировали» тренер Задорин и я. Из команды с нами еще был легковес Баландин. За сутки до этого Баландин проиграл японцу Ямабэ. Худоба еще не сошла с его лица, и взгляд был затравленно усталый. И говорил Баландин возбужденно, громко.
Впрочем, настоящих шансов на победу у Баландина и не было. Ямабэ, кроме двух олимпийских и четырех золотых медалей чемпионатов мира, принадлежали все рекорды этой весовой категории. Японец создал свой стиль темповых упражнений. Для меня осталось загадкой, как суставы выдерживают такой напор.
Чтобы помочь Кареву, мне не обязательно было входить во все подробности поединка. Я достаточно профессионален, чтобы и без того давать дельные советы. Но в Кареве чувствовался тот особый талант к борьбе, который понятен и близок мне и без которого люди для меня теряют привлекательность. Действие определяло его отношение к жизни. Действие, сознательное и отрицающее законченность каких бы то ни было форм. И я вошел в мир его выступления…
Мы были в раздевалке, когда кожа у Семена покраснела и вспухла. Такой опытный массажист, как Сарычев, должен был осторожно накладывать разогревающую мазь. Все кинулись смывать мазь спиртом, но было поздно. Кожа багровела, надувалась рубцами, распалялась.
Между подходами на разминке Семен сидел прямо. И лишь по налитым кровью белкам можно было догадаться о боли. Кожа потом слезала с него лохмотьями, И струпья покрыли его с шеи до пят…
Семен приходил в себя после второй попытки, когда в первый раз вызвали Мунтерса. Я осторожно промокал простыней замыленную потом и обожженную спину Семена.
– Ты молодец, – говорил я. – Ты в полном порядке. В отличной форме! – Я видел, вера другого становится его силой.
Я сам не прочь услышать нужные слова. Они всегда кстати, когда рискуешь. Даже отличные спортсмены могут не знать этих слов. А в тот вечер и ночь я их легко находил. И каждое из них отнимало мою силу.
Семен подергивал в нервном тике плечом. На толстые белесые брови скатывался пот. Волосы темнели, липли ко лбу. На щеках блуждали красные пятна.
– Подумаешь, Мунтерс! – выкрикивал Задорин. – Срежем этого пижона!.. Закрой плечи. Сарычев, халат! Не студи плечи…
Нас фотографировали, разглядывали, окликали. Меня это уже не могло отвлечь, но Семена раздражало.
– Ты поспокойнее, – шепнул я Задорину, – он и так перевозбужден.
Вернулся Баландин и сказал, что Мунтерс сработал чисто.
Сарычев подавал все необходимое для работы, избегая смотреть на нас.
– Смотаемся утром в торговый центр, – шепнул мне Баландин. – Есть что купить.
– Не делай таких глаз, – сказал мне Семен, – а то Сарычев еще что-нибудь напутает.
– Я ему напутаю! – крикнул Задорин. – Тоже мне, массажист высшей категории!
– Не грусти, Владимир Иванович, – сказал Семен Сарычеву. – У меня новая шкура нарастет. – И засмеялся хрипло. Семен хотел показать, что он вполне владеет собой.
– Руку береги, – сказал Задорин. – Второй раз долго будем лечить.
– Беречь? Сейчас?! – Семен снова засмеялся.
– Пора поставить клистир Мунтерсу, – сказал Баландин. Он вдруг выругался и злобно уставился на ребят Мунтерса. Они встретили Мунтерса у выхода со сцены: окружили, загалдели, закутали в плед, Мунтерс ухмылялся и позировал репортерам. Тут же хлопотали венгры. Они явились всей командой на выступление своего полусредневеса Чатари. Этот атлет превосходил в жиме и Мунтерса и Карева.
Я улыбнулся Чатари. Мы были приятелями. Он не подал виду, что заметил.
– Ну, зараза! – сказал Сарычев на Мунтерса. – «Раскачал» лапы! Ну, зараза!
– Товарищи, вызвали Карева, – сказал переводчик. – Второй раз объявляют.
– А мы успеем, – сказал Сарычев.
– Хороший парень? – спросил меня Бэнсон. Он имел в виду Карева.
– Мы выиграем, – ответил я по-французски. Общим языком у нас с Бэнсоном был французский. – Я тебя познакомлю с ним. Ты снова получишь хорошее интервью.
Бэнсон кивнул. В таких вещах он целиком полагался на меня.
– Прямо перед награждением участников заходи к нам в раздевалку, – сказал я.
– Успеха! – Бэнсон поднял над головой пальцы буквой «V». Он желал нам победы.
Мы пошли к выходу на сцену.
– Коли невтерпеж, подождут, – сказал Сарычев.
Я был выше всех и шире всех. Я шагал впереди, и все расступались, Седов улыбнулся мне. Наш старший тренер без нужды не вмешивался в работу других. С ним стоял врач команды Архипов – рыхлый апатичный человек, и тренер команды ГДР Курт Зонненберг. Они курили. Здесь не возбранялось курить. Курили все, даже те из женщин, которые оказались за кулисами.
– У-у, селедка в брюках! – Сарычев передернул плечами. Он не выносил женщин. – На нашу Ларису Яковлевну похожа. Тоже, небось, не ржавеет. У-у, глазастая!..
Лариса Яковлевна была сестрой-хозяйкой спортивной базы, где мы готовились к чемпионату…
Мэгсон с каким-то мертвым безразличием следил за происходящим. Динамики разносили голос судьи-информатора Стейтмейера. Уже лет пятнадцать под этот гнусавый речитатив работали все атлеты. Дрожанием стен и воздуха отзывалось за кулисами движение десятитысячного зала.
Вспыхнули прожектора. Они светили с потолка отвесно вниз. Я увидел помост. Он был очень белый. Зал отгородила стена дымчатого света. Я почувствовал, как мои мышцы вдруг расправились. Воздух опалил легкие. Я будто затянулся крепчайшим табаком. Мышцы обмякли, насыщаясь кровью.
– Давай, Семен, – сказал я. – Ты умеешь делать свое дело! Здесь ничего нового! Только много людей! А ты делай свое! От тебя ничего не нужно – сделай свое! Это будет для победы вот так, по самую завязку!..
Семен оглянулся. В глазах было непонимание и тоска.
– Засади ее!.. – Баландин выругался.
– Товарищи, вас услышат…
– Услышат?.. Да пошли они!.. Мы тут не шашки гоняем…
– Сарычев, нашатырь!..
– Мы этого Мунтерса!..
– Еще вдохни, еще… Дай, виски натру!..
– Семен, давай брюки. И халат, халат…
– Обтянись – и засади ее! Пойдет сама!..
– Бэкстон всегда нашим затягивает хлопок. Хрен с ним! Ты спокойненько обтянись. А поясницу держи!..
– Не обращай внимания! Шуруй!..
– Не пускай движение самотеком, – говорил Задорин. – Контролируй движение. Нельзя самотеком. – Лицо у него вдруг заострилось. Нос, покрупнев, горбато выдвинулся. Верхняя губа по-заячьи поднялась, открыв зубы.
Ассистент вышел на помост и смахнул ногой щепку.
– Оживи «железо»! – Я обнял Семена за плечи и шагнул на сцену. – Слышишь, оживи! Оживи «железо»!..
Этот вес давал ему шанс на победу. С таким результатом Семен мог претендовать на золотую медаль. Я был уверен в подавляющем преимуществе Семена. Только бы он сумел отбросить почтение к рекордам. Тогда темповыми движениями он обеспечил бы это подавляющее преимущество.
Почтение к рекордам всегда отзывалось на активности мышц-антагонистов. Включаясь в борьбу, эти мышцы обворовывают силу. Штанга действительно начинает весить как «предел». А «пределы» Семена гораздо выше всех рекордов. И Мунтерс оказался бы не опаснее любого другого атлета, если бы Семен сумел разбудить свою силу. Этот поединок решал судьбу силы Семена. Она могла так и не проснуться. И Семен никогда бы не почувствовал, что его мышцы – самые сильные. И он, имея силу великого первого, не шагнул бы в победу.
Я знал это. И, как умел, вел Семена. Это были знакомые ухабы. Я видел их, Семен еще нет. Я не хотел, чтобы Семена сшибли эти ухабы. И я был с ним. Я раскалял себя поединком. Если и увидишь, не найдешь приема, чтобы их взять. И я раскалял себя поединком.
Только бы Семен ощутил эту хилость рекордов! Только бы отрекся от всеобщего почитания высшей силы!
Подвести его к презрению чужой силы, отрицанию исключительности чужой силы, затхлости авторитетов сильных.
Я знал уже тогда, что за сила, когда свободен от суеверий. Я знал, как просторен и велик этот мир освобожденных желаний. С первых своих поединков я испытал, что значит мир, остуженный силой привычных мнений, силу сопротивления этой среды, подчиненной предрассудкам. Я знал, как созидательно чувство, отрекшееся от молитвы. Я берегу это чувство, служу этому чувству. Всеми победами обязан этим чувствам. Опрокинув догматы силы, я увидел необозримость путей. И я понял направление своих побед.
И когда я это понял – я нашел себя. И навсегда поверил в свое дело, в то, что оно не пустышка и я здесь не ради сытостей тщеславия…
Семен дышал сипло, прерывисто. Мышцы судорожно напрягались. Черный провал зала обжигал. Желания всех налегли на волю моих чувств. Я ощутил пустоту и одиночество. Слабость легла в мышцы. И я стер эти чувства. Я знал, как это сделать. Опыт и жесткий тренинг чувств научили меня придавать значение лишь цели. Я не пропускал в сознание чувства, которые настораживали мышцы-антагонисты. Вернее, я был научен не осознавать эти чувства, оставлять их неразвитой посылкой мышления. Я видел их, слышал, но не воспринимал. Я как бы шел мимо обозначений чувств, мимо сухих безжизненных символов. Я утратил восприимчивость ко всему, что не соответствовало решению цели. Годы испытаний выработали свою систему поведения. Я исключил все пути слабостей. Я мог положиться на себя.
…Я что-то шептал. Другие не поняли бы. И я не опасался быть услышанным, быть смешным. Я выстраивал нужные слова. Они взводили мышцы, обозначали направления чувств.
– …Оживи «железо»! – Я снял свою руку с его плеч. И на моих глазах он медленно и бесшумно направился к штанге. И я стал терять зал. Я слепо водил головой, а отчетливо видел лишь гриф. Видел серую рубашку насечки и себя над грифом…
Я стоял и ногами проверял пол, устойчивость своего положения. Я вслушивался в ритм своей жизни и ритм назначенного усилия. Я добивался однозначности этих ритмов.
Карев наклонился. Мышцы подобрались, опробывая тяжесть. Руки провернули гриф. Захрустела раздавленная канифоль…
Мысленно я все повторял за ним. В своем воображении я тоже присел и опустил руки на гриф. И потом я тоже выпрямился, расслабив руки. Они повисли вдоль туловища. Я забирал в них чистую кровь.
Потом я снова сложился. Скользнул ладонями по грифу. Нашел хват и тогда уже окончательно вошел в стартовое положение. Я проверял готовность нужных мышц, блокировал командами мышцы-антагонисты. И по мере того как воспринималось ощущение тяжести, я включал мышцы. И штанга тронулась вверх.
Я еще бормотал какие-то слова. У меня есть свои слова. Надежность этих слов. Когда я пускаю их в дело, уже знаю – не отверну. Эти слова определяют яркость моих чувств. Чем мощнее этот импульс чувств, тем полнее они впрягаются в работу. И я впрягся в свои мышцы.
Я снял вес ногами. Руки лишь держали штангу. Я запретил рукам быть напряженными. Руки держали вес, но не работали.
Штанга сделала меня горячим и очень твердым. Мышцы выложили меня.
Я стал вводить в работу спину. Ноги работали в режиме максимальной отдачи. Я увеличил скорость движения, и штанга мгновенно прибавила в весе. Но мышцы полнее отдали свою силу, и натяжение тут же ослабло. Штанга набирала скорость, осаживая меня.
Я впрягался в новые большие мышцы. Штанга сбрасывала тяжесть в назначенных мышцах. Движение было легким и изящным. Мне нравилось это движение. Я вписывался в него очень точно.
Я оседал в свои мышцы, проваливался в надежность мышц. «Замок» обеспечивал прочность хвата. Я не думал о «железе». Я набирал ритм усилия.
Я провернул ладонями гриф и грудью пошел под него. И я услышал все суставы. Как бы согласованно и пластично ни стыковались элементы движения, а этот момент всегда обозначают суставы.
«Железо» еще не успело вернуть свой вес, оно еще рвалось вверх. Я поймал его, слегка отвел плечи и направил локти вдоль туловища.
Я выполняю жим по-своему. Обычно в жиме не работают грудные мышцы. Но я изменил старт. Я чуть больше стал отводить плечи. Это создало возможность для участия грудных мышц в жиме. Я нашел для жима новые мышцы. Я резко увеличил мощность этого усилия. Всю работу на тренировках в жиме я стараюсь свести к жиму лежа на наклонной доске. Это лучшее упражнение для тренировки грудных мышц. И я добился того, что мои грудные мышцы, мышцы плеч и рук приближаются по силе к мышцам ног. В честном силовом жиме, не таком, как у Клода Бежара, мне нет равных. И даже Торнтон не смог бы со мной конкурировать…
Я напряг бедра, расслабил кисти, опустил плечи. Я лег на позвоночник, уперся в него.
Я уловил движение рук судьи. Это была команда на жим.
Я вложил в срыв всю совокупную энергию мышц плеч, рук и груди. От высоты срыва зависел успех. Если он высок, мышцы оказываются в наивыгоднейшем положении. И развивают наибольшую мощность. Я снял штангу высоко и точно.
И я впрягся в жим. Мышцы туже и туже стягивали меня. Я чувствовал, как мышцы становятся тверже. Они становились тверже с каждым мгновением, быстрее каждого мгновения. Меня задвигала жесткость мышц.
Я знал, когда мышцы окаменеют, усилие иссякнет. Я знал, когда меня стиснет твердость мышц, все будет кончено. И я гнал «железо», запрещая мышцам опаздывать с усилием.
Я слышал скорость штанги, примеривался к ней, узнавал ее – это был заданный ритм, мой ритм. На такой скорости штанга должна была пройти. И она прошла.
Я сделал последнее усилие мышцами спины и совместил свой центр тяжести с центром тяжести штанги. Вес был на прямых руках и застопорен.
Я ждал команды. Я догадался о ней по гримасе, которая исказила лицо судьи-фиксатора. И по тому, как зашевелилась темнота за его спиной, как зарябили вспышки блицев и ровно лежала штанга в моих руках.
Я опустил «железо» и осторожно глотнул воздух. Я не дышал все усилие. Я глотнул очень мало воздуха. Я проверял себя. Я сидел на корточках и делал вид, что закатываю штангу на середину помоста. Нет, я сработал точно и быстро – шока не было. Я отпустил гриф, выпрямился и повернулся к табло.
Три белые лампочки выдали команду победы…
В оскале мокрого бледного лица я узнал улыбку Семена. Он торопливо шел ко мне. Его плечо ерзало в нервном тике.
И тогда я впервые услышал зал. Теперь он не угрожал моим усилиям, и я пустил его в свое сознание. В черном провале за рампой голоса слились в вой.
– Пусть теперь работает, – сказал я. Я имел в виду Мунтерса. – Пусть! Теперь точка, не уйдет!..
И я почувствовал запахи. Привычные запахи всех залов. Воздух был разогрет прожекторами. Здесь на сцене он был сух и жарок.
Я стоял неподвижно. Я не выполнял жим, но «железо» не обошло меня. Я был с Каревым в одном измерении чувств. И я понял, он зацепился за верные чувства. Дело пойдет…
И я не ошибся, этот сутуловатый обилием мышц спины и плеч атлет был создан для поединка. Талантом борьбы была отмечена его сила.
Четыре с половиной часа выступали полусредневесы. И четыре с половиной часа Семен открывал для себя свою же силу. В ту ночь он был велик.
Я «менажировал» Семена на всех чемпионатах. Я не мог поступить иначе. Он верил каждому моему слову. И все его неудачи я растворял напряженностью своих чувств. Я знал, какими словами и как оживляют «железо». И еще я, наверное, умею «менажировать».
Я «менажировал» Семена на чемпионатах в Амстердаме, Москве, Софии и Чикаго… Чикаго! Безумный город, помешанный на машинах и рекламе. Огромный задымленный город. Город, у которого отнято небо и в жилах которого отравленная кровь нескончаемых забот…
В Чикаго Клод Бежар фуксами в жиме отыграл у Семена пятнадцать килограммов. И все равно Семен «съел» бы его, но в решающей попытке в рывке он поспешил встать и уронил уже взятый вес!
На другой год Бежар выиграл приз Москвы, и опять своими жульническими фуксами. Это второе поражение потрясло Семена. Он потерял веру в себя и в спорт. Какое-то время мы переписывались, но потом Семен вообще забросил тренировки и уехал из своего города. И теперь никто не знает его адреса…
На чемпионате в Вене Бежар проиграл венгру Чатари. Если бы поехал Семен, он выиграл бы у обоих, но он уже не тренировался.
В Берлине и Мехико первым стал поляк Осмоловский. У него было большое будущее, но он получил травму и не смог преодолеть боязни веса. Поэтому он плохо толкает вес с груди.
В прошлом году чемпионат мира снова выиграл Бежар, и снова своими фуксами. Он так овладел этим приемом, что судьи не успевают поймать подробности. Теперь многие практикуют фуксы. Золотые медали и слава нередко отмечают посредственную силу. Я устаю теперь не только от экспериментов, я вынужден защищаться от «фуксового» жима. В своих тренировках я делаю поправку на эту «фуксовую» силу своих соперников. И я работаю вдвое, втрое больше, чтобы уравнять шансы…
– Печень не барахлит? – спрашивает Поречьев. Он неторопливо одевается, насвистывая мелодии из оперетт.
– С чего? Ем в этих переездах, как манекенщица.
– А спал? – Поречьев разглядывает свои руки. Трехглавые мышцы у него сочные, ладные. Забавляясь, напрягает их. Они дрожат, набухают, перекатываются.
– Часа три.
– Ширков из «Спартака» рассказывал о каком-то Лешке Бовине…
– Сплетни, поди?!
– А ты возбужден…
– Длинный язык у Ширкова.
– Гриша свой. Просто предупредил.
– Когда предупреждают, это и есть сплетни. Все предупреждают, а в самом деле – это сплетни…
– Завтрак заказан, светлейший, – перебивает меня Поречьев и подмигивает. – На столах вина, жареная форель, оленина. Челядь ропщет. Капелла истомилась на хорах. – Поречьев ощупывает мои мускулы. – Будешь как зверь! Штангу перед посылом припечатай. Локти не завали.
Поречьев обнимает меня за плечи:
– Не дорабатываешь левой рукой. А хандру забудь! Ошибался я прежде? Нет! И этот рекорд наш! Поддай порезче, чтобы со звоном! Тоже мне рекорд…
Мы выходим в коридор. Поречьев запирает номер.
– Эх, быть бы тебе погрубее, – говорит он.
Я в жалобах, грубости, страданиях и вздоре людей. Они не знают меня – идут, разговаривают, смеются, читают, едят, курят, но я слышу их. Смутной тревогой, болью, раздражением встречаю и провожаю их. «Экстрим» обострил восприимчивость. Это мучительно, это ненужно. Я не подозревал, что чужие чувства можно слышать. Боль и беспокойство шествуют вместе с людьми, мнут меня, опаляют, отнимают покой. Лишь ограниченные и равнодушные люди как бы парят в пустоте выверенных чувств. Я не могу укрыться или вернуться в прежнее неведение слов. Все обыденные слова, жесты, выражение лиц и немота людей теперь травят меня.
А краски? Каждая оставляет след в душе. И музыку, голоса, городской шум, тишину я встречаю энергией чувств. Я мгновенно улавливаю радостные и тревожные звуки – и все ложится в озноб чувств.
Что это? Я был глух? Или вдруг увидел то, что есть жизнь? И как я смогу ужиться с этим миром? И смогу ли?..
Все было для меня, все подчинялось моему назначению. Я толковал мир. В нем все было расставлено и привычно. Очень удобный мир, который ждал моих прикосновений, моих глаз, моей воли. А это такой мир – разве ему уместиться во мне?! Он мнет, насилует, требует. Все тяжести, надежды и боли в ударах моего сердца.
Все высвечивает огромное жадное солнце чувств. Я стараюсь привыкнуть к ярости этого мира. Может быть, болезнь и в самом деле пройдет, если я привыкну к нему, смогу привыкнуть? Краски, запахи, слова и люди – все сплавляет в это кипящее солнце чувств.
Может быть, болезнь в том, что другие видели этот мир, а я нет? И теперь жизнь, загнанная на свой предел, вдруг открывает свою исступленность. Я не жил, нет! Я только глотнул воздуха жизни. Из спокойного и сытого неведения шагнул в жизнь. Слепну и глохну в этом новом мире. Здесь все мощно и чрезмерно.
Я пытался измерить и понять мир мелкими заученными словами, но я беспомощен, я задыхаюсь. За все годы я так и не научился настоящим словам. Разве скудость чувств не болезнь?..
– Жду в холле, – отвечаю я в телефонную трубку.
– О'кей, – переводчик Альберта Толя заикается. Опускаю трубку. Набрасываю блайзер и выхожу. Вспоминаю стихи Фета. Зачем? Конечно, Цорн! Пичкает рифмами.
За лестницей плещется ручеек в декоративном бассейне. Потолок в оспинах голубоватых плафонов. Стойка бара заставлена рюмками, цветастыми бутылочными шеренгами. Бармен устроил смотр своему хозяйству.
Толь поднимается навстречу – сама предупредительность. Знакомит с переводчиком. Господин Мальмрут полноват, близорук, редкие седые волосы расчесаны на пробор, на переносице старомодное пенсне со шнурком. Он, будто кадровый офицер, вытягивается, склоняет голову.
Мы усаживаемся в кресле.
– Альберт показывал журналы Мэгсона, – говорит Мальмрут. – Атлеты с головы до пят в одеждах из мускулов. Мэгсон чародей!..
Я развожу руками.
– Но тренировки грубы, – говорит переводчик. – Слава богу, их не видит публика.
– Тренировка не только воспитание мышц, – говорю я. – На рекордных и предельных весах новые ощущения подтачивают совокупность привычных ощущений и команд. Следует вышколить мышцы и волю, чтобы и эта тяжесть скользила по прежней наивыгоднейшей траектории. Надо исключить возникновение дополнительных рычагов, растормозить движения и быть невосприимчивым к ощущениям перегрузки. Повторения одних и тех же элементов, конечно, скучноваты, но не для атлета. Постоянно ощущаешь изменения в себе, настраиваешь себя. В тебе торжество преодоления, покорности веса, расчетов… – Я отделываюсь пафосом фраз. Я понимаю, для чего здесь Толь. Моя тренировка – он хочет ее знать.








