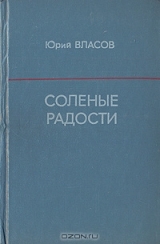
Текст книги "Соленые радости"
Автор книги: Юрий Власов
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– Раскройся в подрыве, – говорит Поречьев. – Привстань на носки – и раскройся! Плечи откинь, руки прямые. Мышцы все отдадут! Снимай с выключенными локтями и не спеши, иначе завалит вперед. Раскройся – и сразу под вес. Как выполнял уход Шеппард? Вот так же камнем, но мягко, эластично…
С неприязнью думаю о Цорне, Хенриксоне и всех, кто расточителен на слова, за все рассчитывается словами: «Переделыватели мира! Потрясатели воздуха! Возы слов! Вместо жизни вымыслы, абстракции».
Ценю лишь слова, обожженные риском, оплаченные днями и годами собственной жизни. Я задыхаюсь добротой людей, участием людей.
Поречьев приседает, ловит воображаемую штангу на грудь. И снова объясняет, как важно не клюнуть корпусом перед посылом.
– Будем отступать, сохраняя боевые порядки, – говорю я.
Поречьев с хрустом сжимает кулак:
– Рекорд твой! Ему просто некуда деваться.
– А страницу мы все же перевернули, – говорю я.
– Что?
Я молчу. И это молчание словно выцеживает тревогу из тишины.
– Великий атлет должен верить только себе, слышать только себя, – говорит Поречьев. – Ограниченность– это не издержка спорта, а необходимость! Осознанная необходимость!
– Пусть теперь бесится, – я киваю в сторону, будто здесь с нами «экстрим». Я встаю.
– Что ты все загадками говоришь?
– Цорн где?
– А что, нужен переводчик?
– Он звонил? – спрашиваю я.
– Он у Риты, ей плохо. На всякий случай оставил телефон Мальмрута.
Улица съедает мой шепот, обреченность шагов, загнанность сердца. Кто я, куда иду, зачем?..
Мотаюсь по белесым залуженным улицам. Глазею на рекламы кинотеатров. Жадно прислушиваюсь к чужой речи, ворую тепло чужих слов. Поглядываю за собой в стеклах витрин, телефонных будок, автомобилей и выражении чужих глаз.
Вижу дни своей юности. Выбеленные солнцем дни. Волосы сухи жаром тех дней. Ветер обрывает листву, валит высокие травы, смешивает запахи всех трав. Я неутомим и ловок в прохладе всех вод. Горячее дыхание земли – все ласки этого горячего воздуха-на моем лице, руках, груди. И все в том мире близко, понятно, дорого…
Тяжеловесен белый сырой воздух этой ночи. Редеет поток прохожих. Желты и блеклы огни…
Бреду за воспоминаниями…
– Рассчитываешь на пожизненное признание? – спрашивает Цорн.
– Лучше выпей, – говорю я.
Я достаю из чемодана бутылку и ставлю на стол. Хочу до предела сократить пустоту последней ночи. Да и ему некуда деть себя.
– Кто ты? – Цорн подсаживается к столу.
– Это лучше всего знают газеты и публика.
Цорн вышибает пробку, наливает стакан до половины, делает несколько глотков.
Пробегаю взглядом свое интервью Пьеру Ламбару:
«…Этот громадный человек говорил в микрофон очень спокойно. Он производит впечатление человека, у которого в жизни все выверено и прочно. Полагаю, что неудачное выступление русского – тонко рассчитанный ход…»
Поречьев поглядывает на Цорна. Уже одиннадцатый час вечера.
Тормошу Цорна вопросами. Пусть говорит. Я сегодня примерный слушатель.
Поречьев подходит ко мне, ощупывает плечи, руки.
– Сядь поудобнее, – просит он и осторожно встряхивает мышцы. Слабну под его руками.
– Двенадцать бутылок пива входят в недра этого чудесного портфеля. – Цорн укладывает книги в портфель. – И еще остается место для старого джентльмена. Разве «Гордон драй джин» не джентльмен с пробки до донышка?..
В нагрудный карман пиджака засовываю платок. С особой тщательностью причесываюсь. Черт побери, я не так плохо выгляжу! Крутые плечи, тяжелые, налитые руки. Почти шестнадцать лет «вбиваю» в себя силу.
Рукой веду по руслам мышц. Что могу подарить им, кроме этой ласки?..
Прикидываю, как сберечь их. Ведь даже на таких весах можно чисто сыграть, если напряжение всех групп мышц слить. Сыграть без пауз. И я сыграю эту партию на своевременности усилий.
Мысленно прилаживаюсь к грифу, контролирую готовность каждой мышцы, вывешиваю рекорд на мышцах…
Я перед зеркалом. Смотрю на свое отражение и не вижу: гриф бьется в моих ладонях. И я окончательно прихожу в себя. Меркнут ощущения столкновения веса с моими мышцами. Огромные блестящие глаза смотрят на меня из зеркала – это я…
Я один в этом парке. И для меня зажжены все фонари и угодливо пусты все дорожки. Белая ночь навязывается в подруги.
Надо идти. Шаги приручают мысли. «Экстримные» мысли могут обессилеть раньше, чем выйдешь на помост. Подчинить себе лихорадку! Взять себя в руки!
Как в старинной китайской книге: все в этом городе заросло высокой травой, и не ступает здесь нога человека. Белые травы северной ночи. Заросли этих белых, бесконечных туманов.
Перебираю в памяти цифры нагрузок: в числителе дроби – порядковый номер подхода, в знаменателе – количество повторений упражнения. Какое же количество повторений оптимально при тренировках методом экстремальных факторов?..
Кровли домов пропадают в сумерках. Сумерки превращают дома в ряды высоких стен.
Возвращаюсь в гостиницу. Цорн, наверное, поужинал. Мы еще посидим перед сном. Нам спешить некуда.
В памяти та запись Поречьева в тренировочной тетради. Где и когда он оставил меня? Или я ошибся в нем? На Востоке говорят: меч этого правдолюбца вложен в ножны предательства. Этот мастер великой резьбы слов Пу Сун-лин заметил: «Когда подлый стремится к добру, он как бы сажает куст, чтобы собрать с него цветы…» Рисую в памяти иероглифы этого афоризма.
Женщина в синем вечернем платье шутливо дергает рассыльного за лакированный козырек каскетки. Искусно подвитые пепельно-седые волосы подчеркивают румянец ее щек. Узнаю мадам Танго – так я прозвал за капризно-томный шаг женщину, которой переадресовал послание Святейшей Девы Гваделупской. Лифт уносит ее.
Цорн окликает. Сбрасываю плащ, приглаживаю волосы. Иду и сажусь рядом с ним.
– Парад ночных бабочек, – говорит Цорн.
Двери ресторана проглатывают гостей. У подъезда гостиницы выстраиваются автомобили.
Выходит метрдотель. Закуривает. Учтиво пропускает своих клиентов. Перебрасывается замечаниями с администратором. Порой он весело отстукивает лакированной туфлей ресторанную мелодию.
Цорн засовывает книгу в портфель:
– Преподносят гадости, как букеты роз. Еще изволь переводить эту мерзость.
– Отдохнул бы от переводов.
Метрдотель, одернув смокинг, исчезает в ресторане. Кажется, все эти люди жили ради этого часа, делали все, чтобы получить этот час.
– Я что-то озяб. – Цорн встает. – Как говорят в России: глоток водки – лучшая шуба.
Я вижу, он бодрится. Он осунулся, бледен и скучен.
– Пойдем, – говорю я.
– Ба! Эльза! – Цорн сворачивает к лифту. Церемонно целует руку девушке. Она краснеет и что-то говорит, В руке у нее букетик синих гвоздик. Черный свитер и черные брюки делают ее похожей на мальчишку. Она вставляет гвоздику в петлицу Цорна. Он снова целует ей руку…
Поднимаемся с Цорном. Я по спортивной привычке обхожусь без лифта. Цорн упрямо следует моему примеру.
– Ее зовут Ангел Смерти. Работает без сетки и без ловлита, то есть без партнера. Она не признает страховку. В любом случае без сетки…
Бар раскачивается в дыму. Парни в женских цветных блузах. Хриплоголосы женщины, истощенные, как манекенщицы. Желтится пиво в пинтовых граненых кружках. Белый пот на этих кружках. Бутылки стерегут столы…
– …Ее предок Эмиль Гравэлэ. В 1859 году прошел по канату через Ниагарский водопад. Двадцать пять тысяч зрителей собралось посмотреть, как он разобьется. Гравэлэ посмеялся над всеми. Над водопадом он изжарил яичницу в своей миниатюрной печурке и преспокойно ступил на другой берег. Имя его стало легендарным.
По афише он был Блонден и служил в качестве канатоходца У Александра Гверры… А не глотнуть ли пива?..
– Не мешай с водкой, развезет.
– Алкоголь примиряет меня с действительностью.
Мне всегда мнится, будто я неудобен людям. Себе-то уж определенно неудобен. Глоток спиртного лишает этого комплекса неполноценности. У каждого свинства свое идейное обоснование… Что остановился?.. Тебя прельстила эта ночная ваза?..
За стойкой бара Ингрид. Она сидит на крайнем табурете. У нее тяжеловатые бедра и тонкая талия, и со спины она действительно вроде тех ваз, что лепил Пикассо. Ее не узнать: рыжие волосы накрывают плечи. Она поворачивается, отводит волосы и смотрит на меня. Ее глаза ничего не выражают.
Черт побери, это здорово, что здесь так накурено и всем нет до меня дела!
Она соскальзывает с табурета. В губах улыбка. Она в облегающем светло-сером костюме. Янтарная заколка в форме скарабея стягивает воротник блузы. Ее руки замирают в моих ладонях.
– Я воспользовалась тридцатью минутами перерыва.-Снизу на меня смотрят огромные серые глаза. – Видишь, я не ошиблась: ты пришел. – Она говорит очень тихо. И в этих огромных глазах выражение какой-то отрешенности. – Ты очень сильный – знай это. Пойми, другие не могут видеть и понимать себя – это только для сильных. Верь в себя, милый!.. Я испытала на себе грубую власть других. Как бы я хотела, чтобы ты стал моей силой! Так ждала тебя! Столько ждала! Вот и все мои слова, милый. Забудь их. Ладно?.. – Она достает из сумки ключи от автомобиля и почти бегом спускается по лестнице. Портье выходит навстречу. Подает ей плащ. Я вижу, как дверь-вертушка захватывает ее…
– Прости, – слышу я Цорна. Пенковая трубка исторгает на меня клубы дыма. – Я вел себя по-хамски. Прости, Сергей. Она славная. – Ты носорог! Ты понял?
– Принимаю все… А знаешь, у нее недурное меццо.
Голубоватые плафоны встречают нас в коридоре.
– Что делает здесь Эльза, Максим?
– Эльза… Влюблена в Гуго…
– В Хенриксона?
– Он был неразлучен с ней, когда она болталась на костылях. Она репетировала трюк своего предка и разбилась. Теперь снова репетирует. Очень довольна. Скоро состоится этот дьявольский шабаш… Боги благие! А не подрабатывал ли наш Гуго в цирке? Уж очень профессиональны эти сальто-мортале. Да он же с ней там и познакомился, наш акробат!..
Вдруг отчетливо вижу спортивный зал. На меня надвигается этот зал. Я в тепловатом ожидании этого зала.
Мне не нужна другая жизнь. Я не выкуплю силу, не выкуплю все эти годы, не верну ни одного мгновения, но я зову эту жизнь!
В номере светло и сумрачно. Я одергиваю штору.
Цорн кладет трубку:
– Маргарет Ярвинен обещана жизнь… до следующего приступа. Выпишут через две недели… если ничего не случится. – Буроватый пенковый носорог берет разгон из зарослей крепкого дыма. Цорн, ссутулясь, смотрит на меня.
Я наливаю в стакан водку.
– Нет, не хочу, – говорит Цорн. – К черту! Я иду в ванную и выливаю водку.
– Я книжник, – говорит Цорн. – Живу по книгам. Прикладываю все книжное к жизни. Упрекаю Гуго, а сам хуже книжного червя. Ну, милейший, что лучше, быть гильотинированным или гильотиной?.. Ладно, у меня скверно здесь. – Цорн прижимает руку к груди.
Я киваю. Но я далек от него. Я отрекаюсь от всех иных смыслов и слов. Расчетливо веду себя навстречу каждой минуте.
Долго смотрю на Цорна, пока, наконец, доходит смысл его слов. Трубка потухла. Тускло отсвечивает ее желтизна в пальцах Цорна.
– …Зачем им Бодлер, Байрон? В лучшем случае знают их имена. Озабочены выгодами, пенсиями. А ведь холуи! Вылощенные, благообразные, но холуи! Великие завоевания культуры!
– Этот мир неизбежно станет другим, Максим. Не может не стать. Все будет иначе, пойми! Но мы нужны для этого. Всегда нужны!
Разглаживаю ладонями лицо. Умываюсь сухим жаром ладоней. Не отрекаюсь от прошлого. Я просто впервые начинаю слышать. Слышать себя и всех…
– Мир в нарушениях равновесия, Максим. В последовательном восстановлении утраченного равновесия, в новых качествах равновесия. Мир, основанный на неизменности равновесия, – паразитный, возможный лишь насилием и в насилии. Неизменность равновесия противна законам природы. В ничтожных и громких победах мир утрачивает равновесие. Он жаждет равновесия, чтобы потерять его. Сложные, примитивные, грубые, святые истины… – бесконечный мир равновесий. Жизнь существует лишь в победах, в этой высшей активности природы. И даже наши чувства – из этого мира нарушений равновесий, побед равновесием. Мы части громадных процессов, мы подчиняемся всеобъемлющим законам бытия. Глупость, гениальность, добро, напыщенность, торжество, алчность, безрассудство, подлость, вера… сталкиваются, разрушаются, снова сталкиваются, непрерывно сталкиваются. Все вечно лишь в этой непрерывности! Непрерывности изменчивостей! И боли, и счастье, и мерзость – жизнь! Непрерывность, как таковая, и возможна лишь в нарушениях равновесия. Мир нереален без этих нарушений. Мир вынашивает свои противоречия. Мир теряет устойчивость ради новых равновесий. Мир постоянно опробывает новые равновесия. Мир потому и существует, что в победах терял равновесие, победами обретал равновесие. Всегда вызревают новые победы! Можно их презирать, ненавидеть, любить, проклинать, но они вызревают. Каждый миг вызревают. И вся наша жизнь в этом: что ты есть для победы? За работой, заботами, страстями, рождением и смертью – яростное натяжение равновесия, рев этого равновесия и новые свершения! Всегда грядет новый мир! Победы созидают жизнь! Мы из побед!..
Цорн приминает табак в трубке и поглядывает на меня:
– Сила обычно не на пользу разуму. Сила подтачивает умение трезво мыслить… Как тебе Брамс? Не раздражает композицией?
– Брамс?
– Я уже говорил. – Цорн кладет трубку на блюдце для графина, смотрит на меня. – Я объяснял тебе, победы вообще не аргумент и еще ничего не доказывают. Философ-материалист утверждал: «В твоей победе заключается твое поражение». – Цорн подбрасывает спичечную коробку. Забавляясь, крутит ее пальцами.
– Если в победе видеть конечную цель, то да. Но у развития нет конечной цели.
Цорн закрывает рукой глаза и читает, постукивая коробком:
…Ваши очи были птицы,
Утонувшие в огне.
Говорит после паузы:
– Возможно, прав ты. Возможно, я. Но побеждают мальцаны.
– А ты их переводи, Максим, – говорю я. – Переводи! Побольше и постарательнее. Пойми, мы утверждаем, если действуем. Природа развития в действии. Мир вкрадчиво переходит к новым равновесиям, мир рывками перескакивает на новые равновесия. Мир ищет равновесия. Всегда грядет новый мир! И этот новый мир четко откладывается в нас. Он еще не скоро свершится, порой не очень скоро. Но этот грядущий мир через нас станет жизнью. Становится жизнью. Он в нас ищет силу. Он из нас – из нашей силы. И прежде в нас свершает свои великие изменения. Он всегда начинает с одного человека, многих… Эти изменения или калечат, или убивают нас, или делают людьми. Но грядущий мир никого не обходит. Ищет нас, находит нас, когда мы даже не слышим его. Всегда грядет новый мир! Он побеждает тем, что делает нас лучше, чище, активней. Из столкновений со старым мы познаем новое и черпаем опыт. Нами новый мир подступает к своему утверждению. Жизнями расплачивается мир за свои великие цели частного…
Цорн складывает из спичек геометрические фигуры. Кажется, он весь ушел в это занятие. Потом поднимает голову. Смотрит. И вдруг улыбается. Эта неожиданная улыбка сбивает меня. Цорн говорит:
– В конце концов самое важное, когда есть точка опоры. – И спрашивает:-Помнишь последнюю попытку в Оулу?
– Да.
– Я уже решил, есть рекорд. – Цорн встает, подходит К окну. Водит ладонью по своему отражению. Шепчет:– Ряженый. – Прикрывает ладонью отражение своего лица и произносит твердо и внятно:– Я ряженый.
Мы смотрим на эту ночь, которая вдруг потеряла свои краски. Бестелесен этот город. Кажется, он поднялся и витает в светлой дымке. Выжженный белой мглой город. Северная ночь.
Идем с Цорном. Неоновое пламя витрин обозначает линии стен.
Меня бьет лихорадка. Я между светом, мраком, надеждой и отчаянием. Завтра! Все завтра! Люди с билетами на мой спектакль уже спят.
– Я следую заповеди своего отца, Максим: во всем сомневаясь, оставаться убежденным. Если это можно назвать девизом, то это он.
«Китайцы говорят: хочется любить, как ласточке, – думаю я. – Хочу любить жизнь, а у меня все, как выгорело».
Завтра мне работать. Завтра я проверю все слова. День окончен. Я выполнил все предписания режима. «Экстрим» тому свидетель. Оборачиваюсь к Цорну:
– А ведь хорошо сказано: у страха есть свои герои.
– Смотри, снег! – говорит Цорн.
Снежная крупа с шуршаньем скользит по плащу, заслоняет дома, скачет по асфальту и замирает, оплывая водой.
– Надо принимать этот реальный мир, а не мир добрых пожеланий и абстракций, – говорю я. – В этом, а не в выдуманном мире отстаивать духовные и материальные ценности. Боль – дурной советчик, в тебе очень много боли, Максим. Единственный способ выжить – борьба, даже если ты один, если измучен и все они против тебя. Светл и безумен всякий, кто посягает на истины этого зверинца. Ничтожность твоих сил – не значит поражение и совсем не значит, что ты не прав. Все отрицать– это уже давать им шанс! Они очень ловко подводят других к отрицаниям. Понимаешь, тогда нет ценностей вообще и все бесплодно, бессмысленно – это самый выигрышный ход зла… – Я киваю на сизое охвостье этой снежной майской ночи:– Не бери в советчики ночь, Максим. Даже если эта ночь белая и очень красивая. – Глазами ищу табличку с названием улицы.
У атлета должен быть крепкий сон и спокойные глаза. Разбираю постель. Боюсь сна.
Поречьев ловит мою руку и выкладывает на ладонь белые таблетки:
– Лекарство, успокоит, на координацию не влияет. Уснешь. Проверил на себе – хватит двух таблеток. – И он снова повторяет все свои доводы. В живую кровь вливает ханжество слов.
– Рекорд наш!-говорит Поречьев с порога. – Тебе еще сомневаться! Наканифоль большой палец. Я всегда так делал. Пусть приклеится с ладонью к грифу. Руки как плети -для подрыва это все… А теперь спи. Заглотай таблетки и спи! Пусть соперники не спят!..
Коридор отстрочен светлячками-плафонами – плоскими синеватыми дырами в потолке. Мутна белая ночь в коридоре.
– Спокойной ночи, – говорит Поречьев.
Я медлю несколько секунд, потом закрываю дверь. Ноги вязнут в бобрике. Отношу туфли в ванную: промокли насквозь. Ставлю на горячую трубу.
Ждать соревнования – дело привычное, хотя всегда тягостное. И в этот раз я бы просто механически выполнял все, чему научили другие ожидания, если бы не «экстрим». Я бы не мотался по улицам, не горел бы как новичок. Эту лихорадку не заговоришь словами.
Но если и позабыть месяцы «экстрима», все равно, сколько можно выжимать из себя? За последние годы я увеличил мировой рекорд в толчковом упражнении на тридцать пять килограммов. А ведь были еще рывок, и жим, и все тренировки. И была другая жизнь. И никаким отдыхом не стереть следы напряжений. Везде оставлял себя.
Выщупываю пульс. Гонит, как после подхода к штанге. Этот «экстрим» сожрет силу еще до рекорда. Разжижен температурой. Швыряю таблетки в корзину: к черту! Быть рекорду или нет – решать не сну и не усталости! Пока я хозяин себе!
Глава III
Я остался на своем начальном весе. Потом этот вес с третьей попытки взял Джордж Сигман. А Майкл Ростоу взял на семь с половиной килограммов больше. И мне стало не по себе. Я решил, что я загнал себя прикидками, что теперь и рывок и толчок тоже пойдут плохо. Это был мой первый чемпионат мира.
Зал ворочался в желтых сумерках. Потом вспыхивали прожекторы и зал исчезал. Я терял представление о пространстве. Я казался себе каким-то тупым и сонным.
Я привык на тренировках к спортивному костюму, и сейчас без него мне чего-то не хватало, И от этого мне казалось, что движения на помосте обязательно не сложатся.
В хороших движениях всегда удается преодолеть эту чуждость «железа». Я старался держаться поближе к грифу, но все равно вес зависал где-то вперед и обрывал руки.
Я был виден всем, но сам не видел никого.
За ярким белым светом я улавливал беспокойство зала.
Конечно, в том, что я пересолил с прикидками, была своя правда. На этих последних тренировках перед выступлением разминочный зал всегда был забит публикой. Репортеры каких только газет не брали у меня интервью! А болельщики! А тренеры всех команд! Я не слушал Поречьева. Точнее, каждый раз умел убедить, что именно этот вес – очень большой вес – мне, право, необходимо сегодня попробовать. Конечно, я здорово размотал силу к своему выступлению. И все же в жиме я сорвался не потому. Меня сбили с толку команды судьи. Я брал штангу на грудь. Дальше всегда следует команда судьи-фиксатора. Это выжимание штанги с груди по команде введено для того, чтобы исключить работу грудью и ногами. И вот эту команду судья затягивал. Я принимал старт, а он не давал команды. Я держал вес в очень невыгодном положении: горло сдавлено грифом, грудь заломлена, а поясница и ноги напряжены.
Судья медлил с хлопком. Я думаю, что хлопок он подавал где-то на пятой секунде. Тогда я уже был задушен «железом». Поэтому я и засох на первом подходе.
Весь год после чемпионата я работал в жиме только под хлопок. Поречьев вслух считал: «Раз, два, три…» Он не делал исключений даже для самых больших весов. Но теперь я стал готов к самому худшему, и никто не смог бы сбить меня с толку. Я уже приспособил стойку, дыхание к этому режиму.
И на разминках я уже не удивлял публику. Нет, меня все равно подмывало попробовать большие веса, но Поречьев не спускал с меня глаз. В конце концов я привык. Точнее, не привык, а научился удивлять публику обычными весами. Я работал так точно, мышцы держал так расслабленно, что движения мои казались совершенно воздушными. Я только прикасался к «железу», я только напрягал мышцы, а штанга залетала на прямые руки. Накануне соревнований это тоже было не очень полезно. Я ведь выкладывался в такой работе. Но совсем стать другим я не мог.
Сколько ж легкости в этих движениях! И эта сила, ласкающая «железо»! Эта точность и скупость движений! Я ощущал упругость своего тела, готовность к поединку – и был счастлив. Когда я погружался в такие усилия, я был счастлив. Все дни, когда я мог работать так, отмечены в моей памяти…
Я включаю приемник, усаживаюсь в кресло. Смотрю на свои заскорузлые ладони. Это не ладони, а какие-то подошвы, наждачные, грубые.
Рэй Чарльз поет свою знаменитую песню «Джорджия».
Тоскливой и никчемной предстает жизнь. На что ушли годы? Терял себя. Слава отравляла искренность. Что я знал, кроме своих забот? Как озабочен я был этими заботами!
Снимки, афиши, похвалы. Какое отношение к моим целям и всей жизни имеет восхищение других?
Ночь подслушивает меня. Смотрю на белые стекла.
Я обречен странствовать по чужим городам, искать в странствованиях громкие слова. Я уже обучен верить громким словам, гнаться за громкими словами. Ими измерять дни и годы…
Обхожу какую-то улицу. Здесь работы. Посреди улицы канава и острые кучи щебня. Раскачивается на свету красный фонарь. И снова шум ливня, витрины в потоках воды, пустота мостовых…
За неделю до чемпионата страны в Новосибирске я впервые испытал «экстремальное» потрясение. Истощенные экспериментом нервы каждый миг превратили в пытку. Ядовитые краски той ночи!
«Вся беда в одиночестве, – шепчу я. – Будь проклято одиночество! Эксперимент, тренировки, слава, «железо», – я все время один. «Экстрим» жиреет этим одиночеством…»
Дождь гаснет. Шагаю по странным светлым улицам. Город лоснится сытостью луж. Ночь кажется еще более светлой после полутемной, погруженной в сон гостиницы. Ветер меняет направление, и в его дыхании все явственнее ощущается тепло.
Ищу себя. Забрасываю ночь словами. Отгораживаюсь от боли и зла словами. Возвожу преграды из слов.
Хубер, Риверс… Нокдаун или нокаут?..
«…Никакие влияния вообще не в состоянии остановить разрушительные последствия так называемых чрезмерных стрессов из-за необратимости нанесенных ими разрушений…» Необратимость разрушений! Необратимость!..
Формула Фэтли-Уэйза… болезненное угасание…
Почти шестнадцать лет я упражнялся в искусстве быть первым. Я разучился понимать другой язык, кроме языка поединков и силы. Выгорая, все чувства становились одного цвета. Честолюбие завербовало меня в атлеты. «Экстрим» должен был найти меня…
Поднимаюсь пешком на свой этаж.
Щелкает дверь: мадам Танго! Вот уж не знал, что мы живем на одном этаже и через три номера. Вижу .воспаленные припухшие глаза и тщательно запудренный синяк.
Я оглядываюсь. Она идет, опустив плечи. Немолодая усталая женщина.
Кладу голову на руки и слушаю приемник. Даже в затасканных словах песен для меня сейчас свой смысл.
Ночь лениво накатывает свои минуты. Пытаюсь занять себя. От отца я унаследовал страсть к китайской литературе. С томиком Лу Синя вообще не расстаюсь. Его стихотворения в прозе «Дикие травы» не надоедает перечитывать. Перелистываю книгу. Мелькают в глазах помеченные карандашом строки:
«Когда я молчу, я чувствую полноту жизни, собираюсь заговорить – и меня сразу же охватывает ощущение пустоты…
Друзья желают мне радости и покоя, враги прочат гибель. А я продолжаю жить – пусть не в радости, пусть не в покое, но я не гибну, а живу…
Как и надежда, отчаяние лжет!..»
Пробегаю взглядом эти слова. Их много. Я отрицаю слепые шаги судьбы. Для меня нет слепых шагов судьбы и судеб.
Жду ту большую усталость, когда засну наверняка. Пусть всего на несколько часов, но уже без пробуждений. А эта усталость пока не обещает надежного сна.
Прихожу в себя. Смотрю на часы: спал минуты четыре. Слышу шаги в соседнем номере. Ночь прилипла к окну одними и теми же красками. Во все глаза гляжу на эту ночь. Приемник бубнит свои новости.
Крохотные минуты сна успели отравить своими выдумками. Отграненная ночным безмолвием тоска и отчаяние сужают мир чувств.
Смотрю на свои мускулы. Крупные – им, кажется, нет места под рубахой. Им вообще тесно – моим мускулам. И даже я мешаю им. Им нужно м«ого жизней.
Ладонью проверяю изгибы мускулов, надежность связок, узлы крепления мышц. Что им до меня? Читаю свои мускулы. Перебираю мускулы, благословляю мускулы. Зачем эта великая правильность всех мускулов?..
Подпираю голову рукой, закрываю глаза, вытягиваю ноги. Спать! Надо спать. А то и в самом деле можно спятить – ведь уже сегодня – да, да, сегодня!-самое мощное испытание. В секунды усилия должен буду вложить энергию целых лет обычной жизни. Должен суметь вызвать эту энергию! Раскалить себя этой энергией. Стать победой.
В памяти мешаются строфы стихов из сунских новелл.
Подернуты дымкой вдали голубеют хребты,
Гусей призывает из странствий дыханье весны…
Неужели все, что я делаю, никому не нужно?! Неужели только тщеславие? Неужели все только ошибки? Где граница моей искренности?..
Густой аромат напоил эту теплую ночь…
Весенней ли ночи букеты такие вдыхать?!.
Сколько мне осталось будущего? И в чем оно?!
За обилием моих слов – ночь. Она приклеилась к окну, белесая, слезливая. Во мне странная усталость. Усталость, замешанная на огромной силе.
Мои соперники по «железной игре»…
Легендарный Торнтон выступает в цирках. Газеты о нем вспоминают весьма скупо.
Ростоу служит в частной торговой фирме.
Сигман спился. У него нет профессии, ничего не умеет, кроме как быть атлетом.
Сазо… Не знаю, что с ним. Говорили, беден…
Роджерс… После травмы стал никому не нужен.
Кейт погиб во Вьетнаме. Как будто его и не было.
Кирк спивается. У него нет профессии, а его сила никому не нужна без рекордов.
Харкинс. О нем все молчат.
Сколько каждому было посвящено статей, телевизионных репортажей и пышных встреч!
Бывшие мои соперники. Воистину для них спорт противоречив, но велик. Зато неизменно благополучны все столпы этого спорта, все блюстители его правил, чистоты и благородства духа…
Вот только Гартинг… Он выступал на чемпионате мира в Москве против меня и Сазо. Этот Гартинг стал журналистом и нередко пишет пакости о своих же бывших товарищах.
Разве понятие «атлет» это не определение отношения человека к жизни вообще? Разве это не славное племя людей, которое презирает смирение и длинный табель о благоразумии? Разве оно не безумно расточительно на свою силу и все удары своего сердца? Разве понятие «атлет» не определение моего поведения в жизни? В жизни, для которой мы всегда атлеты… И разве звание «атлет» защищает нас от жизни, и разве оно для того, чтобы защищать?.. И разве не обнажены мои товарищи ударам судеб, как обнажены они перед «железом» и всем миром на помостах?..
«Не хнычь! – шепчу я себе. – По-мужски встречай испытание!»
Весна исчезает, гонимая воплем кукушки,
Из клюва у птицы кровавая пена течет,
Такие покойные, длинные дни наступают,
Что кажется, будто совсем темнота не пройдет…
Китайский язык я изучил в совершенстве, если владение вэньянем есть совершенство. А я владею классическим древним вэньянем. В часы покоя я рисую иероглифы, рисую с упоением. День за днем почти двадцать лет я изучаю китайский язык. Не одну магнитофонную ленту я разлохматил, упражняясь в вариациях произношения. Я не печатаю свои переводы, хотя кое-какими горжусь.
«Латинская буква властным жестом утверждает, что вещь такова, – писал знаток Китая Клодель, – китайский же язык есть та вещь, которую он заменяет…»
В жестокость моего одиночества вдруг вплетаются нежнейшие строфы Чжан Ши.
Строки чудных стихов приносило бегущей водой,
Чувства нежные зрели в душе, глубоки и чисты…
В причудливом строе этого письма дыхание поцелуя, стройность бамбука.
Один из друзей моего отца, знаток китайского языка, говорил, что в русском алфавите самая сложная буква «щ». В ней пять графических черт, а один из наиболее ходовых иероглифов «юй», что значит «густой, роскошный, огорчение», имеет двадцать девять черт…
…Алые губки – что сочные вишни плоды,
Белые зубки – что ровные яшмы ряды.
Крохотной ножки почти незаметен шажок,
Песнею иволги нежно звенит голосок…
Я влюблен в этот язык любовью своего отца, проведшего в Китае полтора десятилетия. Его друг задыхался словами, когда говорил об иероглифах, забывал о времени, о собеседниках и стынущем глинтвейне. Вдохновением дышало каждое его слово: «Вы говорите, иероглифы притупляют восприятие и познание? Только наследственный кретин может утверждать подобное! Иероглифы – это мир бездонной и величавой красоты. Созерцание иероглифов ничем не отличается по характеру от созерцания творений искусства. Первые иероглифы создавали только художники – эту энциклопедию письменности в рисунках. Рисунками люди научились читать. Посмотрите на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, рыбы, феникса… Голая, широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает ладонью низ живота. Вглядитесь в эти иероглифы! Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами, изогнув гигантское туловище, летит по сине-зеленому небу. Иероглифы совершенствовали философы, упрощали торговцы и литераторы, но в каждом сохранилась крепкая красота знака…»








