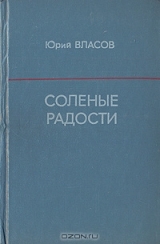
Текст книги "Соленые радости"
Автор книги: Юрий Власов
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Слева и справа над кустами птицы. Две – метрах в семидесяти: стрелять бесполезно. А одна – метрах в сорока и вот-вот окажется за выстрелом.
Бью навскидку, не успев принять стойку. Птица не изменяет полета, но потом замирает и, продолжая работать крыльями, валится хвостом вниз. У самой земли накрываю ее вторым выстрелом.
– Ищи! – командую я. Но команду можно было бы и не подавать. Пес прыжками идет к ней. Если даже подранок– не уйдет. Пес придушит. Еще не было случая, чтобы от него уходили подранки. Но сейчас там не подранок. Я видел, как дробь трепанула птицу.
«Славно, – думаю я. – Не было охоты, а вот теперь такая…» У меня дрожат руки. Сколько не охочусь, а вот в эти мгновения… Я улыбаюсь. До чего ж приветливо это солнце!..
Перезаряжаю ружье. Славное у меня ружье. Пальцы залипают пухом и кровью. В бок толкается тушка сбитого тетерева, одергиваю ягдташ.
– Подать!-кричу я.
Вспоминаю свои выстрелы: почти не брал упреждений, кроме последних. Но тогда вынос был необходим. Достал-то ее метрах в пятидесяти.
Пес развалисто трусит ко мне. Принимаю птицу и хвалю его. Вот кого я завалил на пределе: петушок. Молодой петушок. Маховые перья робко зачернили крылья.
До чего ж приятно на ветру! Славная нынче охота.
Иду к кусту под сосенкой. Заглядываюсь на солнце, игру ветра в кустах, сизовато-красные капли клюквы в стеблях.
Эта птица застряла в ветках. Выстрел поразил ее в брюшко. Пес воротит морду. Он не выносит этого духа. Когда дело сделано, птица теряет для него интерес, а запах ее отвратителен. Он никогда не ест дичь, сколько я ни предлагал ему сочных отварных кусочков. Лягавые этим отличаются.
– Славно ведь, старина? – Я глажу его. Он уворачивается. – Ладно, ладно…
Я показываю направление:
– Попытаем счастье, а? По-моему, ты в этой роще пуганул еще выводок. Пошарим, а? Вперед! – И я поворачиваю к кустам к гряде леса перед озером.
Забавные эти кусты, как в парке. Вроде нарочно рассажены и подстрижены. Озолоченно струится листва под солнцем. Вороны тянут над холмом. Успокоенно отодвигается куда-то в глубь сердце. И опять тишина разливается в воздухе.
Эта синева неба, блеск солнца, покойная лень в каждой подробности!..
Не успеваю понять, что случилось, но я сжимаюсь и ступаю сторожко, бесшумно. Пес не «челночит»! Он спотыкается, делает потяжки. Пружинится на шорохи. Выпуклы и кровавы белки его глаз.
И снова я погружаюсь в голубоватую смазанность предметов. Я бесплотен и горяч. Ружье лежит в руках ладно и чутко к любому движению пса. Я ложусь в эти движения. Я неразделен с ними. Слышу и воспринимаю мир по-звериному настороженно.
Опоздал! Не может быть! Что это? Опоздал?! Ружье у плеча. Щека липнет к прикладу. И пес, и я поворачиваемся мгновенно. Но как он успевает забежать назад? Я так и поворачиваюсь с ружьем у плеча, не поняв, что случилось.
Птица пропустила и вылетела позади почти бесшумно. Ветер скрадывал шум, дул в лицо. И когда уже крылья вынесли ее высоко и она стала набирать скорость, мы услышали ее. И когда еще глохнул выстрел, а птица на мгновение раньше замерла и потом, отвесив шею, рухнула, я уже слышал разнобой многих крыльев.
Птицы разлетались во все стороны. Мы тонули в треске крыльев. И я даже уловил квохтанье старки.
Этот выводок, очевидно, разбежался до того, как мы вышли на него. И я понял, почему пес зеванул первую птицу. Он шел на другие запахи, а этот сносил ветер.
Я сшиб старого петуха. Бог знает, как он оказался с этим выводком. Он был смолисто-черен и велик. И крылья его широко загребали воздух. И больше не было зарядов, а перезаряжать было поздно. Я стоял и смотрел, как птицы буквально брили кусты. И все они были синие. Большие синие птицы.
После я взял в этом выводке еще двух тетерок. Я мог бы взять больше, но этого было достаточно.
Я выбирался с болота на холм и вспоминал выстрелы, и как грузно, подкошенно падали птицы, и как, взлетая, открывали светлую опушь под крыльями. Это была славная охота.
Я выбрался на холм. Здесь, на склоне, у самой подошвы, трава была такой высокой, что набивалась колосьями в сапоги. И вся желтилась корзинками пазника – я ловил их на ходу. Корзинки были очень податливые. Мягкие и нежные, как губы женщины. И я, сорвав цветок, мял его пальцами.
Выше склон тоже не был распахан, но трава хранила следы второго покоса и пазник уже не попадался. Белая кашка ершилась из травы.
У края жнивья я скинул мешок, ягдташ, положил ружье и сел. Здесь было еще тише. Пылил ветер в стерне. Небо разметалось надо мной потерянно-далекое, холодное, колодезно-таинственное.
Пес с кряхтеньем повалился возле меня, положив морду на сапог. Он тут же забылся и в забытьи колотил меня лапами и по-щенячьи жалобно взвизгивал. Морда у пса сморщенно-брылястая, и во сне он настороженно поводил ушами.
Я облокотился на мешок. Снова цепь озер сливалась с горизонтом. И в клочках земли по матовой глади, и на горизонте – везде размывчато-сине стояли леса. А на полях по холмам топорщилась щетина жнивья, горбато выделялись скирды и бесшумно пылила дорога. Пыль эта пожаром клубилась от холма к холму. И совсем пропадала в лощинах. А с синих далей – во всю ширь и до самых небес – наплывал воздух, у которого был вкус ключевой воды. И горизонт был одет в эту синь таежных перекатов. И острая тоска звала за эти перекаты, обещала чувства особенных радостей и тропы навстречу незаходящему солнцу.
И птиц, и охоту, и азарт – всего лишала значительности эта необыкновенная раздвинутость горизонта, нераздельная слитность этой дымчатости горизонта и таежных далей, простора полей, глубина неба и покачивание колосков, пощаженных валками машин. Я смотрел на эту землю будто впервые. И солнце не слепило меня, когда я смотрел на него долго и в упор. И я видел, как изливается его жар. Я видел это горячечное мерцание воздуха, это изменение яростности лавы в ореоле солнца, эту линялость неба вокруг четко-раскаленного и правильного диска. И кузнечик на одной ноте, высоко, исступленно стриг мольбой воздух.
Пот подсыхал на ветру. Я ощущал в этой студености каждый изгиб своего тела. Но мне не было зябко, и я не боялся этой студености. И я уже тосковал, зная разлуку…
– Послушай, вислоухий, – говорю я, – стойку ты держишь изрядно, да уж только чересчур. Что ж, мне вместо тебя поднимать птицу? Набаловал тебя хозяин. Превратил в комнатную собачку – факт…
Голова пса покоится тяжело и неподвижно. И солнце радужно переливается в коричневых пятнах шкуры, а сероватый мех тускл и бел на солнце.
– Ах, мы молчим! Давим фасон. Ну выдрал тебя. А посуди, кто прав. Я бы тебе рассказал, как работают классный пойнтер или «англичанин». Ты брал когда-либо птицу за сотню метров? Не по наброду, а верхним чутьем? Ты вел когда-нибудь птицу двести, триста метров, и птица не сомневалась, что запутает тебя и уйдет? Понимаешь это: чуять ее и не напирать? Она замедляет бег, и ты не напираешь, не грубишь. И птица бежит, не поднимается, пока охотник вне выстрела?.. Тебе бы дрыхнуть… Но возьми в толк, отчего я тебя выдрал. Понимаешь, мы с тобой смычок. Ну как гончие. Вдвоем, а дело одно. Что ты без меня? Ты ведь не знаешь, а я охотился с такими псами! Они даже поправляют охотника. А работа с анонсом? Ты знаешь, что такое вернуться и передать охотнику, что нашел красную птицу, затем повести и показать?.. Нет, нет, старина, у тебя есть свои достоинства. Все они поднимают скулеж после первых дней охоты. У них лапы посечены, морды нахлестаны, мышцы изнежены. А мы с тобой грубы и не просим пощады. Верно ведь, мы никогда и ни у кого не просим пощады.
Пес сучит лапами во сне. Дергаются веки, выкатываются пустые белки глаз. Все сны охоты видит этот старый пес. Бродяга пес. Убежденный бродяга. И неисчислимое потомство его по десяткам подмосковных деревень даже не подозревает, что за голубая аристократическая кровь в жилах их гуляки-папаши. Клыкастый свирепый король всех собачьих свадеб. Бродяга, для которого не свита цепь и не существует наказания. Мы дружим с ним, потому что бредим свободой осенних пустошей, обманами странствований, злой настойчивостью поиска. И звонкая промерзлая земля не раз была нам постелью, а холод заставлял спать в обнимку. И первым открытием поутру был иней на вялой траве, копне сена или настиле из еловых веток, покрытых гремящим от мороза заношенным плащом. И только то место, где мы спали, после темнело и парилось рассеянным жиденьким теплом. И тогда вспоминал, отчего ночью были так близки и обильны звезды, спокоен и колюч воздух и обжигающе прилипчивы стволы ружья подле изголовья. И свежесть пробуждения ошеломляла ясностью покоя, синью теней в падях, безмолвием розоватых озер и бледностью чеканных форм луны. И пухлы инеем были травы. И пес, теряя тепло сна, топча иней на травах, читал ночь. Ночь, которая оставила свои запахи. И эти запахи были новыми, потому что пес задумчиво водил мордой на всю эту тишину. И нетерпеливая небрежность пса, поглощенного заботой доискаться до всех запахов, оставленных ночью, делала его небрежным к моим словам и голоду. И, заглатывая куски промерзшего пеммикана, – как я называл проваренную овсянку с мясом, запасенную впрок и не прокисающую в холодные октябрьские скитания, – пес подолгу вглядывался в стену тростника и осоки, перекаленной осенью в сушняк, и проступающую четкость озерного берега, заманчивость обманной тишины топей, обмелевших по осени и доступных.
И мы впопыхах собирали пожитки… Пес рвался к озеру. Я боялся свистеть и жестом возвращал его к себе. И глоток водки не был грехом, а возвращал мышцам тепло и подвижность.
И потом мы шли по-настоящему. Я слышал все свои шаги и угадывал тишину.
Я не скупился на плеть, потому что пес горячился и далеко уходил, а другого способа удержать не существовало. А важен был каждый метр дистанции. Тут пес должен быть рядом со мной. И первым утки должны услышать меня. Близкий выстрел решал эту охоту – охоту пугливого взлета жирующей птицы. И я должен был быть до предела близким к кромке воды.
Выстрел вспугивал птицу, которая была далеко и не знала точно, откуда грохот. И важно было затаиться, чтобы эти стаи прошли над тобой. И пес по темноватой воде выносил уток, и неестественно красными казались их лапы, а перья выбранно-чистыми, пригнанными. А сам выстрел еще был заметен – бледноватые розовые выплески обозначали концы стволов.
А воздух румянился, и стаи уже пролетали выше. И из мглы вдруг выступали облачка. Очень белые облачка, которые теряли сонливость и тоже трогались в путь. И клинья уток сосредоточенно резали воздух. А воздух уже был румян и над самой землей. И мы начинали большую охоту. Пес и я молились на нашу подсадную утку Агашку. И ее страстные позывы даже по осени смущали грудастых селезней. И когда они начинали кружить над Агашкой, а та звала все страстнее, заливистее, подруги селезней звали их назад в небо. Но стрелять было рановато. И наконец, селезень, увлекая за собой всю стаю, черно накрывал полосу света над камышами и выстрел опрокидывал его в зарю, разлитую по воде, а второй выстрел выбивал из стаи еще птицу. И пес жадно выгребал навстречу опрокинутой птице. Она ворочала крыльями в воде и вытягивала шею. А утка звала селезня и низко раз за разом заходила над водой. И я не стрелял ее, хотя видел ее так близко, что коричневато-рябоватое осеннее перо на грудке можно было различить по перышку. А Агашка заворачивала новые стаи. И как благодарен и нежен был я со своим ружьем…
И все это я вспоминаю сейчас. И эта память прочнее привязывает меня к жизни. Сулит мне радость других встреч.
– Эх, пес, пес… Можно, конечно, дрыхнуть. Это у тебя получается. Дрыхни. А вот обиду копишь зря. Сочтемся… Слушай, пожалуй, не стоит тащиться в деревню? Ну кому там нужны? Я мокр, до нитки мокр. Махнем-ка в лес. Соорудим огонек. Обсушимся, разберемся, как и где тянет утка. До ночки часа три. Обернемся ведь, а? А потемну на утку-ты не прочь, старина?.. Возьмем подсадных. Агашка у нас исправно зовет. Такую подсадную не сыщешь. Любую стаю завернет или принизит. Чучел набросаем… Пойдем, местечко приглядим? Ах, вы устали, сударь! Не изволите даже проснуться. А вот на зорьку завтра – это ты понимаешь?..
Я повышаю голос. Пес приоткрывает глаза, равнодушно-сонно смотрит из-под щелочек век.
– Согласен?.. Пошли… Забавно здесь называют чучела – чучалки. Рассадим-ка эти чучалки. И с Агашкой?!.
Я встаю. Пес настороженно таращится.
Я собираю вещи. Пес взлаивает, прыжками ходит вокруг.
Отсюда с холма лиственный лес – он пониже елового– как вышит по мрачноватому фону. Пересечь болото – и я там. Это с километр. Пойду лесом вдоль озера.
Ветер покрепче. Это ладно: утка станет жаться к воде.
Стебель козлобородника ломок и липковат. На пальцах бледно-желтые лепестки. Давний мой приятель: под Москвой зацветает в первых числах июля. И не брезгует самыми захудалыми дворами.
– Азартны мы с тобой, – говорю я. – Все, как новички. Слушай, а что все-таки слаще? Азарт, наверное, а? Опыт-то, старина, – это все же старость. Пусть даже когда немного лет. Чувствуешь-то иначе. Не согласен?..
Пес оглядывается. Даю отмашку, чтобы держал прямо.
Здесь на болоте о ветре можно лишь догадаться по протяжному гулу. Мы идем вдоль гряды леса над озером.
Сажусь на корточки. Зарываю ладонь в заросли клюквы и вместе с листочками вычесываю ягоды. Угощаю пса. Он не отказывается. Так и едим вперемежку. Пес фыркает и отбегает; сыт.
Мох уступчив и нежен под руками. И мошка не заедает. Лес полон запаха смолы. Горит лицо. И солнце в глазах отчетливее и знойнее изливает лавы своего жара. Я озираюсь на шелест леса, сглаженный расстоянием, на свежесть испарений этих ледниковых озер, влитых в раздолье ветра.
Здесь какой-то шабаш синих коромысел. Скорее всего, затишье дает уверенность их поиску. Впаянно-неподвижно виснут эти большие стрекозы в воздухе, а потом, отдаваясь его течению, внезапно срываются, и уже невозможно проследить их взглядом.
Это моя тишина. Заветная тишина полного согласия с собой.
Я поднимаюсь. И пес, услышав меня, зарыв нос в траву, припадая на больную ногу, кидается навстречу всем запахам.
Я мешаю ему. Я глуп. Я смешон. Я кричу: «Слушай, расскажи об этом!» И то, о чем я прошу его, что называю словом «это» – тот мир, который повсюду со мной. Он в городе, в реве чрезмерных усилий, в уступчивости ласк, в слиянии с ласками, в безбрежности лиц, в святости убеждений, и он есть то, для чего вся эта жизнь…
Пес «челночит». Ветер уводит его вправо. Я поглядываю на плеть и смеюсь. Все же распускать его нельзя. Что за радость тащиться там, где после поиска вот такого бродяги даже кочка скучает от одиночества?.. Я возвращаю пса свистками. Я не отцепляю плети, но грожу ею псу. Я наклоняю голову, чтобы спрятать улыбку. Этот пес понимает улыбку. Он лает и бесшабашит тогда без удержу. Но, ей-богу, я бы на его месте тоже наслаждался всеми этими запахами. И какое дело тогда до всех запретов?..
Рокотом прибоя надвигается таежный лес. Гуще аромат хвои. Выше лес. И ближе, чернее тени.
И я уже свой в этом шуме. И все деревья мерно клонят по ветру верхушки. И завитки коры опадают на землю. И внизу очень спокойно. Ярусы нижних ветвей слиты в неподвижность.
Берега озера запластованы мхом. Солнце, проблескивая между стволами, вытаптывает по зеркалу искристую тропу. В темной воде очень светлы палые листочки. Метрах в пятнадцати от берега осока и тростник. До чего ж уютны эти заводи с курчавыми наплывами длинной и путаной водоросли и листочками, мокнущими поверх воды. Этой зеленью кормится кряква.
Я вдруг чувствую, как тянет мое ружье и тяжелы сапоги. И ноги стерты. Быстро нахожу место для отдыха. В траве чернеет старое кострище, а заросли лещины защищают от озерного ветра. Сваливаю в кучу поклажу. Сношу сушняк. Костер обсушит и отгонит мошку. Оборачиваюсь на плеск. Пес шлепает по воде, взмученно плывет донная муть. Пес жадно лакает воду.
Запаливаю сушняк. Достаю хлеб, консервы. Ругаю пса. Он отряхивается, брызгами пачкая мне лицо.
Дым пронизывает лес, сине застаивается в елях. Пламя бесцветно и жарко. Пес скребет задней лапой за ухом, позванивая ошейником. Потом ловит зубами травинки. Ни хлеб, ни консервы его не прельщают.
Солнце вразнобой высвечивает стволы деревьев.
Вожу пальцем по срезу пня. Пес сует морду в пальцы.
– Не мешай, вислоухий… Семьдесят восемь, семьдесят девять… девяносто три. Как тебе это нравится? Сколько же можно успеть, если вот так – девяносто три! Нам бы их. А славно здесь: вымороженная свежесть, чистые ветры. Славно же здесь зимой. И на лыжах-то, наверное, не пройдешь. И бело все. Ты только прикинь: лес – множество веток, пней, валежника – и все без движения. Бородатый иней. Сквозные ветры. И снег сорвется с ветки, а по сугробам оспины…
Пес заглядывает мне в глаза. Уныло, со стоном зевает.
– Гуляй, старина. Не держу – гуляй! – Я похлопываю его по холке. – Не хочешь? Давай ко мне, старина. Давай морду. Что, тепло?.. Улыбаешься… – Я трогаю мокровато-бугристые брыли. Мну ладонью горячую морду. – Славно ведь вытянуться, а?.. Пьяные у тебя глаза. Коричневые и пьяные. Если тебе скажут, что ты не породный, не верь. Шерсть у тебя коротковата – это факт. Но глаза… Ты заглядывал себе в глаза?.. Вот у тех, что вырождаются, что слишком испорчены, – у них глаза рыжие со светлинкой. Поэтому не слушай знатоков. Знатоки всем поперек глотки. Ты пес что надо… Славно здесь, как славно!.. Да спи ты – это я сушнячка подбросил. Эка ты, брат, привереда. Что ж, мне и не пошевельнуться? Сейчас одежки просушим. Но куда ты разлапился – подпалишь шубу… Вот так, старина, а то ведь нет другой… Не любишь тушенку? Врешь… Вот отдохнешь, будешь хвостом крутить. Нет, старина, я не могу так натощак. Вот в банке чаек согреем. А тепло здесь, тепло… Славный у нас денек, старина. Все дни славные. Знаешь, это здорово слышать, как вот рыжие плясуны перепаливают хворост. И подкидывать его приятно. И небо вот там, за елями, голубое. Нам бы его подольше видеть. А как тебе облака? Большие, белые и совсем бесшумные. Задвигают небо, и много их, и тяжелые, а ни звука!.. А как ветерок треплет траву. Все поля обомнет ветер. Ты зря воображаешь, будто один ты и знаешь толк во всех этих штуках… А как зыбь рвет облака и каждый предмет в зеркале воды четче самого острого взгляда – это ты берешь в счет? А какие метелки у трав? А молчать и все это видеть?.. Ну что ж ты прав, помолчим. Молчать ведь славно…
Лежать на горбато-перекривленных досках неудобно, но та особенная тяжесть тела, когда даже пошевелить рукой невмоготу, делает блаженным миг, когда я вытягиваюсь, наконец, во весь рост. Сено, толсто постланное, опав, сразу дает почувствовать всю твердость пола…
По рассказам, в избе с этим вот сеновалом жил бравый артиллерийский унтер, который из самого Могилева привез весть о дележе господской земли, но в Петрограде еще сидел Керенский, а в волости, уезде и губернии новая власть держалась старых порядков, хотя тоже говорилось много новых слов. И этот унтер стал потом председателем колхоза. В сорок пятом году он раньше других вернулся по демобилизации. А через восемь месяцев этот человек, который не имел ни одного ранения – счастливец, по общему мнению, умер…
Я пил чай из самовара, принадлежащего семейству бравого унтера. На последней войне он был в армейской разведке. А жена его – а так умеют любить по деревням и селам России-умерла за ним. И этот самовар достался сестре бравого солдата, ибо все в рассказах этой ветхой старушонки, прежде, должно быть, статной и сильной женщины, замыкалось на одном слове – солдат. И я впервые понял тогда, что такое солдат для всей этой земли, которую по рождению привычно называю Россией. И на фотографиях, что иконно висели на стене, я разглядывал этого саженного в плечах усатого унтера, который из места царской ставки, с молебнов, от которых все казалось святым и праведным, принес в эту деревеньку крамолу неподчинения. И памятью этого унтера, его рослой улыбчивой жены, впрягавшейся вместе с другими бабами в плуг, чтобы взрастить хлеб и отдать его разоренной и выжженной стране, памятью о трех сыновьях, убитых один за другим в августе сорок первого года, остались лишь фотография и самовар – этот двухведерный великан-самовар, на совесть надраенный и, однако же, тронутый зеленцой по вязи кокетливых ручек. И еще можно прочитать надпись под двуглавым орлом. И жар от его меди доходил до всех уголков избы. Старушка рассказывала, как кроваво кашлял ее брат. И как врач сказал ей по секрету, что от этой болезни нет лечения и требовал лечь в больницу. А брат, потея даже в студеные дни, говорил, что больницей тут не поможешь. А уж, даст бог, родной воздух и выходит. И рассказывал, как в мартовский лед на реке долго выгребал на чужую сторону. И потом, на этой чужой стороне, обмерзая льдом, вылеживал «языка». И как потом тащил его через воду назад. А чтоб не умереть от холода, пил водку сам и давал ее «языку». И как снова и снова ходил уже за другие реки, озера, болота, потому что никто не мог надежнее его выкрасть «языка». Болезнь за восемь месяцев мирной жизни превратила его в скелет…
И теперь этот ничейный сарай был латан лишь ночью. Крыша прохудилась и сквозь кровлю и рвань обветшалой дранки я вижу небо. Я выключаю фонарик, и тишина поначалу кажется лохматой и навалистой. Сарай, небо, мои руки, высвобожденные из-под плаща, – неразличимы.
Я лежу долго, и звезды выступают за крышей. Погодя я уже угадываю в их немощном отблеске балки, стены, жерди, гирлянды веников.
Я лежу и смотрю на небо, глубокое своей вымороженностью.
В чердачном оконце появляется пара зеленоватых глаз. Это сова. На сеновале она, наверное, промышляет мышами, а теперь я здесь для нее непонятен и ненужен. Эта пара глаз всякий раз появляется так бесшумно, что пес ни разу не уловил взмахов крыльев. Круглы и неподвижны глаза совы. Она представляется бесплотной, до того осторожна и беззвучно терпелива ее засидка в оконце. Она порождение ночи и бесшумна, как ночь…
Едка и щекотлива труха. И под острой крышей развесисты паутины. Днем, в затхлости зноя, их стерегут проворные пауки с белыми брюшками…
Неподвижны и пытливы глаза совы. Она слышит мое дыхание, сопенье пса. Но чердак писклив и суетлив мышами. Я нарочно прокашливаюсь, и чернота смывает огоньки глаз.
Мыши буравят труху. И в перебранках их писк пронзителен и тороплив. Мыши пробуют достать мешок. Срываясь, падают у меня в ногах. И тотчас возобновляется возня и брань. Мешок подвешен высоко и нет в нем ничего, кроме… запахов. Все спрятано от мышей в жесть коробок. И все эти коробки совсем в другой стороне сарая.
Я поворачиваюсь, неправдоподобно громко катится пластмассовый стаканчик. В сарае становится очень тихо. Впрочем, возня зверьков часа через полтора стихает сама по себе…
На сквозняке поскребывают листья веников. Щели кровли опаляют хвосты звезд. И звезды, если лежать смирно и держать их в этих щелях, все очень разные. Здесь и белые, и синевато-белые, и налитые багровым холодом, и каждая дышит. Я вижу эти переливы множества звезд. Звезды вкраплены раздельно и въедливо.
Пыль после моего укладывания поудобнее оседает, и воздух опять студенно промыт. Слабеют запахи сена, неошкуренных перекрытий и веников, бог весть когда развешанных и обросших пылью. Днем я тронул один из них. Пыль густо ударила терпкой сушью дубовых листьев…
Поначалу я дрожу и тщательно подтыкаю под себя плащ. Затем согреваюсь и лежу неподвижно, сберегая тепло. Я измучен, но спать не могу.
Это распятие ночи, немота и даже не эта немота, а какая-то значительность покоя, в котором осознаешь силу, независимость силы, верность силы, величие и несокрушимость созидания заставляет меня цепенеть и испытывать наплывы счастья. И я уже по-мальчишески глуп надеждой в то, что мир – мой! Он для меня! И я его никогда не потеряю! Я бесконечен и бессмертен!
Я придремываю, и в забытьи звезды не гаснут у меня в памяти. Ночь в блестках бесконечных звезд блуждает в сознании с пустотами забытья, обрывками видений. Наконец, бред усталости смывает полная нечувствительность сна.
Я просыпаюсь. Я вижу угольно-черное небо и новые звезды. Сон сдвинул небо, и уже новые россыпи проглядывают за щелями. И колодезной тишиной скован лес за дорогой и поля по другую сторону дороги. Кора отшелушилась с перекрытий, и смутно бела гладь окостеневшего дерева. Задыхаясь, мускулясь, напирает на меня лапами пес.
Я засыпаю, и во сне огненные миры звезд продолжают странствовать в моем сознании. Покоем, завороженностью дышит эта ночь. Звезды осыпают небо от горизонта до горизонта.
В щели течет северный ветер. И отчужденность забытья не отнимает у меня ощущение этого неба, звезд и благодатности покоя. Воздух морозен и вязок. Вязок леденящей студеностью озер, лесов и высоких звезд. Я не теряю ощущения неба. И родства с покоем. Я омыт этим воздухом. Я плыву в чистоте и тяжести этого ровного потока. Воздух невесом, воздух беспечен и доступен, а этот… этот студено осязаем и вязок. И я весь уже опален ледяным зноем звезд…
Пес, ища тепла, наваливается. Бок его жарок и беспокоен дыханием. Я подтыкаю плащ. Пес вскакивает, вертится волчком и, рухнув, вжимается в меня так плотно, что оказывается под плащом. И я, погружаясь в новый сон, слышу торопливость дыхания пса, его тугой бок и бугристость досок.
Мороз обозначает звезды, и они, крупные, яркие, застревают в щелях. И, приходя в себя, я смотрю на них. И мне кажется, я заглядываю в чистое лицо жизни…
А к утру звезды меркнут, хотя ночь еще в силе. Едва уловимая синь – еще почти непроглядная – чернит в расплывчатой зыбкости воздуха провалисто-неопределенную падь за чердачным настилом, за которой избяной сруб. Изба догнивает, и пол в ней в осколках кирпича, а единственная целая стена печи в трещинах и еще марка побелкой. А на стенах трепаные репродукции из «Огонька» и дорожный плакат «Будь внимательным! Переходи улицу в строго указанных местах!».
Я заглядываю на часы, чтобы не ошибиться с охотой и начать поиск тогда, когда трава еще не подсохла и памятлива на следы. И наброды выводков пахучи, а синь еще стережет птицу. И они еще не боятся мест, открытых соколу, лисе или соболю. И настоенно долга эта синь…
Жаркое дыхание утробы вдруг обдает меня. Пес мажет меня горячим языком и взлаивает. И тогда я угадываю очертания брылястой морды и лоскутно-безвольных ушей. Я посмеиваюсь этой неуклюжей лести, потому что оба мы уже там, на дымчато-сонных болотах и овсяниках.
Привычно наугад собираю снаряжение. Пес гремит по настилу лапами. И этот грохот бестолков и нетерпелив. На ощупь спускаюсь по лестнице. Иду по сенцам к двери. И переступив порог – порог этот высок врубленным бокастым бревном, – внезапно теряю себя. Эта ночь, уже заметно разжиженная синью, так морозно свежа, так одиноко просторна и глубока рассветом!
А пес, фыркая, опять познает все новое, что принесла ночь. И уже невозможно отвлечь его. И когда, наконец, набрав шаг, начинаю трезво взвешивать шансы охоты, все равно поражаюсь ночи, вкрадчивой силе утра, уверенности тишины, слабости всех старых и новых звезд, движению этих звезд. И в бледной путанице звезд привычно узнаю Марс, ковш Большой Медведицы.
И уже тишина и мгла принимают меня. И память начинает метить этот мир своими словами. И эти слова. – пустые символы понятий – сочны и преданы чувствам. И, щелкнув, стволы принимают первые патроны…
Поречьев позвонил мне утром. После турне по Франции и Финляндии он отказался работать со мной. С тех пор я тренировался самостоятельно.
Мы встретимся в кафе – на открытой террасе последнего этажа гостиницы «Москва». С того дня, когда он сказал, что уходит работать в другой клуб, мы не виделись. Я не сомневаюсь, что он избегал меня.
Я приехал раньше и жду в коридоре, как условились.
Поречьев выходит из лифта и подает мне руку, будто мы расстались вчера. Он смотрит снизу, широкоплечий, сутуловатый, в глазах все то же наигранное веселье, так хорошо знакомое мне.
Я вдруг чувствую, как у меня перехватывает дыхание. Я испытываю нежность к этому человеку. Мне хочется сказать ему что-то доброе и очень родное.
Поречьев шутливо ощупывает мои руки, плечи, и мне вдруг кажется, что мы за кулисами спортивного зала и меня сейчас вызовут на помост. Его пальцы перебирают крепления мышц, узлы травм и перетренированных мышц.
– Недурны, – говорит Поречьев. – А «дельту» когда потянул? – Он надавливает на поясок дельтовидной мышцы. Полтора года назад я скверно разогрелся к тренировке и повредил передний пучок дельтовидной мышцы. Поречьев не ждет ответа.
– «Трапеции» тоже «закачены», – говорит он. – Злоупотребляешь жимами из-за головы. Смотри, потеряешь срыв с груди. Как съездил в Париж, светлейший?
– Всего несколько дней. Да, я видел Торнтона! Он работает на Рэнделла. Я был, когда у него брали интервью.
– Что теперь Торнтон? После Праги тебя иначе и не называют, как чемпион чемпионов.
На террасе нас окружают шум города, огни и сырой тяжелый воздух. Прошел дождь. Каменный пол темнеет влагой, но под зонтом за столом сухо. Огни города ярки и чисты. Автомобили густым потоком изливаются вокруг здания гостиницы. За площадью я вижу приплюснутую коробку Манежа, корпуса Библиотеки имени Ленина, а слева – фонари в Александровском парке, стены и башни Кремля. Звезды башен скрывает низкий дождевой туман. У Кутафьей башни чернеет толпа. Очевидно, в Кремлевском театре сегодня спектакль.
– Не собираешься жениться?-спрашивает Поречьев.
– Нет.
– Самый сильный холостяк верен себе.
Поглядываю на Поречьева. Жду, когда заговорит о том, ради чего пригласил. Он в новом костюме, галстук зажимает массивная янтарная брошь – мой подарок после чемпионата мира в Чикаго. Тогда я выстоял в тяжелом поединке против Харкинса. Я знаю привычки Поречьева. Новые вещи, как и эту брошь, он обычно надевает лишь в исключительных случаях.
Официант принимает заказ. Поречьев просит бутылку сухого венгерского вина. Это тоже он позволяет себе в исключительных случаях.
Поречьев кивает на соседний стол:
– Шведы, туристы… А помнишь, как выступали в Стокгольме? Тогда ты был в большом порядке.
Южный ветер смахивает с зонтов теплые дождевые капли. Нынешняя осень необычайно долгая и мягкая. Окраины города завалены желтой листвой.
«А утрами небо ясное и голубое, – вспоминаю я. – И крыши, и окна, и мостовые отпотевают росой. А трава на газонах в косом утреннем освещении белая-белая…»
– Жарков тебя не оставляет в покое, – говорит Поречьев.
– Такой номер, какой он проделал с Сашкой Каменевым, со мной не выйдет. Пока я сильнее других, не уступлю свое место в сборной. Пусть выигрывают на помосте.








