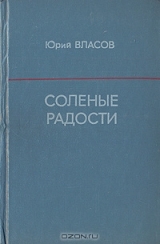
Текст книги "Соленые радости"
Автор книги: Юрий Власов
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Черным густым потоком льется толпа. Сверкают витрины. Размалывает воздух рев под светофором. Я набрасываю куртку и возвращаюсь к окну.
Что ждет меня?..
Да, сейчас я измучен, но все это нужно и все имеет свой смысл. Великий «экстрим» внушил мне отвращение к привычке все оценивать выгодами успеха. Как можно измерить плеск воды, доверчивость рук, смешение лунных теней – медленный танец расплывчатых теней. Для счастья нужно все и не нужно ничего.
Я рискнул потерять жизнь – и вырвался из мира символов, набора слов, пустоты…
Впервые для меня рекорд – не самодовольство плоти. И доблесть выхоженной силы привлекает меньше всего…
«Рекорды придуманы в насмешку, – размышляю я. – Каждый рекорд обязательно станет заурядным. Неужели позволю всей этой заурядности растоптать себя? Рекорд! Рекорды! Их и называю рекордами потому, что в них страх и почтение, признание своей слабости, оправдание слабости».
Подчинить себе риск. А сомнения? Из сомнений складывается решение. Без сомнений нет решения. Искать сомнения. Не уступать сомнениям. Чем безвыходнее положение, тем настоятельнее необходимость действовать. Ошибки в конце концов подводят к правильному решению, бездействие – никогда. Всегда бороться! За обыденным слышать веление судьбы, свершение судеб, исход и начало новых целей. Назначать судьбу, узнавать себя и свои цели. И всегда видеть свой шанс.
В холле выставлена копировальная машина. С утра в банкетном зале совещание сотрудников скандинавских филиалов концерна «Эриксонн». Со скукой слежу за этой публикой: чинное благообразие манер, почти уставная экипировка – белые воротнички, строгие галстуки, серые костюмы. Когда холл пустеет, Цорн воровато закладывает в копировальную машину страницу из журнала с изображением обнаженной девицы, программирует, но на выдачу копий аппарат не запускает. Теперь Цорн ждет, когда в машину заложат официальные документы. Цорн запрограммировал наибольшее число копий. Однако перерыв заканчивается, и никто не подходит к машине.
– Ничего, – говорит Цорн, – машина не дура. – Он достает из портфеля альбом репродукций:
– Издание венской фирмы «Файден». – Листает альбом, не спеша, со вкусом поясняя: – Взгляните на кофту, юбку, лицо: полная согласованность цветовых гамм… А этот поколенный портрет исполнен размашистой кистью. И композиционно организован – каждая деталь взвешена… Этот старец написан вдохновенно, без оглядок на традиции и школы. Тени не тяжелы и не черны. Я видел на выставке. Выдержан в серебристо-серой гамме. Изящен и отменного тонкого письма… А качество репродукции! Чувствуешь эту кладку – красочную, плотную, хотя и писан неровно… Кто следующий? Не встречал сего имени. Лик явно суховат, не в пример мундиру и орденам…
– Ты не в родстве с портретистом Цорном? – спрашиваю я.
– Моя тайна. – Цорн достает табакерку. Это другая, такую я не видел.
– Покажите, – просит Поречьев. Мы разглядываем табакерку.
– Перегородчатая эмаль, – рассказывает Цорн. – Табакерка принадлежала Жемчужникову – одному из соавторов Козьмы Пруткова. Жемчужников подарил ее моей бабушке Марии Павловне Ковалевой, а мама мне. Мама недолго училась в мастерской Репина. Замужество нарушило ее планы. Что за коллекция работ Репина была у Монсона! Мама восхищалась Репиным 1880 годов. Часто повторяла, что никто в мировой живописи не умел писать рук так, как Илья Ефимович. И еще удивлялась широте его мазка. Репин был далек от деликатностей французской школы. Но широким и точным мазком достигал в портретах живописных вершин… Здесь одна из репродукций. Не поверишь, что картина написана за один сеанс. А глаза? Знаю, если над зрачком поставить блик, это создаст эффект поворота взгляда. Портрет как бы станет следовать за вами взглядом. И технически это весьма несложно, однако не могу отделаться от чувства восхищения: одухотворенный холст! Повсюду встречаешь этот взгляд. Эта особенность поразила меня в портрете Лосевой работы Валентина Серова.
– Вы воевали? – спрашивает Поречьев. Цорн стучит табакеркой по протезу:
– Мелодичное свидетельство моих боевых заслуг. Я вдруг замечаю, как тщательно одет Поречьев.– На его лице сосредоточенность и тихая торжественность. Таким я вижу его первый раз. И тогда я вспоминаю ту запись в его тренировочной тетради…
– Что вы не финн, я убедился, – говорит Поречьев, – слишком много слов для финна…
Цорн ухмыляется. У него очень выразительные губы. Все его чувства в губах. Теперь говорит Поречьев, а Цорн слушает. И лицо его постепенно становится неподвижным и холодным. Оно застывает в гримасе вежливости.
Что будет на помосте? Вот за этой чертой на циферблате– Моя судьба. Что ж будет? Когда Хубер решил, что нет надежды?
Воля смотрит на меня своими холодными пустыми глазами.
– Мы нарушили свое же правило: не пробовать большие веса при объемной тренировке, – говорю я. – Что взять тогда от мышц, какую скорость и точность? Вспомните декабрь, январь. Я стал бояться даже обычных весов. А как быть? Выводить себя из работы для отдыха? Но смысл всей тренировки в непрерывности. Это из самой природы силы. Тогда как быть? А выход есть. Наш старый прием: пробовать веса в классических упражнениях только после периода сброса нагрузок. А мы? В этом причина неудач в Париже, Лионе, Тампере, Оулу! В любом случае я готов к рекорду! Даже с зачумленной экстремальными тренировками силой я мог зацепить рекорд. Какую силу я уже наработал! Что для нее этот паршивый рекорд? Но в том-то и дело, что я боюсь его. Всю зиму я пробовал веса в темповых упражнениях огрубелой силой. Силой, лишенной слуха, чуткости, свежести. Когда нарабатываешь большую новую силу, забудь о точности, координации, скорости. Не смей тогда и думать о темповых упражнениях…
– Почему ты должен уйти в тридцать восемь или в в сорок два года? – вдруг спрашивает Поречьев. – Твоя сила исключает традиции. Но если так будешь относиться к себе, тебя действительно не хватит. Откажись от опытов. Не изнашивай силу!
Номер благоухает дарами Аальтонена: апельсины, бананы, яблоки и даже гроздь винограда. Тут же на столе в красном футляре золоченая фигурка штангиста – почетный знак финской федерации тяжелой атлетики. Полчаса назад мне вручил его господин Яурило. Он был верен себе: любезен, шутлив.
– Оставь эксперименты – и еще десяток лет будешь хозяином помоста, – продолжает Поречьев. – «Пики», «горбы» – как их там назвать еще?.. Они кого угодно сделают горбатым.
– Сверхнагрузки вообще не очень полезны. Но результаты? Как быть с результатами большого спорта? Как к ним подбираться?
– Не валяй дурака! Надо, я сам настаиваю на больших нагрузках. Но то, чем мы занимались, – это ошибка. Торнтон, Харкинс, Земсков!.. Ты за год одолеваешь расстояние, на которое они вместе потратили десятилетие. Они сменяли друг друга, а ты пробиваешься один. Что молчишь?
– Разве? А мне кажется, я болтлив.
– За утро и сотни слов не сказал.
– Вам привет от Размятина.
– А-а, Андрей.
– Письмо завалялось. Только вчера прочел.
– Звонил Кемппайнен. Пожелал удачи.
– Где Цорн?
– В холле. Не хочет тебя беспокоить. Там переполох из-за копировальной машины. Заложили таблицы, а она начала выдавать копии журнальной фотографии какой-то натурщицы. Срам!
Усталость вдавливает в кресло. Возвращение «экстрима» неожиданно и беспощадно. Опять остро чувствую, как разбит усталостью.
«Сколько еще терпеть? – шепчу я. – Когда иссякнет любопытство людей? Какое к черту лечение? Эта публика в залах не прощает, подсчитывает и взвешивает любую неудачу, любой успех. Их доброта…»
Бреду по комнате. Меня знобит. Я полагал, с бредом покончено, но, оказывается, у него долгие счеты.
И тогда я заставляю себя думать о соревнованиях. Я не должен этого делать. Еще рано запускать механизм возбуждения, но я обращаюсь к чувствам, которые сильнее «экстрима». Не думаю ни о чем, кроме рекордных попыток. Это напряжение мышц, это последовательность включения мышц, удары несостыкованных переходов – я знаю, где они могут быть.
Сегодня я должен опрокинуть старое правило. На усталых мышцах я должен сработать точно и в оптимальном режиме. Мышцы должны сыграть свою партию. Заставлю их быть расслабленными и чуткими…
Я улыбаюсь. Нет, в этот раз рекорду не будет прощения.
Цорн потягивает пиво с барменом. Кресла сдвинуты к стене. Уборщица щеткой натирает пол.
Цорн составил для меня выписки из английских, финских и немецких газет.
«Беги, сообщай: русский засыпался! Штанга не ракета, сама не поднимется!»-это из спортивного обзора Джорджа Бэнсона.
Бэнсон мой давнишний знакомый. Мы с ним «на ты». Он всегда располагал к себе: веселый, готовый к шутке, щедрый на похвалы. Я помогал ему брать интервью у лучших атлетов. Достаточно было назвать Джорджа своим приятелем…
«Последние месяцы господства русского», – заключительные слова обзора Бэнсона.
Пробегаю взглядом выписки. Будто сговорились: «Золотая медаль чемпиона мира ждет нового хозяина», «Мэгсон заявил: «золотая и серебряная медали будут у моих ребят!», «Крах русского чемпиона», «Новая эра в тяжелой атлетике»…
Итак, возраст, неудачи турне, «плохая техника»– значит, я износился. Деловой подход!
Кто знает, что я вынужден выступать с перегруженными мышцами и это неизбежно сказывается на «технике» и особенно на скорости? Терять пять-шесть недель и выводить себя из нагрузки к любому выступлению я считаю неразумным. Я не смогу тогда набирать расчетную силу. Даже после месячного отдыха я два-три месяца лишь наверстываю упущенное, а к чемпионатам всегда надо выходить на новую силу, надо успевать накапливать эту силу. А из экстремальных нагрузок и за месяцы не выйдешь.
Не принимаю ни одного упрека!
Силу определяет способность организма переносить оптимальную нагрузку в определенный промежуток времени. При относительно равных возможностях побеждает тот, кто за годы тренировок перерабатывает наибольшее количество тонн при определенной интенсивности. Искусство тренировки в том, чтобы существенно уплотнить рабочий цикл. Тренироваться – значит выигрывать время. Время решает судьбу силы.
Цорн, пришаркивая ногой, опускается в кресло.
Подходит Поречьев, нервно поглядывает на часы.
– Я буду зрителем, – говорит Цорн. – Обыкновенным крикливым болельщиком.
– Не удастся, – говорит Поречьев. – Мальмрут не помощник. – Поречьев объясняет роль каждого на соревновании.
«Когда снижать объемные тренировки и «садиться» на классические упражнения? -раздумываю я. Совмещать такие элементы невозможно – это факт. Кроме того, циклы «объемно-пиковых» тренировок следует чередовать с периодами пониженной активности, а не эпизодическими тренировками-отдыхами. Периоды между «пиками» мы определили, но необходимо найти периоды работы на восстановление. Успех борьбы за новые результаты определяет нервный потенциал. Об этом мы ничего не знали. Следовательно, ничего не знаем о характере и продолжительности этой новой необходимой части цикла. Итак, снова поиск! И я обязательно буду опробывать новые пути, которые потом станут надежными и короткими. Но самые короткие достанутся другим…»
– Пора, – говорит Поречьев, – через тридцать минут соберемся у Сергея.
В последний раз я бросаю взгляд на перевод репортажа Бэнсона: «…сто тридцать килограммов мускулов безуспешно обрушивались на рекордную тяжесть штанги…»
– Ну и занятьице вы себе сыскали, – говорит Цорн. – Даже хлебнуть для храбрости нельзя. И вообще все нельзя!.. Я зайду к Эльзе Гравэлэ. Она в 571-м номере. Может быть, Гуго у нее…
Конкуренция с каждым годом жестче. Результаты взвинчиваются. Все реже и реже я могу себе позволить спады в нагрузках. При налаженной «технике» сила решает исход борьбы. Для приобретения силы нужны годы, и этот процесс бесконечен. Технику же упражнений можно за год-полтора отшлифовать до совершенства, то есть сила несравненно более консервативный элемент. Так смею ли я разбазаривать время на зубрежку «техники», если она давно поставлена? Я теряю незначительно в качестве исполнения элементов, но непрерывно выигрываю в силе.
Я должен быть растренирован в период, когда работаю на силу. Это самый главный, черновой этап тренировки. Он исключает тренировку классических упражнений. Поначалу это выглядело устрашающе: я по нескольку месяцев не пробовал рывок и толчок. Потом привык. И были циклы, когда я по семь-девять месяцев не работал в темповых упражнениях! Я отметил нечто разительное: «техника» выиграла от этого. Я работал свежо и четко – во всю мощь нерастраченных координационных возможностей. Это была находка! И она тоже давала ощутимый выигрыш во времени!
К тому же к большим соревнованиям я тренируюсь по специальному графику. Мышцы должны отдать новую силу. Я освобождаюсь от усталости, и сила обретает скорость, точность.
Первые годы в спорте я мучительно прибавлял в силе. Я не мог себе позволить отказаться от канонических взглядов на тренировку. А затем сломал все! Свел количество выступлений в году к минимуму, чтобы не отвлекаться от силовой работы. Выступления с перегруженными мышцами противоречат простейшей логике. Ведь все тренировки вообще – это подведение мышц и организма именно к соревнованиям. Кроме того, в усталых мышцах даже обычные веса утяжеляются. В усталых мускулах помимо воли откладывается страх перед большими весами. Усталые мышцы плохо отзываются даже на обычные веса. На заурядных соревнованиях следует работать на средних весах, хотя все требуют и ждут рекорды. Но и тогда нужно уметь не пустить ощущения усталых мышц в память, не дать стать им памятью. Усталые мышцы ищут своего способа выполнения упражнений. Стиль усталых мышц калечит «технику», приучает к ложным приемам. Надо уметь гнать штангу по вызубренным траекториям, не доверяя ощущениям, не слушая усталую силу.
Жаль потерянные годы. Я слишком поздно понял, что общее во взглядах, это не обязательно верное…
Я складываю вещи. Всё! Теперь уже всё! Иссякли все часы игры в слова.
Должен! Должен! Должен!.. Кто выдумал и нашел эти слова? Подменил жизнь формулами, естественность – надменностью целей…
Эх, будь здесь Сашка Каменев, все было бы по-другому. Сколько часов коротал с ним перед выступлениями! Вообще с Сашкой невозможно быть серьезным.
Я не надеваю, как обычно, спортивный костюм. Я в накрахмаленной рубашке, синем галстуке и новых тесноватых туфлях. Для меня во всем этом свой смысл.
– Возьми победу, – говорит Цорн. – Присвой удачу! – Он наливает в стакан водку и бормочет, пародируя молитву:– Прими, господи, не за пьянство, а за лекарство. Не пьем, господи, а лечимся. Не через день, а каждый день. Не по чайной ложке, а стаканом. Разольется влага чревоугодная по всей периферии телесной. Аминь!
– Присядем, – говорит тренер. Он исподлобья смотрит на меня.
«Будет ли мне еще досаждать «экстрим»? – думаю я. – С меня довольно! Не для того я вынес столько! Сейчас я проверю все эти бредни!»
– Толь рассказывает, что Альварадо принимал до двенадцати таблеток мэгсонского препарата «зэт» в день, – говорит Поречьев. – Это при норме больным – таблетка в сутки в течение недели, один-два курса в год. Препарат был создан ведь лечить крайне ослабленных больных. Альварадо глотал по дюжине в день и круглый год! Они готовы жрать раскаленные угли, чтобы стать первыми! – Поречьев сжимает кулак. – Оказывается, определенная группа этих препаратов Мэгсона воздействует на организм только определенное время, конечно, при постоянном увеличении дозы. Сейчас Альварадо переключился на новый препарат, производный от «зэт». Этот препарат в секрете от всех. Так, Макс Вольдемарович?
– Да, Толь мне рассказывал. Альварадо сам делает себе инъекции. Что вводит, никто не знает, но этот препарат помог ему побить твой рекорд. Толь видел Альварадо и говорит, что он растет в силе, как «а дрожжах. У них, на Западе, все перешли на «химию». Залы похожи на аптеки. У каждого мешочек с различными препаратами.
– Докатились! – Поречьев грохает кулаком по столу.
– И еще, – продолжает Цорн. – Печень не справляется с подобной нагрузкой. Ее заставляют работать другими препаратами. Какими именно, Толь не сказал. Но якобы у Пирсона печень изрядно разрушена. И он живет на этих препаратах.
– Теперь понимаешь, как важен рекорд! – говорит Поречьев. – Мы доказываем возможность иных путей!
– Понимаю ли я? – Я смеюсь.
– Поймите, Макс Вольдемарович, – говорит Поречьев, – тренировка по методу экстремальных факторов предполагает существенный выигрыш во времени, ибо за то же время спортсмен может выполнять несравненно более полезную работу. Человеческий материал – я имею в виду спортсмена с определенными данными -во всех странах одинаков. И почти любого из таких ребят я могу сделать самым сильным. Для этого надо уметь выигрывать во времени. И настигать результаты первых. Этот метод был жесток лишь для первого. – Поречьев показывает пальцем на меня. – В схватке с неизвестным он отстаивал право на новые ритмы тренировок. Он научился прибавлять к неделям и месяцам много дней, которых нет в календаре.
Мое сердце срывается на стартовый ритм.
– Черт бы побрал этого Мальмрута! – Цорн смотрит на часы. – Условились: не опаздывать!
Поречьев смотрит на меня:
– Все идет, как и должно идти. Для нового – новые напряжения, неведомость новых напряжений. Семнадцать раз ты брал вес на грудь и поднимался – какую тебе еще силу нужно? Ты начинен ею. Накроем рекорд. И потом еще много других! Пусть давятся своими препаратами! Верь себе! Ты готов! Ты в порядке! Ты заправишь вес, обязательно заправишь!
Глава V
В газетах печатали интервью и фотографии Кирка, Пирсона, Ложье, Альварадо, Зоммера. А мне было безразлично, кто выступает. Здесь, на девятом чемпионате мира, для меня имел значение результат. Только результат.
Исход борьбы был предрешен тренировками. Я знал цифры, из которых складывалась победа. И месяц за месяцем добывал на тренировках силу. Меня совершенно не интересовали ни отношение публики, ни судьи, ни мои соперники, ни даже собственное состояние. Я знал, какие килограммы должен взять и что для этого нужно. Я знал чувства, которые обнажают силу, и не давал им воли. Я знал, когда и как их пускать в дело.
И ожидание не тяготило. Каждое движение было выверено, каждое слово знакомо. Я знал, моя сила определена расчетом и я вне конкуренции, если верно подведу себя к выступлению.
Я знал, что сила будет самой большой в день и час моего выступления. В точности этих выводов я уже убедился. Я скрупулезно следовал тому, что обеспечивает концентрацию силы к назначенному сроку.
Иногда все подавленные чувства внезапно оживали. Я вдруг чувствовал, как безумно легки мои шаги, как отжаты от усталостей, чисты и послушны мышцы, как заманчивы каждый звук и краска этого мира. Все сбрасывало свой привычный смысл. Я начинал слышать.
Я заводил знакомства с большими деревьями, с домами, которые врезались в синь неба, с площадями и улицами, вытоптанными поколениями людей.
Я волновался, когда ловил взгляд женщины, я бредил ласковостью слов.
И утром, еще не проснувшись, я вдруг начинал слышать эту музыку чувств. И когда я вставал, я видел голубоватое небо в плесах белых облаков. Я видел лучи в кронах, шевеление листьев, матово-глянцевую поверхность листьев и прерывистую игру света. Этот свет кропил листву крохотными белыми огнями. И я слышал, как тяжелы мои руки. Я был выложен упругостью мышц.
Этот рассвет, движение теней и одиночество улиц сливались с той музыкой чувств.
Воздух был пахуч солнечным теплом.
И в парке по дороге на тренировку я входил в прохладу неподвижных деревьев, в трепет высоких деревьев, в стройное течение листвы.
Травы обесцвечивало нестерпимо яркое солнце.
Солнце дробило парк на полуденную куцесть теней. Деревья млели зноем. Жар налегал на тучные кроны. Ветер приносил душную пахучесть трав, автомобильных газов и камня.
Я не смел быть этими чувствами. Я оберегал силу, вынашивал силу. Вся энергия чувств назначалась мышцам. Я знал свои мышцы. Если бы даже они оказались не вполне готовыми, я сумел бы их поставить в режим высшей отдачи силы.
Ярость грядущей борьбы подчинялась расчетливости. Все вдохновения замыкались на формулах.
Это лето осталось в памяти, как лето высоких деревьев и солнечных запахов…
Табачный дым слоится над залом. Похоже, в этот раз не будет свободных мест. Газетами обещан спектакль. Конечно, Альварадо подыграл своим рекордом.
Расхаживают продавцы мороженого, конфет, кока-колы. Трансляторы наигрывают свинги. Если не ошибаюсь, это записи оркестра Гендерсона. Киношники с лампами, штативами, кинокамерами, шлангами возятся прямо под рампой – взъерошенные, в разноцветных модных одеждах, не угадать, кто мужчина, кто женщина.
В первом ряду замечаю белую нить пробора Аальтонена. Вижу испитое лицо бывшего борца. Вспоминаю имя-Иоахим. Цорн прозвал его «ресторанным борцом»… Вот так новость: Осборн! Из Парижа махнул на мое последнее выступление! Вот чудак. Наверное, только прилетел. Даже среди дружно белоголовых финнов голова Осборна выделяется своим соломенным цветом.
Я на сцене за каким-то размалеванным щитом. Обычно меня не интересует зал. Но сейчас я с каким-то болезненным любопытством впитываю его подробности.
Рядом с Осборном легковес из финской сборной. На плечах Осборна замшевая куртка. Воротник полосатой рубахи расстегнут. Эти рубашки Поречьев называет «нефтяной кризис», так как они вошли в моду во время нефтяного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Ловлю себя на том, что улыбаюсь Морису. Черт побери, мы же работали не один год вместе! Приятно видеть своего. Я бы сделал из него чемпиона. В первом тяжелом он «задушил» бы канадца Дейва Аллена и нашего Геннадия Щелканова. Я вижу, чего недостает Осборну. Но это не поправишь словами – надо вместе тренироваться.
Я испытываю одновременно и тревожную напряженность и спокойную уверенность. Привычная обстановка чемпионатов вызывает уверенность. Во всяком случае здесь я знаю, что делать. И, наконец, наступило время действовать. Теперь все зависит от меня.
Проход из зала на сцену перекрыт полицейскими. За центральным пультом Уго Бреннер – это совсем неплохо. Бреннер не станет куражиться, команду даст точно. Я знаю, Бреннер не из тех, кто сводит счеты. Бреннер пробует сигнализацию. Вспыхивают белые, красные лампы. Вид у Бреннера не из лучших. Видно, вчера закончил званый ужин в другом месте.
Джозеф Бэкстон за столом почетных гостей. Значит, Бреннер отстоял свое право. Впрочем, черт их там разберет…
И тогда я догадываюсь, зачем здесь Бэкстон. Это гончий пес Мэгсона. Они хотят убедиться, что я выхожу из игры, что мне крышка: я стар для «железной игры».
Музыка наступает четкостью ритмов. Слышу соло «шагающего» фортепиано. И музыка, и я, и сласти на лотках – все к услугам публики. Не могу оторваться от зрелища. Стараюсь понять людей.
Мы стоим за кулисами. Здесь, в коридоре, холодновато. Костюм придется сбрасывать на сцене. Надо беречь тепло. Цорн что-то объясняет Мальмруту. Здесь на спортивном спектакле салонно-галантные жесты Мальмрута и его старомодное пенсне на черном шнурке производят более чем странное впечатление. Так и хочется вернуть его в кадры какой-нибудь старой киноленты.
– Да сними ты свою овечью привязь, – дергает меня за галстук Поречьев. – Пойдем переоденешься. Пора…
– Закажите черный кофе, – говорю я. – И в кофе ложку коньяку.
– Мы же не дома, – Поречьев пожимает плечами. – Где возьму коньяк?..
– Будет коньяк, – Цорн усмехается.
– Только никому ни слова. Скажите, для тренера. – Поречьева не узнать. Говорит грубо, отрывисто.
– В соревнованиях я ничего не принимаю, – объясняю я. – Но после нашего турне кофе с коньяком не помешает. Я обычно возбуждаюсь сверх меры, и мне нужны скорее успокаивающие средства, хотя и без этого тоже обхожусь. Но сегодня…
– Да, сумасшедшие были деньки, – перебивает Поречьев.
– А-а, Гуго! – Цорн подталкивает к нам Хенриксона. – Как же тебя пропустили?
– Как видишь, – Хенриксон пожимает нам руки.
– Где ты был? – спрашивает Цорн.
– Сейчас уходит поезд, – говорит Хенриксон. – Я приехал проститься. – Хенриксон в толстом черном свитере, на руке куртка.
Собирается толпа. Какие-то люди фотографируют меня, оттирают Поречьева, задают на ломаном русском вопросы.
– Знаешь, Максим, – говорю я, – в раздевалку и на разминку в зал никого не пускай. Будь то болельщики самых солидных репутаций.
– Они у меня пройдут, – с угрозой бормочет Поречьев. – Попробуют только…
Я пожимаю руку Хенриксону. Мне некогда спросить, куда он уезжает. И сейчас мне это не интересно. Все теряет для меня смысл, кроме «железа». Пытаюсь представить ощущения разминки. Мне только снять первые веса, и я буду знать, что меня ждет.
Идем в раздевалку. Ян и Эвген уже в трико – вижу их в небольшом зале, наспех оборудованном под разминочный. Выкрикиваем друг другу приветствия. У Яна незнакомый лающий голос. Он уже завелся. Младший из братьев определенно грешит допингами. У него расширенные безумные глаза. Он идет к штанге. Я останавливаюсь. Ян приседает над грифом, съеживается. Он слишком отпускает гриф: удержать невозможно. Он швыряет штангу. Я вижу мокрое бескровное лицо.
Эвген подходит. Говорит что-то мне. Цорн переводит: «Под такую музыку выпивать, а не драконить «железо».
– Мировой парень, – добавляет Цорн по-русски.
Я показываю Цорну угол, который мы займем. Толь здоровается с нами. Поречьев наметанным взглядом оценивает шансы братьев.
– Три кресла, кофе и полная изоляция от всех, – говорю я.
– Это уж мое дело, – говорит Поречьев. Румянец проступает на его плосковатых щеках. – Твое дело работать.
Ян окликает Нильсена. Эвген ухмыляется нам. Он всегда работает расчетливо. Ян валится на стул. Тренер финской сборной Урхо Нильсен растирает ему плечи.
Иду и за спиной опять слышу вопль Яна и удар штанги…
Вот она какая раздевалка в этот раз! Кафельный пол, черная кушетка, четыре стула, вешалка, овальное зеркало на двери. Ежусь, ищу место.
Вспыхивают блицы. Я выкладываю вещи на стул. Цорн ввязывается в перепалку. В комнате выкрики, смех, топот. Мальмрут растерянно жмется ко мне, что-то спрашивает; делаю вид, что не слышу, бинтую кисти. В комнате сыро и холодно. Почему-то думаю о больнице.
Перепалка развлекает Цорна. Он фокусничает словами. Блицы ослепляют меня. Я слышу вопросы на русском языке. Меня хлопают по спине. Ловлю ехидные взгляды. Конечно, мой рекорд у Гарри Альварадо. Теперь я почти «экс»…
Поречьев возвращается с полицейскими. Он чертыхается и клянет всю прессу вообще. Через минуту мы остаемся одни.
Полоска ровного бесцветного неба за окном.
Стараюсь не смотреть на это небо. Когда вижу его, хочется все бросить и уйти. Впрочем, это всегда так. Всегда зол на свою судьбу перед поединком. Пока не трону штангу…
Раздеваюсь догола и начинаю медленно одеваться. Сначала бандаж. Он плотно и широко стягивает живот. Надеваю белую рубашку-полурукавку. Рубашка не совсем вяжется с трико, но под маленькими рукавами плечам все же тепло. Надеваю плавки. Меняю нейлоновые носки на шерстяные. Шнурую ботинки…
Слежу за собой. Отмечаю, что я спокоен. Ни разу в турне не выступал в своей манере. Даже вид зала и штанга вызывали потрясение… Сейчас спокоен. Правда, сердце берет разгон. Слышу его. Отчетливо слышу. Теперь главное – не пустить чужие мысли. Для поединков у меня свои слова и чувства. Главное – войти в их строй и ритм. Искал эти команды. Годами приучал себя к ним. Научился быть такой командой. Без них я беспомощен. Самое важное сейчас – войти в них, слиться с ними и слышать их, только их!
В руках у Цорна пол-литровый термос.
– А эта девица – тоже репортер? – говорит Поречьев.
– Спросили бы ее, – Цорн улыбается. Поречьев пробует кофе:
– Губы сочные. Вопросы лепит – меня аж в жар!.. На, – он подает мне стакан. – По глотку растяни минут на десять.
Черноватая жижа с коньячным -запахом обжигает губы. Ставлю стакан на подоконник.
– Нет, не снимай. – Поречьев под рубахой натирает мне спину и плечи растиркой.
Эта растирка не греет, пока не вспотеешь. Я предпочитаю тепло этой растирки. Греет ровно, глубоко.
По расчетам журналистов и знатоков, я уже должен износить силу и уйти из спорта. После моих неудач в этом уже не сомневаются. Растирка, всасываясь, покалывает. Тороплю Поречьева, а сам раздумываю о том, что залы и без меня будут полны, и будут чемпионы, и будут рекорды. Я вижу сразу все залы. Залы моих побед. И я тоскую, что когда-то останусь без спорта. Без всей этой жизни… Потом размышляю о том, как в памяти стираются победы. Никогда память не сохранит яркость побед…
– Заправим вес! – говорит Поречьев. – Брось «мандраж»! Будь атлетом!
Под разминочный зал приспособлена артистическая уборная. Разглядываю стойльца-перегородки с откидными гримировочными столиками и зеркалами по стенам. Торчат выдвижные металлические лампы. Застарелые запахи табака, пудры, духов перебивает едкий запах спортивных растирок. Посреди зала помост и тумба с магнезией. Пол уже затоптан магнезией.
Ян в «седе». Хрипит. Лицо отекает кровью. Нильсен что-то выкрикивает. Ян встает. Отталкивает от себя штангу. Выпрямляется. Мотает головой. Шагает к стулу. Толь останавливает штангу, закатывает на центр помоста. Нильсен догоняет Яна, прихлопывает по ягодице. Они заканчивают разминку.
– Спасибо, Максим, – говорю я. – В зале никого лишнего. Чистая работа.
– В первый и последний раз мне симпатичен закон, – отвечает Цорн.
Полицейские с любопытством следят за нами. Без дозволения Цорна и Толя никто не смеет переступить порог. Коридор гудит голосами. Сколько лет выступаю за границей, в первый раз такой порядок. Репортеры вытворяют что угодно. Иногда мы просто запирались от них.
Ян запорошен магнезией, взлохмачен, неестественно бледен, мокр. Не говорит, а выкрикивает. Зря он вчера выпил. Успел бы. После ресторана, видно, где-то еще поддал. Обидно: все это из-за какой-то сволочи. Называют себя знатоками, кичатся своими положением, деньгами. Крутятся возле больших спортсменов, обворовывают силу ничтожеством своей дружбы. И сами ничем не рискуют…
– Браво, Максим! – говорю я. – В зале нет посторонних. Ты славный вышибала!
– Зачем так грубо?.. – Цорн ухмыляется. – Я в роли квестора полиции! Боги благие, этот противоестественный союз налицо!..
– Молодец, Цыпочка, – говорит Поречьев. – Лихо выставил красноносого.
– Цыпочка – это Толь, – объясняю я Цорну.
Зря Ян выпил. В Оулу рассказывал мне о своих тренировках. Восемь месяцев работает на рекорд. И вся эта сволочь отнимает силу, которая по-настоящему приходит редко. Так редко, что у некоторых бывает всего раз в жизни…
Я бинтую колени: боковые связки не в порядке, а бинты ограничивают подвижность. Подготавливаю суставы и мышцы гимнастическими упражнениями. Сдерживаю возбуждение. Работаю плавно, ритмично. Стараюсь внушить нужные ощущения. Заставлю верить в них. В высоких матовых стеклах роса отраженного света. В зале иллюминация. Напускаю на себя слова, внушаю слова…








